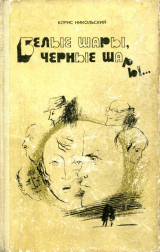
Текст книги "Белые шары, черные шары... Жду и надеюсь"
Автор книги: Борис Никольский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 29 страниц)
– Сколько лет, сколько зим! – сказала Таня Левандовская, ах, простите, не Левандовская – Таня Бычко. – Оказывается, можно прожить всю жизнь в одном городе и ни разу не встретиться. Ты не находишь, что это грустно? «Мы с тобой – как две планеты на орбитах параллельных…» – вдруг прочла она чуть нараспев. – Это ведь ты написал. Помнишь?
– Да неужели? – сказал Решетников. – То-то я смотрю: какие прекрасные стихи!
Конечно, он помнил эти строчки, и даже день, когда написал их, помнил отлично.
– Мы с тобой – как две планеты на орбитах параллельных… – задумчиво повторила Таня. – Странно, люди страдают от неразделенной любви, сходят с ума оттого, что она любит, а он нет, или наоборот, а мы, по-моему, с тобой мучились оттого, что оба любили друг друга, оттого, что все складывалось так гладко. Нам хотелось сложностей, страданий – смешно! И почему это, когда я вижу тебя, меня так и тянет говорить о том, что было?..
Опять она затевала эту милую и немножко грустную игру в воспоминания, но сегодня он уже не мог быть ей равным партнером в этой игре. Мысли его невольно обращались к Рите.
– Мы ведь книжные люди, Решетников. Толстой, Тургенев, Достоевский – вот кто нас воспитывал, кто учил жизни. А ведь там, в литературе, если хороший человек, да умный, да благородный, неординарный, он же непременно страдает. Да спросил бы ты любую девчонку из нашего класса – на кого бы она быть похожей хотела, чья судьба ее больше привлекает – Кити или Катюши Масловой? Да Катюши конечно же! А что уж там говорить об Анне Карениной или Настасье Филипповне! А такого нормального вот человеческого счастья – «они народили много детей и жили долго и счастливо» – в литературе-то ведь нет. И начинает казаться, что быть счастливым – стыдно. И сам себя мучаешь, и сложностей ищешь… Не дай бог, вдруг все просто будет… Ну да ладно, я отвлеклась, я это так, к слову… Я ведь не для того тебя позвала…
– Я догадываюсь, – сказал Решетников.
Они сидели в тесном издательском кабинете, где кроме Таниного стола у окна стоял еще один, за которым сейчас, к счастью, никого не было. За окном были видны приткнувшиеся одна к другой красные ребристые крыши, телевизионные антенны, суфлерские будки чердаков, трубы.
– Люблю смотреть на крыши, – сказала Таня. – Они действуют на меня успокаивающе. Как море. В них есть что-то притягивающее, завораживающее. – И засмеялась: – Чует мое сердце, меня скоро пересадят в другую комнату.
В первый момент, когда они встретились, когда он вошел сюда и увидел Таню, ему показалось, что она сильно изменилась: ее лицо похудело и было бледным, тонкие голубые жилки просвечивали у висков. Глаза ее были слегка подведены тушью и оттого казались удлиненными, миндалевидными. Она курила сигарету и, заметив удивленный взгляд Решетникова, махнула рукой:
– Не думай, это несерьезно. Попытки стать современной женщиной мне не удаются.
Новая, незнакомая Таня сидела перед ним.
А может быть, оттого она показалась ему чужой, что первый раз он видел Таню в этом кабинете, в рабочей, официальной обстановке: на столе перед ней лежали гранки какой-то статьи, справа возвышалась стопка рукописей, настольный перекидной календарь был испещрен торопливыми пометками.
Но прошло несколько минут, и Решетникову стало казаться, что она такая же, как прежде, что такой она была всегда, он узнавал ее прежние черты – и ее манеру внезапно задумываться и смотреть вдаль мимо собеседника, и ее манеру смеяться, как смеются только искренние люди, отдаваясь веселью целиком, самозабвенно, и ее когда-то казавшуюся ему особенно трогательной детскую привычку – в задумчивости утыкаться подбородком в ладошку и прижимать указательный палец к кончику носа…
– Ну как ты живешь, Таня? – спросил Решетников. – Как муж?
– Живу я хорошо. И муж у меня хороший. Ты даже не представляешь, какой он заботливый. Ты вот никогда не был таким заботливым. Ты мог исчезнуть, не позвонить, не прийти. А он мне каждый день два раза звонит на работу, справляется – как я. Ему говоришь: не звони, не надо, а он все равно беспокоится, звонит. Даже раздражает иногда, честное слово! А так все хорошо, все хорошо…
«Ты просто не любишь его», – подумал Решетников.
– А дитенка еще не завели? – спросил он.
– Нет, – сказала она. – Я из тех женщин, кто не умеет нянчиться с детьми.
– Ты предпочитаешь, чтобы нянчились с тобой? – смеясь, сказал Решетников.
– Может быть, может быть, – отозвалась она беззаботно, но то ли вина, то ли печаль вдруг промелькнула в ее глазах. – Мы опять отвлеклись. Учтите, сударь, я все-таки на работе. И без дела я не решилась бы потревожить вашу милость.
– Ах вон как! – сказал Решетников. – Ну тогда я слушаю.
– Я серьезно, Митя. Пока ты путешествовал, тут у нас родилась одна мысль – издать сборник, посвященный папе. Воспоминания, кое-что из его переписки, есть очень интересные письма, – в общем, материал, по-моему, наберется. Составлять этот сборник поручили мне. Вот я и хотела с тобой посоветоваться – кого еще мне привлечь. Я тут уже набросала списочек тех, кто хорошо знал папу, но, может быть, забыла кого-нибудь, пропустила, ты посмотри. И сам ты, наверно, напишешь, правда?
– Да, – сказал Решетников, – наверно, напишу. Ты знаешь, мне даже хотелось бы написать не просто воспоминания, не о прошлом, не о том, каким он был, а о том, каким он остается для нас, о том, как до сих пор мы чувствуем его влияние. Нашу лабораторию в институте ведь так и называют лабораторией Левандовского. Как будто человек загадал нам загадки, дал задание, сказал: «Попробуйте сделать вот так…», «А посмотрите, нельзя ли этак?..» – а сам ушел, уехал, но вот вернется и спросит: «Что же у вас получилось, показывайте…» Знаешь, есть люди, которые гаснут еще при жизни, а есть, которые и после смерти остаются источниками, излучателями энергии. Твой отец был как раз таким человеком. Последнее время я часто думал об этом…
– Я тоже много думаю о папе, – сказала Таня. – И вот что странно – я очень любила папу, ты это знаешь. Но при его жизни все то, чем он занимался, что его волновало, его работа, его отношения с товарищами по институту, по университету – все это не очень-то меня интересовало, у меня были свои заботы. Стыдно признаться, но я даже толком не знаю, над чем он работал. Какие-то митохондрии, мембраны, метаболизм – тайна за семью печатями… А он был очень деликатный человек, он умел держать при себе и свои горести, и свои неприятности, и свои тревоги… И только теперь, когда его уже нет, когда он умер, я вдруг поняла, как это все для меня важно! Мне все, все о нем хочется знать. Ты бы хоть рассказал мне, объяснил, Митя, над чем он работал последние годы…
– Василий Игнатьевич был разносторонним ученым, – сказал Решетников. – Он выдвинул и разработал ряд теорий, связанных с процессами раздражения и возбуждения клеток. Вот, в частности, наша Фаина Григорьевна продолжает эту его работу. А в последние годы… В последние годы он увлекся проблемами проницаемости. Каким образом, каким механизмом регулируется поступление веществ в клетку – вот что необходимо было выяснить. Многие ученые считали и считают, что решающая роль в этом деле принадлежит тончайшей оболочке клетки – мембране. Именно она, говорили эти ученые, оказывается тем шлюзом, который либо впускает, либо не впускает вещества в клетку. Я не буду сейчас вдаваться в подробности, но с точки зрения этой теории ряд явлений оставался необъяснимым… И вот тогда Василий Игнатьевич выдвинул свою теорию. Он не верил, что природа отвела клеточной мембране столь существенную роль. Он разработал оригинальную методику опытов с красителями и показал, что краситель проникает в клетку лишь в том количестве, в каком белки протоплазмы способны его связывать. А раз так, то, следовательно, мембрана здесь ни при чем, она лишь механическая преграда на пути веществ, не больше, а истинным регулятором их поступления в клетку служит протоплазма. Теория Левандовского сразу подверглась обстрелу со стороны ее противников. А у Василия Игнатьевича, к сожалению, в то время не было возможности поставить свои опыты достаточно широко. Все свои надежды он возлагал на новую лабораторию…
Таня слушала его с напряженным вниманием, но все же легкая тень разочарования пробежала по ее лицу. Наверно, она рассчитывала на что-нибудь более эффектное, наверно, не столь уж значительными и не очень понятными показались ей эти ученые споры о протоплазме и мембране.
– Ну и что теперь? – спросила она.
– Теперь? Теперь мы стараемся найти новые доказательства теории Левандовского. Ставим опыты. Мы многое уже сделали. Мы усовершенствовали методику опытов, мы добрались наконец до одиночной клетки. Одним словом, работаем.
– А это действительно очень важно? – осторожно спросила Таня.
Кто-то уже задавал ему однажды похожий вопрос. Ах да, тетя Наташа… Решетников улыбнулся.
– Еще бы! – сказал он. – Клетка живет, пока в ней поддерживается определенное соотношение воды, солей, органических веществ. Если это соотношение нарушено, клетка гибнет. Так что, если хочешь, это вопрос жизни и смерти.
– Вот теперь ты заговорил более понятно, – сказала Таня. – Как живой человек, в котором поддерживается нормальное соотношение воды, солей и органических веществ. Это уже интересно.
– Знаешь, в чем отличие ученого, специалиста от обыкновенного человека? – сказал Решетников. – В том, что обыкновенному человеку становится скучно тогда, когда ученому интересно, а когда обыкновенному человеку интересно, ученому скучно.
– Ладно, ученый человек, продолжай, я слушаю. Мне только вот что еще неясно. Ты говоришь: отец доказал, опыты были удачны. Так почему же тогда нужно еще годы заниматься тем же? Зачем?
– Э, Таня, все не так просто, как ты думаешь. Как бы тебе объяснить попроще?.. Теория – это ведь обобщение, картина в целом. И только тогда, когда мы покажем, что она применима ко всем частным случаям, или – если не применима – найдем объяснение, почему не применима, – только тогда мы будем считать ее доказанной. А частный случай – это опыт. Надо провести сотни, может быть, даже тысячи опытов. Вот возьми те же красители, с которыми работал Василий Игнатьевич. Мы меняем краситель, ждем того же результата, а картина вдруг тоже меняется. В чем дело? Почему? Вот и поломай голову. А сахара́, а аминокислоты, а ионы – как они поведут себя? Все нужно понять, все нужно проверить.
– Вы терпеливые люди, – сказала Таня. – Как садовники.
– Скорее, как скупые рыцари, – отозвался Решетников. – Наша страсть – накопление. Мы копим факты, наблюдения, результаты. Без этого нет биологии.
– Я бы, наверно, не смогла так, – сказала Таня. – Ненавижу копить.
– Вот так мы и живем. Конечно, то, о чем я тебе рассказал, только одна из проблем, которыми занимается наша лаборатория. У Василия Игнатьевича идей было – дай бог! Но мне кажется, что эта его теория, эта его работа была ему особенно дорога. Может быть, он уже чувствовал, что это последняя его работа, а может быть – и это даже вернее, – все дело в том, что эти его опыты и первый их успех пришлись как раз на самое тяжелое время в его жизни. Этот успех вернул ему уверенность в себе. И потому он дорожил им.
– Я понимаю, – сказала Таня. Она закурила сигарету и тут же отложила ее на край пепельницы. От сигареты сиротливо вился тонкий дымок. Таня следила за ним, лицо ее погрустнело. Пыталась ли она вспомнить отца в те дни, о которых говорил Решетников, грустила ли, что так поздно проснулся у нее интерес к его работе? Когда-то давно она сказала Решетникову: «У нас с папкой вполне современные отношения. Он не вмешивается в мои дела, я – в его». Жалела ли она теперь об этом?
Таня вздохнула:
– Все это научные проблемы, мне о них трудно судить… А вот знаешь, в чем я все время пытаюсь разобраться? Как та-то история могла произойти, когда отца кафедры и лаборатории лишили, когда в чем только его не обвинили, каких только собак не навешали?.. Вернее – к а к она могла произойти, я понимаю: время такое было, монополия в науке и все такое прочее… Но вот л ю д е й я понять не могу. Да что же это за люди такие окружали отца? Из каких побуждений они-то действовали? Знали же они, не могли не знать, что отец – благородный человек, честный, науке всю жизнь был предан – так откуда же эта страсть изобличать, бичевать, клеймить?.. Мне говорят, бессмысленно ворошить прошлое, а почему бессмысленно, если я п о н я т ь хочу? Я тебя, Митя, для того и позвала, чтобы о б э т о м поговорить. Скажи, ты читал эту штуку?..
Она вынула из ящика стола и теперь держала перед ним старый, изрядно потрепанный номер «Вестника». Решетников хорошо знал этот номер – там была опубликована стенограмма обсуждения работ Левандовского.
– Я не только читал, – усмехнувшись, сказал он. – Я слышал. Я б ы л на этом обсуждении.
– Ну, а я только недавно прочла. Я читала и чуть не плакала. Тут одно место есть – когда отец уже во второй раз выступал, он уже оправдываться перед ними стал, он все объяснить хотел, а они… Нет, я не могу, ты сам посмотри…
Он взял из ее рук брошюру и увидел абзац, отчеркнутый ногтем.
«Л е в а н д о в с к и й: …Я не отрицаю, возможно, я допускал отдельные неточные, недостаточно продуманные формулировки, но могу вас заверить, что никакого умысла здесь не было, никакого идеалистического истолкования дать процессам, протекающим в клетке, я не стремился. И я, и мои учителя всегда стояли на материалистических позициях. Так что если мной и были допущены ошибки, то чисто терминологические, словесные…
Г о л о с с м е с т а: Не замазывайте своих ошибок!
Л е в а н д о в с к и й: Я ничего не замазываю. Я хочу объяснить, как обстояло дело. Если вы не поняли, я могу…
Г о л о с с м е с т а: Мы-то поняли! Расскажите лучше, сколько государственных денег вы ухлопали на свои так называемые эксперименты!
Л е в а н д о в с к и й: Я не понимаю.
П р е д с е д а т е л ь с т в у ю щ и й: Вас спрашивают, во сколько обходятся государству ваши опыты на клетках. Вы не подсчитывали?
Л е в а н д о в с к и й: Я проводил запланированные исследования…
Г о л о с с м е с т а: А их бесполезность тоже была запланирована?
Л е в а н д о в с к и й: Научные исследования далеко не всегда сразу приносят практическую пользу…
П р е д с е д а т е л ь с т в у ю щ и й: Больше вы ничего не хотите сказать?
Л е в а н д о в с к и й: Меня, собственно, перебили…
П р е д с е д а т е л ь с т в у ю щ и й: Мы ждали от профессора Левандовского прямого, самокритичного выступления, честного признания своих ошибок. К сожалению, многоуважаемый Василий Игнатьевич нас глубоко огорчил…»
На бумаге все выглядело суше, спокойнее, чем было тогда на самом деле. Бумага не сохранила интонаций, взглядов, выражений лиц.
– Да, – сказал Решетников. – Читаешь и не веришь. Теперь все это диким кажется.
– А я, Митя, читала и так ясно себе представляла отца за этой кафедрой – как он пытается что-то объяснить, как поворачивается на этот «голос с места», как растерянно смотрит на председателя… Ты знаешь, у него бывал иногда такой беззащитный, недоумевающий взгляд… Ты, наверно, замечал: когда обижают большого, сильного человека, когда он беззащитен, – это всегда особенно больно. Я не могу забыть, я еще в детстве прочла о том, как овод убивает оленя. Овод откладывает свои личинки в ноздри оленю. И олень оказывается беззащитен перед этой личинкой. Он мучается и умирает… И отвратительно, и страшно, правда? Какое-то похожее чувство я испытываю сейчас, когда читаю про этот «голос с места». Это та же личинка – безглазая, подлая!..
– Ну, не надо так мрачно, – сказал Решетников. – Твой отец никогда не был беззащитен. Он умел бороться и защитить себя тоже умел. Не забывай, что в конечном счете он вышел победителем. И в том, что мне сейчас дико читать эту стенограмму, что атмосфера в науке стала совсем иной, есть и его заслуга…
– Да, я знаю. Но эти люди… Что это – заблуждение, расчет, подлость?.. Тогда все это как-то стороной прошло мимо меня, девчонка я еще была, что́ понимала, да и отец старался оберечь от неприятностей…
Помнила ли она теперь, как тогда, на другой день после этого собрания, Решетников ждал ее у Казанского собора? Там, среди тяжелых, мощных колонн, они обычно любили бродить вдвоем. Решетников был потрясен и подавлен случившимся. Он не готовился, не собирался выступать – студент-третьекурсник, кто бы стал его слушать? Но после выступления Трифонова, едва опомнившись, едва придя в себя от неожиданности, Решетников послал записку в президиум. Было уже поздно, ему не дали слова. Возмущение осталось невысказанным, оно переполняло его; так и не произнесенные вслух слова перегорали, причиняя беспокойство и боль. А Таня пришла оживленная, веселая, как всегда, еще издали, из толпы прохожих, она махала ему рукой и улыбалась. «Ты посмотри, какал прелесть, – сказала она. – Снег и солнце!» В воскресенье они собирались ехать с ночевкой на дачу к Таниной подруге за город – кататься на лыжах. Стоял март, уходили, таяли на солнце последние лыжные денечки. Но теперь Решетников был уверен, что Таня не поедет, откажется, останется с отцом. Решетников сам сказал ей об этом. Он рассказал ей, что произошло, но она слушала его рассеянно, думала о своем. «Но мне так хочется! – огорченно произнесла она. – Больше уже не будет таких дней. Я так ждала этого воскресенья! А папа, он даже любит оставаться один, когда у него неприятности, честное слово!»
Помнила ли она об этом?..
– Тогда мне и дела не было до этих людей – кто там выступал, почему… Подумаешь, казалось, шавки какие-то на отца тявкают… А теперь у меня, знаешь, любопытство какое-то, интерес к этим людям. Посмотреть на них тянет. На того же Рытвина посмотреть: что за человек это?
«Ты уже видела его однажды, девочка», – хотелось сказать Решетникову, но он не стал напоминать ей о похоронах.
– Подойти к такому человеку, посмотреть на него, потом сказать: «Я дочь Левандовского». Интересно, какое у него будет лицо?
– Тю-тю-тю! – засмеялся Решетников. – Чего ты захотела! Времена графа Монте-Кристо прошли. Да он улыбнется тебе, руку протянет, скажет: «Очень приятно» – вот и все.
– Неужели же совести у человека нет?
– Есть совесть, есть. Но если бы в человеке, Танечка, одна совесть была, он бы и недели после дурного поступка выжить не сумел. Казнил бы себя, терзал, изводил. Но у человека-то, у каждого из нас, кроме совести еще защитная система развита – от совести. Человек так умеет уговорить себя, оправдать, переработать в своем сознании свои поступки, растворить их, что только удивляться приходится, до чего же сильна в человеке эта защитная способность! Взаимодействие этих двух сил и определяет нравственную сущность человека. У большинства людей совесть все-таки сильнее оказывается, но у некоторых эта защитная способность так разрослась, что они совести и пикнуть не дает, обволакивает ее, как амеба… А вообще, ты обрати внимание: если мы и отстаиваем наследие Левандовского, если и спорим сейчас, то не с Рытвиным и ему подобными. У нас есть научные противники, но это действительно н а у ч н ы е противники, наука тем и движется, что сталкиваются разные взгляды, разные точки зрения. А Рытвин теперь, когда имя Левандовского опять поднято высоко, готов себя едва ли не другом Василия Игнатьевича провозгласить…
Он не договорил. Кто-то постучал в дверь кабинета. Решетников обернулся на этот звук и увидел Трифонова. Трифонов, казалось, растерялся, он даже чуть отпрянул, как бы собираясь тут же захлопнуть дверь, но в следующую секунду уже овладел собой.
– Опять этот Решетников перебегает мне дорогу! – шутливо воскликнул он.
Казалось, в этом полнеющем мужчине ничего уже не было от того униженного, поникшего мальчика, который сидел когда-то в комнате у Решетникова, глядя на рассыпанный по столу букет полевых цветов.
– Виноват, виноват, я сейчас ретируюсь… Я, собственно, без дела, так заглянул – завозил сюда корректуру, дай, думаю, проверю, как тут трудится Татьяна Васильевна… А что, Митя, я слышал, у вас в лаборатории Новожилов что-то буянит?..
Мог бы и не заводить он здесь этого разговора, мог спросить об этом в институте. Так нет, ему, наверно, хотелось показать, продемонстрировать Тане, какие опять простые, нормальные, товарищеские отношения у него с Решетниковым. После похорон Левандовского отношения у них и правда как-то незаметно восстановились, во всяком случае, теперь они здоровались, перебрасывались при встрече несколькими ничего не значащими фразами. Да и не избежать было примирения – что ни говори, а работали в одном институте, встречались едва ли не каждый день…
– А-а, чепуха, – пожал плечами Решетников. Вовсе не намерен он был обсуждать с этим человеком дела их лаборатории.
– Вы за ним посматривайте! – все в том же шутливом тоне продолжал Трифонов, но глаза его были настороженными. – Новожилову палец в рот не клади – это такой товарищ!.. Однажды умудрился себе импортный прибор заказать, спектрофлуориметр. Понадеялись на его скромность, не проследили, не проверили, сколько он стоит. А прибор прислали – двадцать тысяч долларов! Чуть ли не весь валютный фонд институтский накрылся. Ловко? Ха-ха-ха! Ну ладно, удаляюсь, удаляюсь, не буду мешать. Секретничайте!
Его взгляд вдруг упал на старый номер «Вестника», который все еще лежал на столе у Тани, скользнул по бумажной обложке. Узнал ли он его? Вспомнил ли?
«П р е д с е д а т е л ь с т в у ю щ и й: Слово предоставляется студенту третьего курса Трифонову Евгению Михайловичу.
Т р и ф о н о в: Товарищи! Мне особенно тяжело говорить сегодня о Василии Игнатьевиче Левандовском. Тяжело прежде всего потому, что он мой учитель. Я слушаю его спецкурс, я занимаюсь в научном кружке под его руководством. И если я вышел сейчас на эту трибуну, то лишь для того, чтобы поделиться некоторыми своими сомнениями. Тому ли нас учит профессор Левандовский? Ведь мы еще не обладаем тем опытом, теми знаниями, которыми обладают наши старшие товарищи, мы верим тем, кто нас призван учить и воспитывать. Профессор же Левандовский, вместо того чтобы помочь нам правильно ориентироваться, нередко выходит к студенческой аудитории с путаными, нечеткими концепциями, о которых уже говорилось сегодня другими ораторами. Зачем, например, понадобилось профессору Левандовскому в своих лекциях ссылаться на труды немецкого ученого Франца Фиша? Или он надеялся, что мы не сумеем разобраться в идеалистической сущности его учения? Зачем понадобилось профессору Левандовскому внушать студентам скептическое отношение к некоторым достижениям нашей науки, в частности, унижительно, с насмешкой отзываться о возможности происхождения клетки из неживой материи, вместо того чтобы привлечь наше внимание к этому интереснейшему открытию! Профессору Левандовскому, возможно, нравится быть скептиком, но зачем же заражать скептицизмом юные души тех, кто верит ему?! (Аплодисменты). Зачем незначительные, второстепенные проблемы выдавать за важные, а о важных умалчивать? И не окажемся ли мы в результате в стороне от главной дороги нашей науки, на ее обочине? Вот что меня беспокоит, как беспокоит, думаю, и многих моих товарищей. Вот почему я и решился сказать обо всем честно и прямо, как бы тяжело мне это ни было…»
Нет, не узнал, не вспомнил. Во всяком случае, ничем не выдал себя. Лицо его не дрогнуло. Только приветственно взмахнул рукой на прощанье и вышел.
– Ну вот, – сказал Решетников. – Один из них. Легок на помине.
– Тоже загадка, – сказала Таня. – Его-то что толкало, ему-то что было нужно? Не отомстить же он мне хотел? Это было бы уж очень… как в мелодраме… Или верил в то, что говорил?..
– Нет, не думаю, – сказал Решетников. – Я бы знал тогда. Червоточинка в нем есть какая-то, еще с детства. Я тогда значения этой червоточине не придал, когда он матери своей постыдился, в седьмом классе это было. Да я тебе рассказывал. Жалел его даже, оправдывал. А напрасно.
– Ну а сейчас? Сейчас-то он чем держится?
– Работает, – сказал Решетников. – Изучает влияние на клетку ультрафиолета, низких температур. Сейчас это перспективная область. И, знаешь, у него есть интересные работы. Как бы мы к нему ни относились, а в способностях Трифонову нельзя отказать…
Таня задумчиво смотрела мимо него, на крыши.
– Да, а ты-то как живешь? – неожиданно спросила она. – Ты ничего о себе не рассказал.
Это было в ее характере – проговорить с человеком час и вдруг спохватиться в последний момент, едва ли не прощаясь, и спросить без тени смущения: «Ну а ты-то как?»
– Все нормально, – сказал Решетников. – Как всегда.
– Без изменений?
– Без изменений, – сказал он и встал. – А мне, между прочим, жаль, что ты согласилась сменить фамилию.
– Это я сама! – горячо воскликнула Таня. – Муж меня даже уговаривал оставить, не менять, а я не запотела.
И в этом он тоже узнавал прежнюю Таню – все или ничего. Она не переносила половинчатых решений.
– До свидания, – сказал он.
– Митя, – вдруг быстро произнесла Таня, словно внезапно решившись сказать о чем-то, что не давало ей покоя. – А ведь он ко мне сюда почти каждый день приходит.
– Кто?
– Да Женька, Трифонов.
– Вон оно что… – протянул Решетников. – А я-то думал, что все уже забыто…
– Нет, – покачала головой Таня. – Он говорит, что нет.




