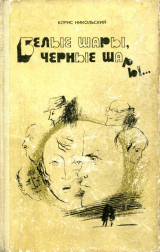
Текст книги "Белые шары, черные шары... Жду и надеюсь"
Автор книги: Борис Никольский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 29 страниц)
Осенью 1945 года Митя Решетников пошел в седьмой класс. Уже осталась позади блокада – и голод, и обстрелы, и смерть матери. Город ожил, и вместе с ним оживал Митя. Постепенно отходило, отпускало его горе, и словно зарубцовывалось, пряталось все глубже и глубже чувство непоправимости того, что произошло. Еще тогда, мальчишкой, Решетников понял, почувствовал, что страшно только то, что непоправимо. Хоть плачь, хоть кричи, хоть бейся головой об стену – непоправимо.
Он знал, что остался жив только благодаря матери. Уже много позже, взрослым человеком, если приходилось ему слышать рассуждения о человеческом эгоизме, о жажде выжить любой ценой, о том, что перед этим стремлением выжить отступают и любовь, и человечность, и материнский инстинкт, если приходилось слышать рассказы о человеческой жестокости, которую пробуждал голод, он поворачивался и уходил. Он никогда не говорил о своей матери. Ему казалось, что, заговорив о ней, дав этим людям возможность обсуждать ее поступки, он оскорбит ее память. Но он-то все помнил.
Пока она сама выкупала по карточкам и сама делила их скудный блокадный паек, ей не стоило особого труда уговорить его съесть лишний ломтик хлеба – она уверяла его, что уже съела свою порцию. Он легко поддавался обману. Только когда она ослабела, когда слегла, когда он сам стал делить хлеб, он все понял. Уже не в силах подняться, лежа в постели под ворохом старых одеял и пальто, она упрашивала его взять ее хлеб. И плакала от отчаяния и собственного бессилия, когда он отказывался. Слезы текли по ее исхудавшему лицу и расплывались мокрыми пятнами на грязной наволочке. Она плакала и ругала его злыми словами, и говорила, что он мучает ее перед смертью и не дает ей умереть спокойно. Эти тяжелые сцены почти всегда заканчивались тем, что Митя, тоже плача и ненавидя себя, съедал часть ее хлеба. Только тогда она успокаивалась, и лицо ее обретало умиротворенное, почти счастливое выражение. Уже зная, что ей не выжить, она молила судьбу только о том, чтобы умереть в начале месяца, чтобы Мите досталась ее хлебная карточка. После смерти матери в шкатулке, где хранились самые дорогие для нее вещи: бирка с номером на шелковой нитке – память о родильном доме, первый опознавательный знак ее сына, ее сыночка, ее мальчика, новорожденного малыша, еще не имевшего собственного имени; рубиновые бусы – свадебный подарок ее мужа, Митиного отца, и два солдатских письма-треугольника, последнее из которых было помечено сентябрем сорок первого, в том же месяце Митин отец, рядовой дивизии народного ополчения, погиб смертью храбрых, – в этой шкатулке обнаружил Митя несколько сухих хлебных корочек. Мама прятала их для него.
К осени сорок пятого года Митя Решетников, живший теперь под опекой двух своих теток – сестер отца, заметно окреп, вытянулся, болезненных следов дистрофии уже не было на его лице, только мучили его еще, казалось, ничем не утолимая жадность, желание съесть как можно больше, которое просыпалось в нем всякий раз, когда он видел пищу. А в остальном он ничем уже не отличался от тех ребят, кто возвращался в Ленинград из эвакуации, кто не перенес блокады. Этих ребят становилось в школе все больше. И однажды за партой, где с некоторых пор Митя скучал в одиночестве, появился новенький. Это был тихий, аккуратный мальчик в коричневых вельветовых, уже сильно потертых бриджах и в такой же вельветовой курточке с молнией. Из старого, видавшего виды портфеля с оторванной ручкой он извлек тетрадь в грубой, шершавой обложке и, усевшись по всем правилам, как первоклассник, которого только что научили сидеть за партой, положив на парту локти, старательно вывел: «Тетрадь ученика 7-го «б» класса Трифонова Евгения». Потом подумал немного и добавил: «город Ленинград».
Скоро Решетников уже знал, что Женя Трифонов только неделю назад вернулся вместе с матерью из эвакуации, что мать у него учительница, что дом их разбомбили и теперь они поселились у родственников…
А через три дня в их классе произошло еще одно событие: появилась новая преподавательница математики.
В класс вместе с директором вошла высокая, немолодая уже женщина. На ее худых, угловато вздернутых плечах висела зеленая трикотажная кофточка. Седеющие волосы были небрежно зачесаны назад и собраны на затылке в жидкий пучок. И пока директор представлял ее – Ольга Ивановна, опытный педагог, надеюсь, вы поладите, – она нервно подергивала головой и, близоруко щурясь, вглядывалась в лица сидевших перед ней учеников.
Потом директор ушел, и Ольга Ивановна сказала:
– Я знаю, дети, что вы несколько отстали по математике. И потому не будем терять времени, начнем с повторения…
Такой оборот дела никого не устраивал. Ребята с утра настроились на пустой урок, а тут – на́ тебе! И тогда руку поднял Колька Базыкин – великий мастер отвлекать учителей посторонними вопросами.
– Ольга Ивановна, разрешите спросить?
Он закидывал крючок, пробуя, не попадется ли на него новенькая учительница. И она попалась.
– Пожалуйста, мальчик.
Базыкин был маленький, юркий – не скажешь, что недавно исполнилось ему шестнадцать. В блокаду он не ходил в школу, потерял два года, но, как и другие ребята, пережившие блокадные дни, чувствовал себя в классе уверенно, снисходительно посматривал на тех, кто вернулся из эвакуации.
– Ольга Ивановна, а вы откуда приехали?
– Я, мальчик, приехала из Новосибирска. Я там жила в эвакуации. А так я – коренная ленинградка, я родилась и выросла в Ленинграде. Знаете, есть школа на улице Маяковского, я там работала до войны…
Она говорила волнуясь, не замечая, что мнет в руках тряпку, перепачканную мелом, и все так же близоруко и доверчиво смотрела на Базыкина.
– Ольга Ивановна, а в Новосибирске хорошо было?
– Да как вам сказать, ребята. Сейчас везде тяжело. И голодно было. Вещи продавать приходилось, только тем и жили. Я вот, можно сказать, в одной этой кофточке осталась… Все продала…
Едва только она заговорила об этой кофточке, как они уже поняли, насколько им повезло! Даже самые доверчивые из учителей никогда так легко не поддавались на уловки Базыкина. И уж тем более никогда не были склонны рассказывать о своих личных, домашних делах и заботах.
И едва лишь семиклассники почувствовали эту ее слабость, как их охватило какое-то лихорадочное возбуждение, словно проснулся в них извечный инстинкт школяров, стремящихся одержать верх над учителем, ими овладел вдруг азарт, который кружит головы гончим, почуявшим запах дичи.
– Ольга Ивановна, а вы где раньше жили?
– Ольга Ивановна, а в Новосибирске дорого?
– А почем в Новосибирске картошка?
– А медведей вы видели?
– А оленей?
Это было какое-то повальное веселое безумие. Все, даже самые тихие, тянули руки, старались опередить друг друга, выкрикивали свои вопросы – и чем дальше, тем нелепее, тем глупее, словно нарочно испытывая учительницу – ответит ли. И она отвечала. Она тоже была возбуждена этим всеобщим интересом к ее жизни, красные пятна выступили на ее лице, она старалась ответить всем, ответить обстоятельно и подробно – она не сомневалась в искренности этого интереса.
Несколько лет спустя, став старше, Решетников со стыдом вспоминал эту минуты, но тогда он тоже был захвачен общим ажиотажем и тоже тянул руку вместе со всеми.
Ольга Ивановна спохватилась только за пять минут до конца урока. Поняв, что урок потерян, она разволновалась, разнервничалась еще больше, стала торопливо вытирать доску, надеясь еще успеть объяснить хоть что-нибудь.
Но тут зазвенел звонок, и семиклассники сразу повскакали с мест – они уже не слушали, что говорит учительница.
Только теперь Решетников заметил, что его сосед. Женя Трифонов, за весь этот сумбурный урок ни разу не поднял руку, не задал ни одного вопроса.
– Послушай, – со смехом обратился к нему Решетников, – а это случайно не твоя мамаша?
Он произнес эти слова бездумно, шутки ради – слишком стара, пожалуй, была новенькая учительница для того, чтобы оказаться матерью Трифонова.
– Да нет, что ты! – заливаясь румянцем, ответил Трифонов. – С чего ты взял?!
Но в этот момент к ним подскочил Колька Базыкин и закричал на весь класс:
– Пацаны! А новенькая-то – трифоновская мамаша! Эй, Трифон, расскажи, почем кофточки на базаре продавал!.. Ага покраснел, покраснел!
– Да отстаньте вы от меня! – крикнул Женька. – Какая она мне мамаша!
Ему не поверили. На следующей перемене Колька Базыкин специально утащил классный журнал, чтобы посмотреть фамилию математички. К разочарованию семиклассников, фамилия ее была Семипалова. Тем не менее за ней так и осталось, так и закрепилось прозвище «трифоновская мамаша».
Характер у новой математички оказался неровный, это была рассеянная и издерганная женщина, работалось в школе ей нелегко, она часто раздражалась, выходила из себя, голос ее срывался на крик. Сердясь, она стучала кулаком по столу. Однажды Колька Базыкин с приятелями слегка подпилил по краям фанерную крышку стола, и, когда Ольга Ивановна ударила по ней кулаком, фанера с треском провалилась. Ольга Ивановна растерялась, ахнула – она так и не заподозрила никакого подвоха, так и осталась уверена, что сама проломила стол. Семиклассники пользовались ее легковерием, ее рассеянностью и часто подстраивали всякие каверзы. Женька Трифонов теперь принимал в них участие вместе со всеми. Вообще, он оставался тем же тихоней, тем же аккуратным мальчиком, маменькиным сынком, каким впервые предстал перед ребятами. Только не выносил, злился, когда семиклассники, завидев в коридоре неизменную зеленую кофточку Ольги Ивановны, кричали: «Трифон, твоя мамаша идет! Трифон, твоя мамаша идет!» Наверно, оттого вскоре он и начал враждовать с математичкой.
– Трифонов! – все чаще раздавалось в классе. – Прекрати разговоры!
– А я и не разговариваю, – невозмутимо отвечал Женька.
– Трифонов, не подсказывай!
– А я и не подсказываю!
– Трифонов, не стучи крышкой парты!
– А я и не стучу!
Она тут же отвлекалась, ей надо было усмирить еще тридцать шесть семиклассников, последнее слово всегда оставалось за ним.
Нельзя сказать, что семиклассники так уж невзлюбили Ольгу Ивановну, нет, в глубине души, пожалуй, они относились к ней даже лучше, чем ко многим другим учителям, – она не причиняла им зла, не жаловалась на них директору, легко верила всяким, даже самым нелепым объяснениям, ее несложно было разжалобить, выклянчить у нее троечку там, где полагалась верная двойка… И все же при всем этом они в своей бездумной жестокости, которая так часто бывает свойственна именно подросткам, не могли упустить возможности развлечься, потешиться, пользуясь слабостью, мягкостью характера новой учительницы. К тому же очень скоро они пришли к выводу, что не жалуется она директору или завучу вовсе не оттого, что жалеет своих учеников, а лишь потому, что сама боится директора, не хочет признаваться в собственной беспомощности. Сознание своей безнаказанности, своего превосходства над учительницей возбуждало семиклассников, и их шутки становились все более жестокими.
Они, конечно, чувствовали, что их проделки не всегда будут сходить им с рук, что рано или поздно наступит взрыв, терпение учительницы истощится, и это ощущение риска, ощущение того, что они ходят по грани, подогревало их, пожалуй, не меньше, чем сознание безнаказанности.
И взрыв произошел. Произошел он совсем неожиданно, казалось бы, из-за пустяка.
В то утро Ольга Ивановна появилась в классе чем-то расстроенная и раздраженная. Во всяком случае, будь она в другом настроении, она, наверно, и не обратила бы внимания на то, что Колька Базыкин, не таясь, положив рядом обе тетради – свою и чужую, перекатывал домашнее задание. А тут она сразу остановилась возле Колькиной парты.
– Базыкин, опять списываешь? Дай сюда тетрадь.
– Какую тетрадь? – глядя на нее невинными глазами, спросил Базыкин.
– Ты что, уже русского языка не понимаешь? Сейчас же давай тетрадь!
– Пожалуйста… – И Базыкин лениво протянул ей свою тетрадку.
– Не эту! – уже выходя из себя, прикрикнула Ольга Ивановна. – Ту, с которой списываешь!
– Я списываю? – изумился Колька. В следующий момент он задел локтем учебники, лежавшие на парте, они посыпались на пол, он наклонился за ними и одновременно быстро перебросил чужую тетрадь назад, на следующую парту.
И тогда Ольга Ивановна сделала то, чего, конечно, ей делать не следовало, чего не сделал бы никакой другой учитель: она кинулась за этой тетрадью. Она хотела схватить ее, но не успела – семиклассники уже передавали, перебрасывали тетрадь из рук в руки.
Ольга Ивановна больше не владела собой – она металась по классу, пытаясь перехватить тетрадь, кровь прилила к ее лицу, а семиклассники, в восторге от этой забавы, увертывались от учительницы и снова перекидывали тетрадь с парты на парту.
– Отдайте тетрадь! Слышите! Сейчас же отдайте тетрадь! – кричала учительница. Голос ее срывался.
Класс приходил все в большее неистовство. Тетрадь уже швыряли из одного угла в другой, из колонки в колонку, она летала над головами, ребята вскакивали с мест, ловили ее, голос учительницы тонул в общем шуме.
– Прекратите! Немедленно прекратите! Иванов! Корабельников! Матвеев!
И тут тетрадь упала на парту Женьки Трифонова. Он схватил ее и спрятал за спину. Ольга Ивановна бросилась к нему.
– Трифонов, – уже не крикнула, а сказала она. Наверно, больше не было у нее сил кричать. – Женя! Верни тетрадь!
Трифонов по-прежнему держал руки за спиной. Несколько секунд он и учительница молча смотрели друг на друга.
Потом Трифонов сделал едва заметное движение и швырнул тетрадь дальше, на соседнюю парту.
Но Ольга Ивановна уже не кинулась за ней. Она стояла все так же неподвижно. И вдруг Решетников увидел, что по лицу ее текут слезы.
Она повернулась и быстро вышла из класса. В классе наступила тягостная тишина.
– Ну, пацаны, теперь держись! – сказал Колька Базыкин. – Побежала жаловаться!
Никто не отозвался. Злополучная тетрадь валялась в проходе между партами. На ее обложке было аккуратно выведено: «…ученика 7-го «б» класса Трифонова Евгения».
А сам Женька сидел, низко склонившись над партой, пряча лицо, и царапал пером черную, блестящую поверхность парты. Если что, ему-то придется теперь отвечать первому.
– Эх, нехорошо получилось, – сказал Решетников. Его тоже мучило ощущение вины и запоздалого раскаяния.
Трифонов ничего не ответил.
На всех оставшихся уроках семиклассники сидели присмиревшие, ожидая возмездия. Но все обошлось – кончился шестой урок, а ни директор, ни завуч так и не появились в классе. Видно, и на этот раз Ольга Ивановна никому не рассказала о происшествии в седьмом «б».
В тот день Решетников задержался в библиотеке и уходил из школы позже остальных. На душе у него было по-прежнему скверно, казалось, явись к ним директор, накричи на них, накажи, и то стало бы легче.
Он спустился на второй этаж, свернул с лестничной площадки в коридор и остановился, замер. Он увидел Ольгу Ивановну и Трифонова. Они стояли в коридоре у окна, напротив учительской. Она обняла его одной рукой за плечи, а он уткнулся лицом, прижался к ее зеленой кофточке. Она что-то говорила ему и гладила его острые, вздрагивающие лопатки.
Решетников попятился назад, на лестничную площадку. Больше всего он боялся сейчас, что его заметят.
Неожиданная догадка осенила его. Впрочем, она не была такой уж неожиданной, эта догадка приходила к нему и раньше, но то было лишь неясное, смутное подозрение. И только теперь он все понял.
Ольга Ивановна была матерью Женьки Трифонова.
Пораженный своим открытием, Решетников медленно брел из школы.
Почему так старательно скрывал, так ожесточенно открещивался Женька от своего родства с Ольгой Ивановной? Любил он ее? Стыдился? Жалел? Страдал от ее неумения справиться с классом? И она – она ведь тоже никогда ни словом, ни жестом не выдала, не обнаружила, что он ее сын. Даже когда он вместе со всеми потешался над ней.
«Как же они должны были любить друг друга, – думал теперь Решетников, – чтобы выдержать, вынести подобное, и утаить, скрыть свои переживания от чужих глаз. И каких же страданий стоила им обоим вся эта история…»
Как же встречались они после школы дома, как смотрели друг на друга, как разговаривали?.. И знала ли она, что ее сын так упорно, так яростно отрекался перед всем классом от нее, от своей матери?..
И вдруг одна мысль поразила, обожгла Решетникова.
Да будь жива его мама, разве бы мог он когда-нибудь отказаться от нее – пусть бы смеялись над ним, пусть бы издевались как угодно!
И все-таки в глубине души он понимал и прощал слабость Трифонова, эту его отчаянную ложь, которая рано или поздно должна была открыться, и жалел его, и казнил себя за участие в нелепых выходках против Ольги Ивановны, и томился нетерпеливой готовностью искупить свою вину перед Женькой…
До сих пор он судил о людях с мальчишеской легкостью и самонадеянностью, казалось ему – не ахти как сложно понять человека: вот он, человек, я его вижу, слышу, чего же еще, все ясно, и только теперь ему вдруг приоткрылась тайная сторона человеческой жизни, невидимая для посторонних глаз. И приоткрылась там, где он меньше всего ожидал.
Так или иначе, но именно с этого дня Решетникова стало тянуть к Женьке Трифонову. А вскоре и другие ребята узнали, что Ольга Ивановна – Женькина мать.
И то ли это обстоятельство сыграло свою роль, то ли просто время сделало свое дело, только постепенно отношения между Ольгой Ивановной и седьмым «б» стали ровнее, спокойнее…
Прошел месяц, другой, и Решетников обнаружил, что у них с Женькой немало и общих интересов и общих увлечений: оба они играли в шахматы, любили читать, пробовали сочинять стихи, оба хорошо учились… Вскоре Женька стал появляться дома у Решетникова, приводя в восторг Митиных тетушек своей вежливостью и аккуратностью, своей воспитанностью. Зато Митю Женьке редко удавалось затащить к себе – так и не смог Решетников преодолеть свое смущение перед Ольгой Ивановной. А кроме того, каждый раз, когда оказывался он в их узкой, с единственным, смотрящим в мрачный двор-колодец окном комнате, где едва удавалось протиснуться между старой кушеткой и обшарпанным книжным шкафом, где стоял прочный запах табака и сырости, он не мог отделаться от ощущения, будто вторгается в некий обособленный, запретный для посторонних мир. Словно становился он невольным свидетелем того, что тщательно оберегалось от чужих глаз, чего не полагалось ему видеть.
Женька и Ольга Ивановна жили замкнуто, уединенно. Мать заменяла Женьке приятелей. Сначала Решетникова очень удивляло, когда он заставал Ольгу Ивановну и Женьку играющими в шашки или «морской бой», причем Ольга Ивановна увлекалась, радовалась выигрышу ничуть не меньше, чем ее сын, потом Решетников привык к подобным вещам. Но, видно, Женька все же тосковал по сверстникам, по настоящим товарищам, и потому с такой радостной готовностью потянулся он в свою очередь навстречу Решетникову, так легко и быстро привязался к нему. О чем только не говорили они тогда! И лишь об одном никогда не заговаривая Женька, никогда не спрашивал, не вспоминал Решетников – о первом появлении Ольги Ивановны в седьмом «б» и обо всем, что последовало за этим… Как будто и не было никогда этой истории.
ГЛАВА 5Трифонов в последний раз ободряюще улыбнулся им, сделал легкий полупоклон и исчез с экрана.
– Ручаюсь, ему сейчас не до улыбок, – сказал Новожилов. – Видели бы вы, как вся их компания забегала, засуетилась!
– Не преувеличивай, – отозвался Решетников. – Трифонову ровным счетом ничего не грозит. И он это прекрасно знает. Будет работать, как работал.
– Ну, не говори! Уже одно то, что ему предстоит чуть ли не каждый день встречаться с Левандовским… Небось и не думал уже, что расплачиваться придется. Заюлит сейчас, завертится.
– Ребята, не будем опускаться до мелкого злорадства! – сказала Фаина Григорьевна. – Поговорим о чем-нибудь более приятном.
Еще от далекого довоенного детства, когда он был совсем маленьким мальчонкой, ярче других осталось в памяти Решетникова одно счастливое ощущение. Он точно помнил, что появлялось оно, приходило к нему всегда накануне дня рождения. Бывало, забегается он, заиграется, увлечется, кажется, забыл обо всем на свете, но вдруг остановится посреди игры, охваченный каким-то неясным радостным чувством, будто должно произойти – или произошло уже? – что-то хорошее, что-то такое, отчего вся его душа переполняется ликованием и радостью.
«Ах, да – вспоминает он. – День рождения!» – и непременно повторит про себя: «День рождения!» – словно пробуя вкус этих слов…
Так и теперь – Решетников отвлекался, смотрел на экран телевизора, думал о Трифонове, о Глебе Первухине, смеялся остротам Лейбовича, но вдруг, как в детстве, посреди игры, замирал от предощущения надвигающейся радости, все остальное отступало прочь, оставалось только это – главное.
Да и о чем бы они ни говорили в этот вечер, о чем бы ни вспоминали, разговор все равно постепенно возвращался к Левандовскому, к новой лаборатории. И Фаина Григорьевна снова заставляла Решетникова рассказывать, как встречал он Левандовского на вокзале, и выспрашивала, как выглядел Василий Игнатьевич и о чем они говорили в тот вечер. А потом сама принималась рассказывать, как позвонил ей два дня назад Левандовский.
– Я как раз в ванне возилась, стирала, руки у меня были мокрые, я еще думала сначала не подходить к телефону, а потом подошла все-таки… И слышу – Василий Игнатьевич! И говорит мне: «Я хочу просить вас работать в моей лаборатории. Я был бы рад, если бы вы согласились…» Вот что меня всегда поражало в этом человеке, так это деликатность – другой и не сомневался бы, что по первому зову прибегу, а он: «если бы вы согласились…» И ведь это, я знаю, не формы, не вежливости ради, а на самом деле он себя никогда выше других, значительнее не считал. И ждет моего ответа, волнуется… Вы, может быть, ребята, не поверите, но я-то давно знаю Василия Игнатьевича, знаю, когда он волнуется. Ну, а я и сама тут разволновалась, ничего даже толком не расспросила. Уж это он сам сказал, что на три дня уезжает сейчас на дачу – обдумать еще раз организацию лаборатории, планы, а там и за работу!..
– Говорят, он и Алексея Павловича пригласил? – спросил Лейбович.
– Ну как же! Алексей Павлович – его старый сотрудник, они много работ вместе делали, – сказала Фаина Григорьевна. – Между прочим, очень милый человек.
– У вас все милые, Фаина Григорьевна, – откликнулся Новожилов. – А я, должен признаться, с бо-ольшим трудом переносил вашего Алексея Павловича, когда он читал у нас спецкурс. Как начнет мямлить, как начнет мямлить!.. Существует такая точка зрения… Однако имеет место и иная точка зрения… А какой он сам придерживается, какую верной считает, ни за что не скажет!
Фаина Григорьевна засмеялась:
– У каждого человека, Андрюша, свой характер. А Алексей Павлович из тех ученых, кто верит только в эксперимент. Для него никакая идея, никакая теория не существует, пока она не подкреплена экспериментально. И терпение у него просто изумительное. Как-то он один и тот же опыт около ста раз проделал – зато уж потом не сомневался в результате. Его порой и за медлительность ругали, и за нерешительность, а вот Василий Игнатьевич его как раз за это терпение ценил. Сам Василий Игнатьевич – человек увлекающийся, смелый, так они, можно сказать, друг друга очень хорошо дополняли…
– Ну, хорошо, убедили, дополняйте вашим Алексеем Павловичем нашего Василия Игнатьевича, я не возражаю.
– А кстати, ты не смейся, – сказал Лейбович, – если хочешь знать, это очень важная проблема – так подобрать коллектив, чтобы не было несовместимых характеров, и в то же время, чтобы люди дополняли друг друга. Вот тебе конкретный пример – Решетников великолепно дополняет Валечку Минько: он суров и сдержан, она – олицетворение доброты и мягкости, он – скрытен, она – откровенна, он предан науке, она…
– Ну что она? Что она? – весело перебила его Валя. – Договаривай.
– Я хотел сказать: «она – тоже». Неужели, Валечка, ты думаешь, что у меня язык повернется сказать о тебе что-нибудь плохое? Или возьмите меня и Фаиночку. Я – скептичен, она – доверчива, я – безалаберен и ленив, она – аккуратна и трудолюбива, я опаздываю на работу, она никогда…
– Ну да, если вспомнить, как час назад Лейбович утверждал, что он умен, то что остается на мою долю?..
– «Она – тоже», Фаиночка, «она – тоже». Как видите, ядро нашего коллектива складывается прекрасно. Вот только не представляю, как быть с мизантропом Новожиловым… Или разрешим ему дополнять самого себя? Так сказать, заниматься самоусовершенствованием?
Снова они дурачились: шутили, пели, и снова – в который уже раз – Валя Минько повторяла:
– Нет, ребята, мне даже не верится, что мы это о нашей лаборатории говорим. Не верится, что мы снова будем вместе. Помните, как мы мечтали? Все-таки мы всегда знали, что справедливость восторжествует, правда?..
Решетников засмеялся.
– Слышал бы, Валечка, твои речи Василий Игнатьевич! Знаешь, что он мне ответил, когда я провозгласил нечто в этом роде – насчет неизбежно торжествующей справедливости?.. Он мне сказал: «Вот уж кого не переношу, так это прекраснодушных идеалистов: мол, добро в конечном счете всегда воздастся добром, зло – злом. Ах, как удобно этакими разговорчиками прикрывать свою бездеятельность, свое нежелание или неумение бороться!.. Нет, что касается меня, так я бы не уставал повторять: и порок не будет наказан, и добродетель не восторжествует, если мы сами, м ы с в а м и, не приложим к этому руки!»
– Узнаю Василия Игнатьевича! – сразу отозвалась Фаина Григорьевна. – Вы, Митя, даже его интонации точно передали!
– А что, Василий Игнатьевич прав! – сказал Новожилов. – Мы незаметно привыкаем мыслить стереотипами. Самостоятельности в работе, в суждениях – вот чего нам не хватает.
– Ты, как всегда, смотришь в корень, – подхватил Лейбович. – Самостоятельность – это великое дело!.. У меня приятель есть, в НИИ работает, так ему тоже все самостоятельности не хватало, все жаловался, что развернуться ему не дают, все планы строил: он бы и то перестроил, и это перелопатил, если бы ему побольше самостоятельности. А то восемь лет проработал – и все рядовой сотрудник в отделе. И тут вдруг вызывает его шеф и говорит: «Павел Семеныч, мы решили вас заведующим новым сектором назначить. Справитесь?» – «Постараюсь», – скромно отвечает мой приятель, а сам думает: «Еще бы не справлюсь!» Шутка ли сказать – восемь лет ждал он этого момента! «Ну что ж, – говорит ему шеф, – тогда вам остается подыскать себе сотрудника. Даю вам два дня». Из кабинета шефа вылетел мой приятель как на крыльях. В тот же день позвонил он мне по телефону и говорит: «Знаешь, в сотрудники я, пожалуй, возьму Борьку Стрельникова, помнишь, с нами в школе учился?.. Правда, у нас с ним слишком приятельские отношения, это, наверно, может отразиться на работе… Ну, если не Стрельникова, тогда Иванову, плохо только, что у нее маленький ребенок и она часто болеет. Нет, уж лучше не Иванову, а Петрову – конечно, о ней говорят, что она не отличает конденсатор от карбюратора, но зато за нее моя тетка просит, ей в Ленинграде остаться надо, у нее от этого будущее семейное счастье зависит…» Через день зашел я к приятелю на работу – он сидел за столом и раскладывал перед собой карточки с фамилиями: «Сидоров – знает дело, но слывет лентяем, Печкин – не лентяй, но не знает дело, Бочкин – лентяй и не знает дела, но, говорят, пробивной малый, Генеральский знает дело и не лентяй, но, кажется, не в ладах с шефом…» И в этот момент моего приятеля вызвали к шефу. Вернулся он минут через пять. «Можешь, – говорит, – поздравить». – «С чем?» – «Ну как же. Вошел я к шефу и докладываю: „Я бы, пожалуй, взял Бочкина в том случае, конечно, если не согласится Печкин, а если согласится Печкин, что, в общем-то, не лучший вариант, тогда, мне кажется, могла бы подойти Иванова, если бы у нее не было маленького ребенка, а если не подойдет Иванова, тогда стоило бы поговорить с Сидоровым, хотя…“ – „Достаточно, – говорит шеф. – Я уже решил. Заведующим сектором я назначаю Генеральского, а вы будете его сотрудником. Все!“»
Лейбович дождался, когда за столом стих смех, и сказал:
– Так вот и кончилась история самостоятельности моего приятеля. И правда, разве виноват человек, что за восемь лет он разучился быть самостоятельным?.. Мораль понятна?
– Честное слово, Лейбович, тебе только на эстраде выступать, – сказал Решетников. – Ну что ты талант губишь?
– Чего не сделаешь ради науки, – скромно откликнулся Лейбович.
Славно, хорошо было им этим вечером в маленькой квартирке у Фаины Григорьевны, и только об одном они жалели – что не было сейчас рядом с ними Василия Игнатьевича. В прежние времена, еще в университете, он заглядывал к ним иногда на курсовые вечера и даже пел, бывало, старые студенческие песни и сам себе аккомпанировал на рояле, его сразу окружали студенты и долго не отпускали потом…
– А что, братцы, – вдруг сказал Лейбович. – Не махнуть ли нам сейчас на дачу к Левандовскому? Ручаюсь – старик обрадуется.
– Поздновато, – сказал Решетников. – Неудобно.
– Да что поздновато! К одиннадцати мы туда прикатим. Детское время. Грянем под окнами троекратное «ура» и сразу обратно. А, братцы? Кто «за»? Ставлю вопрос на голосование.
– Может, не стоит? – робко сказала Валя. – Человек уехал отдохнуть, сосредоточиться, а мы ворвемся…
– Да ведь один раз в жизни такое событие бывает! Ну, нельзя нам сегодня без Василия Игнатьевича. Неужели вы не понимаете! Фаиночка – как вы? Ваш голос решающий.
– А-а, поехали! – с бесшабашной, веселой решимостью сказала Фаина Григорьевна, словно соглашалась на бог весть какой сумасбродный поступок.
Все-таки они еще колебались, еще раздумывали, но тут явились к Фаине Григорьевне новые гости. Их было двое, они были молоды и влюблены друг в друга – в институте, где они работали лаборантами, их звали «Маша плюс Саша». Они так и вошли сейчас в комнату, держась за руки, и словно принесли с собой атмосферу юношеской влюбленности, открытой и радостной. Они как будто говорили всем своим видом: посмотрите, как прекрасно быть молодыми и влюбленными. И чувство грустной зависти кольнуло вдруг Решетникова – когда-то вот так же входил он к своим друзьям вместе с Таней…
– Товарищи, товарищи! – воскликнула Маша. – Ну что вы сидите в комнате, на улице так хорошо – просто прелесть! А ну-ка одевайтесь – пошли, пошли!
Она затормошила Фаину Григорьевну, схватила за руки, потянула за собой из комнаты.
– Перст судьбы, – сказал Лейбович. – Едем.
– Едем, – сказал Решетников.







