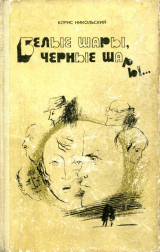
Текст книги "Белые шары, черные шары... Жду и надеюсь"
Автор книги: Борис Никольский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 29 страниц)
Каждый день по нескольку раз Решетников заглядывал в изотопную – нет ли Риты. Прошла уже неделя после короткого, резкого разговора между ними, а он больше ни разу не видел ее. Рита не появлялась у них в лаборатории – видно, работала в своем институте. И Решетников не стал звонить ей. Она сама сказала тогда ночью: «Мне надо побыть одной. Подумать». Что ж, пусть думает. Он не станет мешать, не станет навязываться. Он давал себе слово не бегать в изотопную и все-таки не выдерживал.
И вот сегодня он распахнул дверь и вдруг увидел Риту, В белом халате, в резиновых перчатках, она сосредоточенно готовила эксперимент. Тут же, на столе, рядом с пробирками, мензурками и чашками Петри лежала раскрытая тетрадь, исписанная ее мелким – мужским – почерком, графики, вычерченные на четвертушках миллиметровой бумаги. Рита была не одна, и, обернувшись, увидев Решетникова, она только коротко кивнула.
А Решетников вздохнул с облегчением.
Значит, работа снова уже успела захватить ее. Рита достаточно умный человек, ее не может не увлечь сопоставление разных точек зрения, столкновение противоположных взглядов, поиск собственных доказательств. Пусть даже она сама и не признается в этом. Она не может не понять, что диссертация ее в конечном счете все-таки только выиграет.
Пожалуй, в прошлый раз он просто преувеличил Ритину враждебность. Они оба были тогда взвинчены, взбудоражены – не стоило в тот момент затевать разговор.
После работы они, как и прежде, вместе спустились в гардероб. Здесь они оказались одни, и Решетников, помогая Рите надеть пальто, поддавшись вдруг нахлынувшему чувству, слегка обнял ее за плечи. Но Рита отстранилась и сказала спокойно:
– Не надо, Митя.
– Почему? В чем дело? – спросил Решетников.
Но Рита словно и не слышала его вопроса. Она неожиданно сказала:
– Знаешь, Митя, будь моя воля, я бы выбросила твою шапку. А то ты сам, я вижу, не в силах с ней расстаться.
Решетников удивленно посмотрел на нее. Шапка? Какая шапка? При чем здесь шапка? Он никогда не придавал особого значения своей одежде, и ему казалось, что Рите тоже безразлично, как он одет.
Его кроличья, под котик, шапка и верно была уже изрядно потерта, покупал ее Решетников лет пять назад. Что пора купить новую, он знал и сам и даже время от времени заглядывал в магазины, но безуспешно.
Он сказал добродушно:
– История тебе бы не простила этого. Ты бы лишила наш институтский музей лучшего экспоната. Я уже и бирочку заготовил: «Типичный головной убор кандидата наук середины шестидесятых годов двадцатого века».
– Не уподобляйся Лейбовичу, – сказала она. – Тебе это не идет. Между прочим, можно носить и рваные джинсы, но делать это с шиком. Ты этого не умеешь. Я, не хотела тебе говорить, но мне стыдно выходить с тобой на улицу, когда ты напяливаешь на голову это свое воронье гнездо!..
– Уж если я начал раздражать тебя, то в какой бы шапке я ни явился, ничего уже не изменится, – сказал Решетников. – А вообще, я не узнаю тебя. Я всегда думал, что ты выше этого.
– Выше чего?.. Легенды о профессорах, по рассеянности являющихся на лекции в домашних кофтах своих жен, давно ушли в прошлое. У нас в институте лаборанты зарабатывают в два раза меньше тебя, а все ходят в нормальных, модных шапках. Или ты не можешь…
Этот пустячный, никчемный разговор уже начинал сердить Решетникова. Они не виделись столько времени, и неужели им теперь не о чем поговорить, кроме его злополучной шапки? Абсурд какой-то. Нелепость!
– Если у этих твоих лаборантов, – сказал он, – достаточно времени и энергии, чтобы тратить их на добывание шапок, то очень рад за них. У меня же есть более важные заботы.
– Ну и смеши тогда людей.
– Ну и буду смешить.
– Ну и смеши.
– Ну и буду.
– Ну и смеши.
Рита и Решетников разом взглянули друг на друга и не выдержали – оба улыбнулись.
– Ладно, не будем ссориться, – сказала Рита. – Носи себе на здоровье что хочешь. Ты прав, это действительно не должно меня волновать.
Что-то в ее тоне насторожило Решетникова.
– Почему уж так сразу не должно волновать? – спросил он.
– Ну вот видишь, и это тебя не устраивает, – усмехнулась Рита.
Они уже вышли из института и теперь шли по заснеженной, освещенной вечерними фонарями улице.
– Рита, давай все-таки поговорим серьезно, – сказал Решетников. – Я уже устал от неопределенности.
– Чудак ты все-таки, Митя, – отозвалась Рита. – Тебя так и тянет говорить, выяснять отношения. Как будто наши с тобой разговоры способны что-то изменить. Все, Митя, решится само собой.
– Что ты хочешь этим сказать? – спросил Решетников.
– Я собираюсь уехать, Митя.
– Как уехать?
– Уехать. Насовсем. А что ты так удивляешься?
– Да брось ты, Рита. Я же говорю серьезно.
– И я серьезно, – спокойно сказала Рита.
– Да нет, я не верю, – сказал Решетников. – Ты меня разыгрываешь.
– Можешь не верить, как хочешь, – сказала Рита.
– Да с чего тебе уезжать? Куда? Зачем?
– Помнишь, я говорила, что Боровиков звал меня в Сибирь? Я ведь не шутила тогда. Вчера я звонила ему, он говорит, что приглашение остается в силе.
Некоторое время Решетников шел молча.
– Нет, нет, – сказал он наконец. – Все-таки это не умещается у меня в голове. Даже не предупредила, не посоветовалась… Как же так?..
– А что советоваться, Митя? – Рита по-прежнему говорила ровным, спокойным голосом. – Я всегда все привыкла решать сама. Только не думай, пожалуйста, что я это из-за тебя.
– Да что тебе дался этот Боровиков? Чем тебе плохо здесь, в Ленинграде? Люди сюда рвутся, а ты уезжаешь!..
– Чем плохо? – переспросила Рита. – А чем хорошо? Ну, защищу я диссертацию, дадут мне младшего… А дальше? Всю жизнь ходить в младших? Ждать, пока помрет кто-нибудь? У нас же весь институт сплошь из одних столпов науки состоит. На меня же так всю жизнь как на способную, многообещающую девочку смотреть будут, пока не обнаружат, что я уже состарилась. Нет, Митя, участь вашей Фаины Григорьевны меня не прельщает.
– Ну, а что же этот т в о й Боровиков (неужели так мало нужно, чтобы опять ощутил он болезненный укол ревности?) тебе уже райские кущи наобещал? – спросил Решетников.
– Ну, райские не райские, а все же… Институт у них новый, люди работают в основном молодые, ценят их там не за прошлые заслуги, а за сегодняшнюю работу… Так что там все будет зависеть от меня самой. И главное, они сами верят, что многое сумеют сделать, ты бы видел, Митя, какие это энергичные ребята…
– Наверно, из тех, кто умеет носить рваные джинсы с шиком? – сказал Решетников.
– Ф-фу, Митя, – смеясь и жмурясь при этом по своей привычке, отозвалась Рита. – Не будь так злопамятен. Нет, правда, там больше возможностей для самостоятельной работы, там я буду чувствовать себя нужной, а не просто еще одним младшим научным сотрудником… Тебе, может быть, трудно меня понять, ты мужчина, кроме того, ты ученик Левандовского, с тобой считаются, тебя ценят, ты на виду, а я что ж… Я же чувствую в себе силы, способности, я не хочу всю жизнь быть на вторых ролях!..
– Еще неизвестно, что лучше, – сказал Решетников. – Быть на вторых ролях в институте Калашникова или на первых – у Боровикова. Слишком разный уровень. Боровиков, конечно, талантливый ученый, но один Боровиков – это еще не институт.
– Да не в том дело, Митя, на вторых или на первых, как ты не можешь понять! Просто там интереснее! Там же все заново! Там я буду что-то значить, я сама!
Столько уверенности, столько надежды было в ее голосе, что Решетников невольно позавидовал ее порыву. Разве он сам еще несколько лет назад не готов был поехать куда угодно, хоть на край света, лишь бы ему дали возможность самостоятельной, интересной работы? И разве не переживал он нечто подобное, когда создавалась их лаборатория? Отчего же он теперь так старательно отговаривает Риту, отчего так упорно отыскивает аргументы, чтобы разрушить эту ее уверенность, этот ее порыв?..
– А обо мне… о нас с тобой… ты не подумала? – спросил он.
– Нет, Митя, подумала… После той ночи я много думала о нас…
– И что же решила? Уехать?
– Да, Митя, нам лучше расстаться.
– Так я и знал. Я ждал, когда ты это скажешь. Но почему?
– Знаешь, Митя, я почувствовала, что все это становится слишком серьезно. Во всяком случае, для меня. А я не хочу. Хватит.
– Ты говоришь только о себе, – с грустью заметил Решетников. – «Я не хочу», «я решила», «я почувствовала»…
– Что же делать, Митя. Такой уж, видно, у меня характер. Ты ведь тоже не очень посчитался со мной…
– Рита, это же совсем другое…
– Только не думай, что я обиделась, затаила обиду. Нет, как бы я ни сердилась, что бы там ни говорила, а я бы ведь и сама так поступила на твоем месте. Кто-то всегда должен уступать. Обычно эта роль отводится женщине. Меня же эта роль не устраивает. В том-то и беда, Митя, что я бы тоже так поступила. Мы не умеем жертвовать.
– Но, Рита…
– И не огорчайся. Это быстро пройдет. Все пройдет, Митя, вот увидишь. Ты ведь никогда и не любил меня по-настоящему. Может быть, я и сама виновата в этом, не знаю, но не любил. Тебе только казалось, что ты м о ж е ш ь меня полюбить, ты только х о т е л полюбить. Но это от нас не зависит. А любил и любишь ты только одного человека. И ты знаешь кого.
Решетников молчал. Что бы ни сказал он сейчас, его возражения уже ничего не изменят. Он вдруг вспомнил, как открыл однажды, что пытается отыскать в Рите сходство с Таней Левандовской и как поразило его это открытие… Но как Рита могла теперь почувствовать это?
– Вот видишь, я все знаю, – сказала Рита. – И не спорь со мной. Я даже знала, что ты сейчас промолчишь. Я видела, какими глазами смотрел ты на Таню Левандовскую, когда она приходила в институт. Я еще тогда все поняла.
– Подожди, подожди, разве ты была тогда?
– Вот, вот, вот… Еще одно тому доказательство…
Падал сильный снег, он словно обволакивал их, словно отделял, отгораживал от других прохожих, приглушал посторонние звуки, и только Ритин голос слышал теперь Решетников.
– Ты обладаешь даром внушения, – стараясь придать своему тону веселость, сказал он. – Еще немного, и я, кажется, поверю тебе.
– Ты уже поверил, Митя, – сказала она.
– Нет, – откликнулся он. – Я все время жду, когда ты признаешься, что все это только твоя фантазия. И ты и не думаешь никуда уезжать. Скажи, что ты все это выдумала. Скажи, Рита.
Она засмеялась.
Ощущение нереальности происходящего не оставляло Решетникова. «Ты какой-то странный…» – сказала она ему однажды. Он – странный. Она – странная. Все мы кажемся друг другу странными, когда не в силах понять друг друга…
– Да не грусти ты, Митя. Давай лучше вообразим, как мы встретимся с тобой когда-нибудь лет этак через двадцать… Ты уже будешь член-корром, а может быть, и академиком, кто тебя знает… А я – доктором наук, лауреатом – ты веришь, что я стану лауреатом? – и мы увидимся с тобой на каком-нибудь международном симпозиуме или конгрессе, и ты мне скажешь: «Маргарита Николаевна…»
– А ты мне ответишь: «Можете называть меня просто Ритой. Я только от начальства требую, чтобы меня называли по имени-отчеству…»
– Запомнил… – сказала Рита. Она вдруг сразу погрустнела.
– Ты знаешь, – сказал Решетников, – мне кажется, возраст человека определяют не годы, а воспоминания… Так вот живешь и не замечаешь, как еще один пласт твоей жизни становится воспоминанием… А потом идешь в один прекрасный день по городу и вдруг обнаруживаешь, что едва ли не каждая улица, набережная, площадь окутана твоими воспоминаниями… Сюда, в этот сад, мы ходили с мамой гулять, когда я был маленьким, здесь, на этой улице, уже в блокаду нас однажды застал обстрел, а там, чуть поодаль в переулке, жил мой первый школьный приятель Мишка Веретенников – он остался лежать на дне Ладожского озера… Здесь, на этой мостовой, мы подбирали листовки, которые разбрасывал самолет в День Победы, по этой набережной бродили после выпускного вечера, отсюда, с этого вокзала, уезжали на студенческую стройку… И еще стоит та скамейка, на которой однажды увидел я Левандовского. Это было вскоре после памятного собрания. Василий Игнатьевич сидел один, задумавшись, лицо у него было усталым. И я не решился, постеснялся тогда подойти к нему. Теперь я жалею об этом. Город полон воспоминаниями. С каждым годом их становится все больше. И это грустно. А теперь вот скоро и твоя улочка прибавится к ним…
Они уже приближались к Ритиному дому, уже входили во двор, когда навстречу им выскочил Сережка. Его пальто было в снегу, шапка-ушанка съехала набок, уши ее торчали в разные стороны. Варежки он то ли потерял, то ли сунул в карман, руки его были мокрыми и красными.
Еще разгоряченный снежной мальчишеской баталией, он бросился навстречу Решетникову с таким радостным ликованием, словно они не виделись не несколько дней, а, по крайней мере, полгода. Он словно переборол свою всегдашнюю робость, застенчивость, сдержанность – он обхватил своими руками руку Решетникова, прижался к ней лицом, и, растроганный этой несвойственной Сережке восторженностью, бурным проявлением чувств, Решетников на мгновение забыл все, о чем говорили они сейчас с Ритой… Вдруг почудилось ему, что ничего не изменилось, что все хорошо… А может быть, эти Сережкины чувства и прорвались внезапно наружу оттого как раз, что уже предугадывал мальчишка маячившее где-то впереди расставание и торопился излить свою душу…
Рита отряхивала снег с Сережкиного пальто, выговаривала ему за то, что слишком заигрался он сегодня во дворе, а Сережка все не отводил глаз от Решетникова, все тянулся к нему, и Решетников вдруг подумал, что именно этой безоглядной, открытой привязанности, детской доверчивости не хватало ему в Рите… Утешал он себя, что ли…
Наверно, не стоило ему заходить сегодня к Рите, наверно, лучше было распрощаться здесь, во дворе, и уйти, а не подниматься на пятый этаж, в знакомую узкую комнату, не распивать мирно чаи, как будто ничего не случилось… Но Рита позвала его, и он послушно пошел. Сейчас он действовал машинально, почти бездумно.
…Скорей всего, они увидятся еще не раз, еще немало времени пройдет до Ритиного отъезда, и совсем другое число будет на календаре в тот день, когда они простятся на вокзальной платформе… Но все это будет только казаться. На самом деле они расстались сегодня, она уже ушла, уехала, ее поезд уже растворяется, исчезает в отдалении, и напрасно Решетников еще машет вслед ей рукой, еще говорит что-то – она уже не слышит…
Их разговор за чаем тек неторопливо и буднично, только Сережка, к которому уже вернулась обычная его-застенчивость, взглядывал временами на Решетникова, и грусть и затаенный вопрос чудились Решетникову в его-глазах…
– Дядя Митя, – наконец не выдержал Сережка, – а когда мы уедем, вы будете приезжать к нам в гости?
Значит, и он уже знал. Сережка с надеждой смотрел на Решетникова. Наверно, его душа сейчас разрывалась между боязнью потерять друга и вечной ребячьей тягой к новым местам, к путешествиям и железным дорогам. И Решетников не стал огорчать мальчишку.
– Буду, конечно, буду, – сказал он.
«На новом месте Сережка быстро забудет меня…» – думал Решетников.
«Это быстро пройдет. Все пройдет, Митя, вот увидишь…» – так, кажется, говорила Рита?..
ГЛАВА 18В любом сколько-нибудь значительном собрании – будь то симпозиум, конференция или заседание ученого совета – для Евгения Трифонова независимо даже от того, Предстояло ему самому выступать на этом собрании или нет, был один особенно волнующий момент. Преддверие собрания, то, что про себя Трифонов обычно называл «съездом гостей», минуты, которые предшествовали началу заседания, когда по появлению или, наоборот, непоявлению того или иного именитого участника заседания уже можно было судить, какая степень важности придается обсуждаемому вопросу, когда за мимолетными шутками, приветственными кивками, короткими – в две-три фразы – разговорами опытному взгляду, посвященному человеку приоткрывалось то настроение, те позиции, те взаимоотношения, которые потом во многом и определяли ход заседания. И сам Трифонов любил эту атмосферу – смесь озабоченности и неофициальности, деловитости и шутливости, – она невольно придавала ему чувство собственной значительности и необходимости. Ощущение причастности к тому, что принято называть научным миром, которое доставляло ему особое удовольствие еще в аспирантские времена, казалось, и теперь еще требовало постоянного подтверждения и помогало ему преодолевать давнее и глубоко затаенное чувство неуверенности в себе.
– Евгений Михайлович, я вас приветствую!..
– Добрый день, Евгений Михайлович!..
– …ваша статья… там, знаете ли, есть одно очень любопытное наблюдение…
– …Константин Афанасьевич?.. Нет, его не будет… Он же в Англии…
– …утвердили, уже утвердили, как же…
– …двухкомнатная, в кооперативе…
Трифонов знал, что как раз эти минуты нередко оказываются самым удобным, самым подходящим временем, чтобы словно мимоходом, между прочим, решить важное дело, вскользь выяснить чье-то мнение по занимающему тебя вопросу, договориться, обсудить, согласовать… «Умение ориентироваться – вот что придает нам уверенность», – не раз думал он. В конечном счете, это общий закон для всего живого. Жизнь и способность к ориентации неразрывны. Пожалуй, ничто не вызывает у живого существа большей тревоги, неуверенности, чем потеря ориентировки. Иногда Трифонов был не прочь порассуждать на эту тему, – разумеется, скорее шутя, чем всерьез. Но шутки шутками, а умение ориентироваться в этих, казалось бы, случайных разговорах, репликах, взглядах доставляло Трифонову почти физическое наслаждение…
И вот сегодня изменило ему это его умение…
– Да не терзай ты себя так, – сказала Галя, – ну выступил не очень удачно, ну боже мой, смотри-ка, мировая трагедия!
– Откуда ты взяла, что я терзаюсь? – ответил Трифонов. Эта ее проницательность, ее чуткость, ее готовность утешать и защищать его с каждым годом раздражала Трифонова все больше и больше. – По-моему, я никогда не скрывал своего мнения о Новожилове. Я высказал то, что думал, почему я должен жалеть об этом?..
– Хоть меня-то ты не обманывай. Уж как-нибудь я успела изучить твой характер.
Он промолчал. Конечно, она была права. Он был недоволен своим выступлением на ученом совете. Зачем полез? Зачем сунулся? Он и выступал-то без особого напора, так, словно говорил о чем-то само собой разумеющемся, о чем и не могло быть другого мнения. И на тебе! Вот уж поистине – поскользнулся на ровном месте.
Трифонов был раздражен и растерян. Он не любил оставаться в меньшинстве. Впрочем, кто любит оставаться в меньшинстве? Но есть люди, готовые сражаться в одиночку хоть против целого света. Он никогда не принадлежал к таким людям.
Когда-то в юности Трифонов был убежден, что с возрастом сумеет избавиться от мнительности, от внезапно возникающего ощущения опасности, когда опасности вовсе нет, от этой своей проклятой способности терять равновесие, уверенность из-за пустяка, из-за какой-нибудь ничего не значащей мелочи. Впрочем, он сам же однажды полушутя, полусерьезно сказал: «Это сказочки для детей, будто, взрослея, мы учимся преодолевать собственные недостатки, – просто к нам приходит умение прятать их искуснее и глубже». Во всяком случае, с годами его мнительность нисколько не убавилась, скорее, наоборот, он стал еще мнительнее. За сегодняшней историей с Новожиловым ему уже мерещилась надвигающаяся опасность.
Он не сомневался, что сегодня Новожилова прокатят, что не миновать Андрею черных шаров – слишком многим успел насолить этот человек. Эту его убежденность не поколебало даже выступление Алексея Павловича, который – …учитывая положительные стороны, отмечая недостатки, и так далее и тому подобное… – все же предлагал переизбрать Новожилова младшим научным сотрудником. Трифонов был уверен, что Новожилов раздражает Алексея Павловича ничуть не меньше, чем других, и если Алексей Павлович не говорит об этом прямо, то лишь в силу своей интеллигентской деликатности. Достаточно легкого усилия, легкого нажима, и Новожилову придется распрощаться с институтом.
Собственно, ему лично с тех давних пор, как они расстались, как Новожилов покинул свое место за шкафами и перешел в лабораторию к Алексею Павловичу, он не мешал. Но в интересах института, в интересах общей работы… Об этом он, Трифонов, и сказал на ученом совете.
Его выступление было деловым, кратким, чуть-чуть ироничным.
А если говорить о личной заинтересованности, то заключалась она, конечно же, вовсе не в том, чтобы изгнать из института Новожилова, прицел у Трифонова был куда более дальний и тонкий – настолько дальний и тонкий, что даже сам себе он не хотел в нем признаваться.
Та лаборатория, которая некогда задумывалась как лаборатория Левандовского и которой теперь руководил Алексей Павлович, переживала кризис – это ни для кого в институте не было секретом. Сначала распри с Новожиловым, внутренние раздоры, потом работа Решетникова, которая опровергала многое из того, что было сделано Алексеем Павловичем, – кто знает теперь, как сложится дальше судьба лаборатории… Кто знает… И ничего нет невероятного, если в один прекрасный день… Молод? Так что ж, что молод? Есть люди и помоложе его, Трифонова, а уже имеют собственные лаборатории…
И вот поддался искушению, решил, что это сама судьба подбросила ему возможность выступить сегодня на ученом совете, да еще таким образом, чтобы невольно все могли сравнить его и Алексея Павловича…
– Ну, не страдай ты, говорю тебе, ничего страшного не случилось… – Это опять Галя, великая утешительница.
Он и сам прекрасно знал, что ничего страшного не случилось. И все-таки этого просчета, этой ошибки было достаточно, чтобы он упал духом.
– Лучше идем домой, – сказала Галя.
– Иди одна, я останусь. Хочу еще поработать, – сказал Трифонов.
Она пожала плечами:
– Как угодно. Только не засиживайся слишком долго.
Он кивнул.
На самом деле он не намеревался работать, просто у него не было никакого желания всю дорогу до дома выслушивать ее утешения и советы.
Меньше всего ему сейчас нужны были ее утешения. Глухое необъяснимое раздражение нарастало в нем. Как гипертоник реагирует на перепады атмосферного давления, так Трифонов чувствовал едва уловимые изменения в атмосфере института. И то, что произошло сегодня, было для него первым сигналом, первым знаком предостережения.
Он никак не ожидал, что глазным защитником Новожилова окажется Решетников. Выступая после Трифонова, Решетников сказал, что такие люди, как Новожилов, при всех их недостатках, хороши тем, что мешают спокойной, стоячей жизни. И потому те, кого устраивает спокойная жизнь, кто дорожит ею, стараются избавиться от Новожилова. Трифонов возразил, и они схватились в споре так горячо, так яростно, словно вовсе и не Андрей Новожилов был причиной этого спора, словно спорили они о чем-то давнем, словно не было и не могло быть между ними примирения…
…Галя ушла, и тогда Трифонов понял, ради чего стремился остаться один. Услышать голос Тани Левандовской – вот чего он хотел сейчас. Когда написал ей письмо, когда опустил его в почтовый ящик, он дал себе слово, что больше не позвонит ей, не напомнит о себе, если она сама не ответит ему. Она не ответила. Вообще эта затея с письмом была его слабостью, мальчишеством, глупостью.
И звонить сейчас Тане тоже было глупостью. На что он мог рассчитывать? А впрочем, одной глупостью больше, одной меньше, какая разница…
Он был в том подавленном настроении, когда легче всего разрешал себе необдуманные поступки.
Он посмотрел на часы. Скорее всего, Тани уже нет на работе.
Трифонов встал и пошел к телефону. В коридоре было пусто, и телефон, как ни странно, был свободен. Поколебавшись еще немного, Трифонов набрал номер. Он сделал это спокойно, почти не волнуясь.
И растерялся, когда услышал в трубке Танин голос:
– Алло.
Он молчал.
– Я слушаю! – нетерпеливо повторила Таня. Еще секунда – и положит трубку.
– Таня, это я, – сказал Трифонов.
В трубке наступило молчание, словно Тане нужно было время, чтобы узнать его голос.
– Ты? – сказала она наконец. – Тебе повезло, что застал меня. Я уже стояла у дверей.
– По теории вероятности, когда-нибудь и мне должно было повезти, – сказал Трифонов. Он уже обретал свой обычный тон.
– Ты, наверно, обиделся на меня? – сказала Таня.
Он замер от неожиданности. Только что он собирался посмеяться вместе с ней над своим письмом, обратить все в шутку, только что он готовил себя к тому, что она не захочет разговаривать с ним, повесит трубку или скажет холодно: «Я же, кажется, просила…» И вдруг: «Ты, наверно, обиделся на меня?» Да ее ли он слышит?
– Нет, что ты! За что же мне обижаться! – сказал он без особой уверенности. Все еще нереальным казался ему этот разговор, все ждал он, что сейчас выяснится какая-то ошибка, какое-то недоразумение.
– Я чувствую себя виноватой перед тобой. Я должна была тебе ответить, – сказала Таня. – Я несколько раз даже садилась уже за письмо, но у меня не получалось.
Трифонов молчал, боясь неосторожным словом спугнуть ее.
– Ты что сейчас делаешь? – спросила она вдруг.
– Ничего, – сказал он, еще не веря в то, что должно было последовать за этим вопросом.
– Если ты свободен, мы можем сейчас встретиться, – сказала Таня.
«Если ты свободен»!.. Смеется она над ним, что ли! Она говорит об этом так спокойно, словно он никогда и не вымаливал разрешения проводить ее, поговорить с ней, увидеть ее! Уж кто-кто, а Трифонов изучил ее характер, знал ее склонность к неожиданным решениям и резким поворотам, но вот на его долю если и выпадали неожиданности, то всегда только неприятные. И вдруг… «Если ты свободен»!..
А он-то всего несколько минут назад был уверен, что в его жизни опять наступила полоса неудач!
…Они встретились в маленьком кафе-мороженом, в полуподвальчике на Старо-Невском. Трифонов держался несколько нервозно и суетливо, он и сам чувствовал это, но не мог справиться с собой.
– Ты удивил меня своим письмом, – сказала Таня. – Откровенно говоря, я не ожидала, что ты способен на такое…
– Ты всегда меня недооценивала, – с усмешкой сказал Трифонов.
– Но признайся теперь честно: ты еще не пожалел, что написал его? По-моему, ты уже должен был пожалеть. Только честно.
– Есть ли смысл жалеть о том, что сделано? – уклончиво ответил он.
– Ага, значит, пожалел. Я так и думала.
– Какое это имеет значение? – сказал он. – Я готов написать еще сто писем, если в конечном счете они будут приводить нас в кафе-мороженое.
Проклятая привычка! Он и не хотел, а все время сбивался на этот легкий, игривый тон, Таня испытующе посмотрела на него.
– Мне кажется, если бы я решилась исповедаться, рассказать о самом тайном и, как ты пишешь, даже постыдном, а мне бы не ответили тем же, я бы возненавидела или себя, или того человека…
Она была близка к истине, и Трифонов не нашелся что ответить – молча козырял ложечкой белый шарик мороженого. Он испугался, что она сейчас встанет и уйдет. Она вполне могла это сделать. Разговор о письме окончен, она сказала все, что хотела, что считала нужным сказать, – что же еще?..
Но она не встала и не ушла, она осталась, и Трифонов почувствовал, как опять оживает.
Он еще не мог понять, отчего она предложила эту встречу, что толкнуло ее прийти сюда, и сидеть, и разговаривать с ним, но в глубине души он всегда верил, что когда-нибудь наступит такой момент, когда-нибудь пробьет его час – разве малой ценой заплатил он за это?
Украдкой он рассматривал Танино лицо. Ему казалось, что в этом таком своевольно-горделивом и так хорошо знакомом ему лице появились новые черты – тень тревоги и напряженности пробегала по нему.
Трифонов не знал, как себя вести и что говорить. Молчание затягивалось. А Таня словно бы и не замечала этой долгой паузы, она была погружена в своя мысли, но каждую минуту она могла очнуться – он должен был быть готов к этому.
Он испытывал сейчас какое-то смешанное чувство – и надежду, и торжество, и страх.
– Я вот только одного долго понять не могла, – задумчиво сказала Таня, – почему ты просил это твое письмо Решетникову показать. Почему хотелось тебе, чтобы он его прочел? А потом я поняла – ты же и перед ним оправдаться хочешь. Ты каждому своему поступку оправдание ищешь.
– Зачем мне оправдываться перед Решетниковым? – с неожиданным даже для себя вызовом сказал Трифонов. – И в чем? Если уж говорить откровенно, жизнь моя не так уж плохо сложилась и не так уж бесполезно, чтобы ей оправдания искать. Почему мне оправдываться перед Решетниковым? Знаешь, Таня, я как раз недавно обо всем этом думал – в общем-то, я ведь почти всего достиг, о чем мечтал…
– Ну да, – сказала Таня. – Только одна заноза тебе мешала, и ты попробовал ее удалить… Я в детстве знала девчонку, которая испытывала наслаждение, выковыривая занозы. Ты, по-моему, испытываешь что-то похожее…
– Ну уж, ты хочешь приписать мне все смертные грехи, – сказал Трифонов почти весело, хотя совсем не до веселья было сейчас ему. Часто, еще в юности, снился ему один и тот же сон: Таня уходит, а он, как это бывает только во сне, не в силах ни сдвинуться с места, ни окликнуть ее. Второй раз за сегодняшний день поддался он самообману, утратил чувство реальности, чего почти никогда не случалось с ним раньше, – как будто некий безотказный прежде механизм в его сознании вдруг стал давать перебои. Только от одной мысли, что Таня могла догадаться о его надеждах, он почувствовал себя униженным.
– Что касается Решетникова, то мы с ним квиты, – сказал он. – Я выступал против твоего отца по глупости, желторотым студентиком. Решетников делает это теперь, после его смерти, – не знаю, что лучше.
Трифонов понимал, что говорит не то, что опять совершает ошибку, но обида и разочарование не давали ему остановиться.
– Что ты имеешь в виду? – спросила Таня.
– А ты не знаешь? Решетников ничего тебе не говорил?
– Нет, – сказала она.
Таня осталась такой же, как прежде. Даже в мелочах она не позволяла себе лжи. Хотя Трифонов чувствовал: ей было неприятно произнести сейчас это «нет».
– Он не говорил тебе, что опровергает работы твоего отца?
– Нет, – повторила Таня.
– А между прочим, пол-института сбежалось на их лабораторный семинар, чтобы послушать, как он это будет делать. В лаборатории Левандовского опровергают Левандовского – такое нечасто бывает, не правда ли?
– Я не верю, – оказала Таня.
Трифонов пожал плечами.
– Это твое дело.
– Я не верю, – повторила Таня. – Он бы сказал мне. И потом, – он же продолжал папины работы. Для него опровергать их – это то же самое, что опровергать себя.
– Отчасти да, – сказал Трифонов. – Но только отчасти.
– И все-таки он не мог этого сделать! Зачем ему это?
– Зачем? – переспросил Трифонов. – Я тебе объясню, зачем. После долгих и, разумеется, мучительных раздумий человек решается опровергнуть работы своего учителя. При этом, конечно, – ты права – он мужественно признаёт ошибочность прежних своих взглядов. Ты даже не представляешь, как эффектно все это выглядит!







