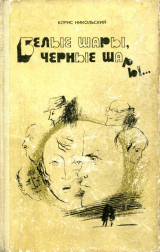
Текст книги "Белые шары, черные шары... Жду и надеюсь"
Автор книги: Борис Никольский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 29 страниц)
ГЛАВА ШЕСТАЯ
Едва Творогов переступил порог своей квартиры, как ему позвонил Александр Николаевич.
Александр Николаевич Боровицын был действительным членом Академии медицинских наук, заведовал крупной лабораторией в одном из научно-исследовательских институтов, а кроме того, четыре года назад, когда Творогов защищал докторскую, был у него оппонентом. Творогов относился к этому человеку с глубоким уважением и симпатией, и неожиданный телефонный звонок Александра Николаевича только обрадовал бы его, если бы Творогов, услышав хорошо знакомый, тихий, чуть грассирующий голос, сразу бы не угадал причины, которая заставила Александра Николаевича снять телефонную трубку и набрать его, твороговский, номер. Значит, Миля Боярышников все-таки добрался до него, все-таки не удержался от искупления «подключить», как он выражался в таких случаях, и Александра Николаевича.
Ох, уж этот Боярышников! Он вроде бы и выслушивает твои советы, и смотрит на тебя верноподданническим взглядом, и кивает, торопливо соглашаясь с тобой, всем своим видом показывая, как впитывает, вбирает каждую твою мысль, каждое твое замечание, а потом все же упрямо поступает по-своему, так, как считает нужным.
Творогов не ошибся. Справившись о его здоровье, о здоровье его жены, подробно расспросив о монографии, об издательских делах, Александр Николаевич наконец, смущенно откашлявшись, сказал:
– Я, собственно, дорогой Константин Александрович, вот по какому поводу решился вас побеспокоить… На днях у вас состоится защита… и защищается человек, судьба которого, как вы знаете, мне некоторым образом небезразлична… Я слышал, будто там возникли какие-то сложности, какие-то трения, не имеющие непосредственного отношения к науке, к научным проблемам, но которые тем не менее могут, вероятно, повлиять…
Творогов чувствовал, как мучительно неловко Александру Николаевичу сейчас произносить все это, чувствовал, что Александр Николаевич, конечно же, догадывается, как неловко в свою очередь выслушивать все это Творогову, однако Александр Николаевич продолжал говорить, а Творогов отвечал ему в том смысле, что «…не стоит волноваться… слухи… склонность к преувеличениям… не надо придавать серьезного значения… разумеется, все, что от него зависит… уверен, все будет хорошо… обязательно учту, Александр Николаевич… нет, нет, не забуду…»
Досадуя на себя, Творогов положил трубку.
Если бы не его интеллигентская уступчивость, если бы не его мягкость, Мили Боярышникова скорее всего вообще не было бы сейчас в лаборатории. Когда однажды, три с лишним года назад, ему вот так же позвонил Александр Николаевич и стал что-то объяснять про место в аспирантуре, которое неожиданно сократили («Жаль парнишку, которому уже обещали… способный юноша… вот и Кирилл Афанасьевич тоже рекомендует… Да вы, может быть, слышали: Боярышников, сын известного Боярышникова, геолога») – у Творогова язык не повернулся произнести «нет», он сказал: «Хорошо, я подумаю».
Хотя в глубине души у Творогова, который всего в жизни привык добиваться сам, своим трудом, всякие устройства по протекции вызывали протест и возмущение, он все-таки не смог отказать Александру Николаевичу. И не оттого вовсе, что опасался таким образом испортить с ним отношения, нет, он достаточно хорошо знал этого человека и был убежден, что, скажи он, Творогов, «нет», – это никак не отразилось бы на расположении к нему Александра Николаевича. Другие опасения помешали ему сказать «нет, не могу». Зная деликатность и мнительность Александра Николаевича, Творогов без особого труда мог себе представить, как болезненно воспринял бы тот подобный отказ, как мучил бы себя потом тем, что поставил его, Творогова, в неловкое положение, заставляя произносить слова отказа. А кроме того, разве этот отказ не выглядел бы так, будто Творогов преподносит Александру Николаевичу своего рода нравственный урок? О, тут возникал целый комплекс чувств, переживаний, их оттенков, различных нюансов, в которых не так-то просто было разобраться… Тогда же, на следующий день, Творогову действительно позвонил Кирилл Афанасьевич, с которым Творогов не был знаком лично, но о котором слышал немало хорошего, и Кирилл Афанасьевич сказал, что уже разговаривал с Антоном Терентьевичем и Антон Терентьевич не против того, чтобы взять Боярышникова, если, разумеется, он, Творогов, не будет возражать… Молодой человек, способный, старательный, настойчивый – вот на это бы слово обратить тогда внимание Творогову! – жаль, если пропадет у него год понапрасну. И Творогов опять ответил «подумаю», прекрасно понимая, что этим своим «подумаю» он не столько оттягивает время окончательного решения, сколько отрезает себе последние пути к отступлению.
Собственно говоря, в том, что он соглашался взять Боярышникова, не было ничего противозаконного. Он имел право выбора, тем более, что и среди тех кандидатов, которые еще до Боярышникова претендовали на место в аспирантуре, не видел он такого человека, на ком бы без колебаний остановил свой выбор. Более того, получалось, что еще неведомый ему Боярышников имел даже несомненное преимущество перед остальными, поскольку рекомендации Александра Николаевича и Кирилла Афанасьевича что-то значили…
Пока Творогов предавался подобным размышлениям, Боярышников Эмиль Петрович, русский, 1950 года рождения, член ВЛКСМ, образование высшее, уже предстал перед ним, уже был тут как тут со всеми своими характеристиками, справками, рекомендациями, дипломами и удостоверениями, заверенными гербовыми печатями. Он преданно смотрел на Творогова выпуклыми, влажно поблескивающими, черными глазами и был робок, застенчив, но даже в этой его робости чудилось тогда Творогову нечто навязчивое: он словно демонстрировал ее, словно выставлял напоказ, как бы насильно пытался подсунуть ее Творогову, чтобы тот заметил и оценил ее. Сразу же Творогов устыдился своей предвзятости, укорил себя за необъективность, и дело было сделано, выбор определен.
Так Миля Боярышников стал аспирантом. К чести его надо сказать, экзамены он сдал неплохо, очень даже неплохо. Но впоследствии, задумываясь над характером этого человека, Творогов не раз приходил к выводу, что тогдашнее его первое впечатление все же не было ошибочным. В характере Боярышникова не было устойчивости, определенности. Он мог быть и робким, и наглым одновременно, податливым и упрямым, храбрым и трусливым едва ли не в один и тот же момент, черты его характера словно бы переливались, неуловимо переходили из одного качества в другое, совершенно противоположное. В иной день он мог работать с утра до позднего вечера и еще выпрашивать разрешение остаться в лаборатории чуть ли не на всю ночь, не забывая, разумеется, привлечь к этой вспышке своего рвения всеобщее внимание, но зато потом этот день служил ему в собственных глазах оправданием вялого ничегонеделания, которое растягивалось порой на неделю, а то и на полмесяца.
Одним словом, приобретение в лице Мили Боярышникова лаборатория получила не ахти какое, это Творогов понял довольно скоро, но отступать было уже некуда: работа Боярышникова стояла в плане, а тут как раз волна всякого рода комиссий и проверок прокатилась по институту и всех прежде всего интересовало, как выполняется план, как соблюдаются сроки подготовки аспирантов, как растут научные кадры – план! план! план! Тот самый план, который они, казалось, так недавно сами обдумывали и сочиняли в лаборатории, который был скреплен подписью самого Творогова, теперь властвовал над ними, приобретя силу закона. Так что волей-неволей, а Творогову приходилось вытягивать Боярышникова. Впрочем, когда он говорил, что диссертация получилась с р е д н я я, не хуже, а может, даже и лучше других, которые предъявляются к защите и защищаются не без успеха, он не кривил душой. Сколько ни просматривал Творогов заново эту работу уже теперь, после того, как взволнованный Боярышников явился к нему домой, он опять приходил все к тому же убеждению.
Единственное, о чем не хотелось ему думать, в чем неохотно, с оговорками признавался он даже самому себе, так это в том, что диссертация Боярышникова была ниже уровня работ, которые обычно выходили из его лаборатории.
«Ну что ж, – повторял он сам себе те оправдания, которые произнес сегодня вслух в кабинете Антона Терентьевича, – не могут быть все работы на одинаковом уровне, нельзя этого требовать. Одна слабее, другая сильнее – это естественно».
Но те слова, которые, казалось ему, звучали вполне солидно в кабинете директора, произносимые теперь мысленно, наедине с самим собой, теряли свою убедительность и лишь раздражали Творогова.
Обычно любая защита, когда защищался его сотрудник, была для Творогова маленьким праздником, маленьким триумфом его лаборатории, а тут, может быть, впервые он втайне жаждал, чтобы все прошло как можно скорее и незаметнее. В глубине души он надеялся, что защита Боярышникова, как и всякая, ничем не примечательная, рядовая защита, не вызовет особого интереса, промелькнет и уйдет в прошлое, забудется, оставшись лишь в протоколах ученого совета да в памяти самого Мили. И надо же, чтобы именно эта диссертация попалась на глаза Синицыну, привлекла его внимание!
Синицын! Все дело было в нем, в Женьке Синицыне. Разве думал бы Творогов так много о Боярышникове и его диссертации, если бы не Синицын?.. А тут еще Лешка Прохоров со своими разговорами! Никак не мог Творогов избавиться от того тягостного чувства, которое осталось в душе после разговора с Прохоровым. С чего это Лешка решил искать в нем своего союзника? Почему вообще – он замечал это не раз – люди самых противоположных взглядов нередко считают его, Творогова, своим? В чем тут дело? Виноваты ли его мягкость, его отзывчивость, его неумение отказать? Или его выдержка, его умение одинаково ровно обращаться со всеми? Или причина в другом – в чем-то гораздо более худшем?.. Когда-то Синицын сказал ему: «Почаще вспоминай старую истину: если у тебя нет врагов, значит ты живешь не так, как следует». Но мало ли что говорил Синицын!
Весь вечер Творогов опять ждал Женькиного звонка. Два раза он даже потихоньку, чтобы не заметила Зоя, подходил к молчавшему телефону и снимал трубку, дабы удостовериться, что аппарат работает. Он сам злился на себя за это ожидание, он говорил себе: небось Женька ходит сейчас по городу и в ус не дует, и думать не думает ни о каком Творогове. Так какого же черта сидеть ему возле телефона?..
Ему вдруг даже пришло в голову: уж не розыгрыш ли вся эта история? Уж не разыграл ли кто-нибудь таким образом Милю Боярышникова, а заодно и его, Творогова? Или, вернее сказать, его, Творогова, а заодно и Милю Боярышникова? Когда-то в студенческие годы умелый, остроумный розыгрыш был у них в великой чести. Не надумал ли кто-нибудь вспомнить те времена? Но кто? Кто мог изобрести такую шутку? У кого мог быть такой точный расчет и прицел? Разве что Вадим Рабинович? Но до того ли ему сейчас, старшему научному сотруднику Вадиму Леонидовичу Рабиновичу? Мало ли у него своих забот, чтобы еще заниматься подобными штучками?
Творогов заставил себя сесть за работу, он неторопливо листал статью, присланную редакцией журнала ему на отзыв, делал выписки, карандашом ставил осторожные пометки на полях, однако мысли его снова и снова возвращались к Женьке Синицыну, к этому упрямому пижону, не желающему набрать его телефонный номер из каких-то одному ему ведомых соображений. А может быть, и нет вовсе никаких особых соображений. «Знаешь, у меня просто не оказалось под рукой двухкопеечной монеты», – скажет потом Женька Синицын, и это будет правдой, это будет вполне в его духе.
И раньше, в те далекие времена, когда они еще были друзьями, их отношения всегда складывались так, что Творогов думал о Синицыне больше, чем Синицын о нем, о Творогове, Синицын играл в его жизни куда более значительную роль, чем он, Творогов, в жизни Синицына. Творогов всегда отчетливо ощущал это.
А почему, собственно, Женька должен звонить? Почему Творогов так уверил себя в этом? С чего бы искать Синицыну встречи с ним? В конце концов, Синицын приехал лишь выступить на защите, и он явится в институт в день защиты, и выступит, скажет свое слово, называя Творогова по имени-отчеству, ничем не выделяя его среди остальных членов ученого совета.
Разве однажды уже не было так? Разве однажды Синицын уже не продемонстрировал ему и свою отчужденность и свою непримиримость?
Тогда судьба свела их на симпозиуме в Риге, и Творогов кинулся было навстречу Синицыну, едва завидев его, готовый и забыть и простить все то дурное, что пролегло между ними, но Женька поздоровался с ним холодно и отчужденно, заставив тем самым Творогова мучительно стыдиться своего порыва, и так и уехал потом, даже не сделав попытки повидаться и поговорить всерьез.
Это была их единственная встреча после того, как Синицын расстался с институтом. Больше Творогов его не видел. Доходили до Творогова слухи, будто уезжал Женька в Сибирь, но не прижился и там, опять не поладил с кем-то. Потом, уже значительно позже, как-то наткнулся Творогов в одном научном журнале на любопытную статью, подписанную мэнээсом Е. Н. Синицыным, – вот и все, что знал он теперь о Женьке Синицыне.
И странное дело – когда он думал о бывшем своем друге, даже теперь, после того, что услышал он от Валечки Тараненко, Женька представлялся ему этаким одиноким скитальцем, этаким перекати-поле, неустроенным правдолюбцем, аскетом и противником быта. Никак не мог он вообразить себе Женьку Синицына женатым, семейным человеком, и уж тем более – женатым на Лене Куприной, на «т в о е й» Л е н е, как сказала Валечка Тараненко…
Такое уж свойство было у Творогова, такая особенность, что все новости из личной жизни своих знакомых, своих товарищей по работе он почему-то, как правило, узнавал последним.
– Это оттого, что я не выношу сплетен, – сказал он однажды Лене.
– Нет, Творогов, это оттого, что тебя мало интересуют окружающие люди, – грустно отозвалась Лена. – Ты умеешь быть одинаково ровным со всеми, ты никого не обидишь, это верно, и потому все считают тебя добрым, внимательным, чутким. А на самом деле ты просто равнодушный человек, Творогов.
Когда возник между ними этот невеселый разговор? Да, кажется, в тот самый вечер, когда Валечка Тараненко и Лена прибежали к нему, обе одинаково взволнованные, возбужденные, встревоженные, – поговорить о Синицыне.
– Ты должен его остановить, Творогов, ты должен сказать ему, что так нельзя, он послушает тебя, вот увидишь, – твердила Валя Тараненко. – Он же сам не понимает, что делает.
Это было незадолго до ученого совета, на котором собирался выступить Синицын.
– Он показывал нам тезисы, которые написал. Ты не представляешь, Творогов, что это такое! – Алый румянец полыхал на щеках Вали Тараненко. – Это какое-то обвинительное заключение, а не тезисы. Он всем, всем недоволен, начиная с того, что мы, мол, называемся биофизиками, а настоящей биофизикой, по его мнению, в нашей лаборатории и не пахнет, и кончая тем, что Маргарита Давыдовна взяла и уже два года держит дома лабораторный фотоаппарат…
– Но она же действительно его держит дома, – сказал Творогов, улыбаясь. Он еще не верил тогда, что все так катастрофично, как представляется Лене и Валечке Тараненко, и ему даже нравилось слегка их поддразнивать.
– Какое это имеет значение? В конце концов, Маргарита Давыдовна уже двадцать лет работает в институте и имеет право!.. Нельзя же быть таким мелочным! – воскликнула Тараненко. – Он же так всех настроит против себя. У него же ни к кому нет уважения! Ты бы посмотрел, что он там пишет о Краснопевцеве!
– Догадываюсь! – сказал Творогов.
– А чего ты смеешься? Чего ты смеешься? – взорвалась Тараненко. – Человека спасать надо, а ты смеешься!
– Кого спасать – Краснопевцева или Синицына?
– Да Синицына же, конечно! Женьку!
Потом уже Творогов сам стыдился этого своего несерьезного тона, тогдашнего своего так некстати приподнятого настроения. Но что он мог поделать с собой: настроение у него действительно в тот момент было хорошее – только что он получил первые обнадеживающие результаты опытов после целой серии неудач. Ощущение удачи, ощущение того, что наконец-то выбрался он на верный путь, поглощенность своей работой еще не отпускали его.
– Синицын – взрослый человек, чего его спасать, пусть поступает так, как считает нужным, – сказал Творогов.
– Ты – равнодушный человек, Творогов! – сказала Тараненко. Да, это она первая произнесла это слово. Но, произнесенное Валечкой Тараненко, оно скользнуло незаметно мимо Творогова, не задело его так болезненно, как потом, когда он услышал его от Лены.
– Тебя не волнует судьба товарища, судьба всего нашего коллектива!
Тараненко так и ушла тогда, вся пылая от возмущения, уже не надеясь больше на помощь Творогова и вынашивая свой собственный план спасения Женьки Синицына.
Вот тогда-то Лена Куприна и сказала Творогову те поразившие его слова:
– Да они же любят друг друга, ты, что, не видишь?
Она произнесла эту фразу с досадой, с каким-то затаенным страданием, как будто упрекала Творогова в чем-то, что было известно ей одной. Творогов смотрел на нее, изумленный:
– Валечка Тараненко и Женька?!
– Ну да, Валечка Тараненко и Женька, – сказала Лена. – Ну что ты за странная личность, Творогов! Изумляешься тому, что всем давным-давно известно.
– Это потому, что я не выношу сплетен, – сказал Творогов.
– Нет, Творогов, это оттого, что тебя мало интересуют окружающие люди. Валечка права.
Они чуть не поссорились в тот вечер. Творогов чувствовал, как что-то рвется, рушится в их отношениях, как все отдаляется и отдаляется от него Лена, и не мог понять, отчего это происходит, в чем причина. Еще недавно они, кажется, ни к чему так не стремились, как только бы остаться вдвоем, наедине друг с другом, а теперь Творогов терялся, испытывал неуверенность, не знал, как вести себя, – оттого что не мог угадать, как поведет себя в следующий момент Лена. Чувствовала ли она его раздвоенность, его метания, резкие переходы его настроения – от эйфории, от надежды, что все может уладиться, устроиться со временем само собой, неким чудесным образом, к ощущению безвыходности сложившейся ситуации, чувствовала ли она все это, или причина была в ином? Но так или иначе что-то менялось в ее отношении к Творогову, и он то впадал в отчаяние, то, мучительно стыдясь, вдруг испытывал облегчение оттого, что все и вправду может решиться с а м о с о б о й, что не он ей, а она причиняет ему боль, отдаляясь от него.
– Знаешь, Костя, – неожиданно сказала Лена, заглядывая ему в глаза. – Если вы все перессоритесь, если станете врагами друг другу, я ведь уйду из института, я не смогу здесь работать, честное слово. Что ты на меня так смотришь, я не преувеличиваю!
– Да с чего ты взяла, Лена? Какими врагами? Кто?
Она покачала головой, словно и не слышала его слов.
– И вообще, взял бы ты меня отсюда, пока не поздно, Творогов. Скажи ты мне сейчас: брось ты всю эту науку, уйди из лаборатории, стань моей женой, и уйду ведь, все брошу, слышишь, Творогов?
Теперь-то, оглядываясь назад, вспоминая тот вечер, Творогов понимал, что вовсе не минутным настроением, не мгновенным капризом, как показалось ему тогда, были вызваны эти ее слова. Теперь-то он понимал, как много значил для нее в ту минуту его ответ. Но тогда, как ни странно, его покоробила эта ее готовность с такой легкостью, пусть даже ради него, Творогова, пожертвовать наукой, лабораторией, работой, всем тем, что было так дорого и свято для самого Творогова, без чего уже не представлял он настоящей жизни.
– Да что у тебя за настроение, Лена! – сказал он. – Тебя же ценят, с тобой считаются. Куда тебе уходить, зачем?
Почему некоторые вещи, казалось бы, такие очевидные, мы начинаем понимать лишь много времени спустя, почему не можем оценить их и понять именно в тот момент, когда это более всего необходимо? И сегодня еще запоздалый стыд корежил Творогова, когда он вспоминал свой тогдашний тон, свой тогдашний ответ Лене. А она? Что должна была испытать она в ту минуту?
– Да, ты прав, – сказала она холодно, и лицо ее сразу увяло, поблекло, – не обращай внимания на мои слова. Я пошутила. Сама не знаю, что на меня нашло, что у меня за настроение такое сегодня… Просто я нервничаю из-за всей этой истории… Мне всех почему-то жалко. Мне и Федора Тимофеевича жалко, он ходит расстроенный, я же вижу, осунулся даже, переживает, и Женьку жалко, и Валечку Тараненко… Я же всех вас люблю, Костя, я правду говорю: если вы перессоритесь, я этого не вынесу… Ты все-таки поговори с Женькой, ладно?
– Конечно, поговорю, – поспешно согласился Творогов. – Разве я отказываюсь? Я и сам собирался. Обязательно поговорю.
Он выполнил свое обещание. И тогда же, на следующий же день поговорил с Женькой Синицыным. Он сделал все так, как обещал Лене, и не его вина, что из этого ничего не получилось.







