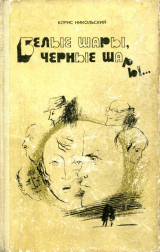
Текст книги "Белые шары, черные шары... Жду и надеюсь"
Автор книги: Борис Никольский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 29 страниц)
Ах, бог ты мой, как давно не собирались они все вместе, как давно! Казалось, и песни те уже не припомнить, что пели они когда-то на беззаботных студенческих вечеринках! И забыты уже пылкие клятвы-обещания, что давали они друг другу на выпускном вечере, – кто-кто, а кружковцы Левандовского навсегда останутся верны студенческому братству! Разнесло, разъединило их стремительное течение времени – теперь разве что встретятся случайно в библиотеке, столкнутся в коридоре института, торопясь на семинар или симпозиум, перебросятся на ходу несколькими фразами: «Ну как? Ты все там же?» – «А ты?» – «Кого видел из наших?» – и все, и «пока», до следующей торопливой встречи… Казалось, все дальше и дальше уходят они друг от друга.
А вот сошлись сейчас, слетелись ко первому зову, собрались, как бывало, в тесной квартирке у Фаины Григорьевны, – и словно не было этих нескольких лет, словно вернулись опять студенческие времена.
И как тут не расчувствоваться, когда Решетников помнит Фаину Григорьевну еще с первого курса, да что там с первого курса – он еще и студентом-то не был, когда познакомился с ней. Он только поступал на биофак, а она уже работала ассистенткой у Левандовского. Она состояла в приемной комиссии, она беседовала со вчерашними школьниками, с теми, кто приносил сюда свои документы, она рассказывала им о факультете, и в глазах Решетникова она была тогда представителем того мира – мира исследователей и ученых, к которому ему предстояло прикоснуться. Это теперь он видят, что, маленькая, полная, суетливая, она больше похожа на добрую хозяйку, заботливую мамашу большого семейства, чем на исследователя, научного работника, а тогда он смотрел на нее совсем иными – восторженными и почтительными – глазами. Впрочем, надо отдать должное, и сейчас за лабораторным столом она чувствует себя увереннее, чем на кухне, возле плиты. Но, как всякая женщина, которой мало приходится заниматься хозяйством, она особенно гордится своими кулинарными способностями. И когда приходят к ней гости, она хлопочет и суетится за троих.
Фаина Григорьевна из тех женщин, кто привык опекать, поддерживать, помогать. И наверно, оттого, что она одинока, что у нее нет своей семьи, всю свою доброту и заботливость она отдавала студентам.
– Ах, Фаиночка, Фаиночка, у вас есть только один недостаток, – кричит из комнаты в кухню Саша Лейбович. – Вы хотите знать, какой? Дайте мне бутерброд досрочно, и я вам скажу.
Все они для Фаины Григорьевны так и остались Митями, Сашами, Валями, а она для них – по-прежнему Фаина Григорьевна, и знают, что, может быть, даже приятнее ей было бы, если бы называли ее проще, по имени, может быть, чувствовала бы она тогда себя моложе, такой же, как все они, а вот язык не поворачивается, привычка, ничего не поделаешь. Только один Сашка Лейбович, бесцеремонный парень, уже на пятом курсе подкатывался к ней, как к равной, – Фаиночка, Фаиночка… А теперь уж и подавно.
– Обрати внимание, – говорит он Решетникову. – Сейчас я получу бутерброд вне всякой очереди. Люди гораздо дороже готовы платить за то, чтобы узнать свои недостатки, чем свои достоинства. Причем, увы, отнюдь не для того, чтобы их исправить. А знаешь, для чего? Для того, чтобы опровергнуть. Только намекни человеку, что ты знаешь его недостаток, и он будет ходить за тобой как привязанный, до тех пор, пока не выведает, что́ именно ты имеешь в виду. Будет смотреть на тебя глазами, полными ненависти, но будет ходить, как на веревочке.
– Какой ты злой, Лейбович! – укоризненно говорит Валя Минько. Сердиться она совсем не умеет, и глаза сразу выдают ее – они и сейчас светятся мягкой лаской. В студенческие времена она была неизменной старостой группы, и эта ее должность причиняла ей немало мучений. Она вечно разрывалась между необходимостью честно выполнять свой долг и боязнью причинить неприятности своим товарищам.
– Почему ты такой злой?
– Я не злой, Валечка, – кротко отзывается Лейбович, – я умный.
Пожалуй, никто в университете не доставлял ей столько забот и волнений, сколько Саша Лейбович. Ему ничего не стоило проспать, опоздать, пропустить лекцию. И никогда он не считал себя виноватым. Все кругом были виноваты, только не он. «Эта лекция меня совершенно не интересует, – заявлял он. – Объясни мне, Валечка, зачем я должен идти на лекцию, которая мне ничего не дает. Объясни, докажи, и я сразу стану образцово-показательным студентом». И Валя терялась перед ним. «Нужно же, – говорила она. – Если все начнут нарушать дисциплину, что тогда будет? Все же ходят, а ты что, умнее других? – «Значит, умнее», – скромно соглашался Лейбович. Никогда ей было его не переспорить. И, страдая, изводя себя угрызениями совести, она отмечала, что Лейбович присутствовал на лекции.
Фаина Григорьевна приносит тарелку с бутербродами, и Лейбович торжествующе подмигивает Решетникову. Он ест, рассыпая крошки на свой поношенный серый свитер и на брюки, и говорит Фаине Григорьевне:
– Фаиночка, теперь я открою вам ваш недостаток. Вы слишком легковерны. Вы сразу поверили, что у вас есть недостатки, а на самом деле их у вас нет.
Фаина Григорьевна смеется, смеются и Решетников и Валя Минько.
Ох уж этот Сашка Лейбович, умеет вывернуться, ничего не скажешь.
– Да-а… Кажется, мама Лейбовича не ошиблась. – Это подал свой голос Андрей Новожилов. До сих пор он помалкивал, сидел на диване, листал журналы, а тут не выдержал. Они с Лейбовичем старые соперники – их хлебом не корми, дай попикироваться. – Вы знаете, когда мама Лейбовича привела своего Сашу в университет, она сразу покорила приемную комиссию тем, что напрямик сказала: ее сын – очень способный мальчик и далеко пойдет. Было такое, Фаина Григорьевна? Было?
– А ты, трифоновский соратник, лучше помалкивай! – сразу отзывается Лейбович. – Или думаешь, шкафами от Трифонова отгородился, так до тебя и трифоновские вирусы не долетают?..
– А помните, как Лейбович уснул на лекции по ихтиологии? Тогда еще Радзиевский читал курс – сколько ему уже было – лет восемьдесят? Так он спустился с кафедры, подошел к Лейбовичу, долго рассматривал его сквозь пенсне, а потом таким нерешительным, растерянным голосом спрашивает: «Товарищи, мне кажется, этот человек спит?» Что тут было!
– А помните, как Валя сдавала экзамен по беспозвоночным и выучила весь учебник наизусть вместе с допущенными опечатками? Так и шпарила: на странице двадцать восьмой вместо слова «насикомое» следует читать «насекомое»…
– И неправда, неправда, не было такого!
– А помните, как мы в первый раз сдавали зачет Левандовскому?.. Почему-то его особенно боялись, правда? Помните, тогда еще говорили, будто Левандовский разрешает готовиться по книгам, по конспектам, а потом самым распрекрасным образом ставит в тупик дополнительными вопросами, проваливает почем зря, – мол, для него самое важное – это проверить способность к самостоятельному мышлению. Помните, как мы все тряслись тогда? А самым хитрым Решетников оказался – он тогда со страху влюбился в дочь Левандовского.
– Точно! Мы еще романс тогда сочинили. – И Лейбович, откашлявшись, пропел:
Он был лишь студент-третьекурсник,
Она – Левандовского дочь.
Он робко в любви объяснился,
Она прогнала его прочь!
– Ребята, ребята, такими вещами не шутят! – забеспокоилась Валя. – Решетников, скажи им, чтобы прекратили!
– Так им только скажи! – усмехнулся Решетников. – Они и косточек не оставят! Это же, Валечка, типичные крокодилы. Им только попадись на зуб.
Кажется, примерно эти же слова сказал он Тане, когда первый раз пришли они вместе на студенческую вечеринку и Сашка Лейбович, дурачась, спел под гитару этот романс…
– А вы тогда здорово подходили друг другу… Мы все на курсе были уверены, что скоро свадьба… – тихо, так, чтобы слышал один Решетников, сказала Валя. Ах, чуткий человечек Валя Минько! Как она угадала, что ему хочется сейчас поговорить о Тане?
– Я до сих пор не могу понять, почему у вас все распалось…
– А ты думаешь, я понимаю? – сказал Решетников.
Валя смотрела на него своими внимательными ласковыми глазами, и он почувствовал, что сейчас она спросит: «Ну, а теперь что? Как Таня?» Но она не спросила. Поняла, что не надо спрашивать об этом.
А тут уже и Лейбович нетерпеливо воззвал от стола:
– Решетников! Минько! Сколько же можно секретничать! Салат уже теряет свои вкусовые качества!
Бутылка сухого вина возникла на столе, и, когда все расселись, когда вино было разлито по рюмкам, Валя Минько сказала:
– Ребята, давайте помолчим немножко. Давайте подумаем, как давно мы уже не собирались. И как хорошо, что мы опять вместе.
– Гип-гип ура! – сказал Лейбович.
– За лабораторию Левандовского! – сказал Решетников.
Они были еще так молоды, что им доставляло удовольствие подсчитывать, сколько лет они не собирались вместе, что слово «давно» еще не имело для них грустного смысла.
Позавчера, когда Решетников шел с вокзала вместе с Левандовским и Таней, Василий Игнатьевич сказал ему:
– У вас сейчас самый счастливый возраст. Дорожите временем.
И верно – кажется, никогда еще не чувствовал Решетников такого подъема, такого прилива сил, такой счастливой уверенности. Жизнь хороша, что бы там ни было! Даже та горечь потери, та боль, которую он испытал тогда поздно вечером, думая о Тане, – и она не могла сделать его несчастным. Наоборот, от этого только усилилось, стало еще острее ощущение полноты жизни…
По характеру своему Решетников был малообщителен, неразговорчив, знакомство с новыми людьми давалось ему с трудом, и потому тем больше ценил он такие минуты, когда оказывался в кругу своих, близких и давно знакомых, с кем чувствовал себя легко и просто. Он мог говорить, мог молчать – он знал, что никто не обидится на него, никто не истолкует неверно его молчание.
А разговор за столом между тем свернул к новой лаборатории, заговорили, заспорили о штатах, о помещении, об оборудовании. И все чаще всплывало теперь, звучало в этой комнате имя Левандовского.
– Василий Игнатьевич, он сумеет…
– Уж если Василий Игнатьевич возьмется…
– Знаете, что мне больше всего нравится в Василии Игнатьевиче? Настойчивость его, упорство. Он от задуманного не отступит. И легкой дорожки искать не будет. Помню, ему уже под пятьдесят было, доктор наук, профессор, а не постеснялся вместе со студентами ходить слушать лекции по физхимии…
– Вот-вот, кое-кому из наших товарищей не мешало бы последовать этому примеру! – сразу оживился Андрей Новожилов. Он не терпит пустых разговоров, всякого, как он выражается, суесловия и болтологии, но зато когда речь заходит о науке, о работе, Новожилов распаляется мгновенно. – А то мода теперь пошла: каждый норовит себя биофизиком назвать. Звучит! А какой он, к черту, биофизик, если даже в физике электричества ничего не смыслит? Чем, например, хороший шахматист от плохого отличается? Тем, что он внутреннюю суть позиции улавливает, развитие ее чувствует, а не просто деревяшки передвигает. Так и биолог. Суть процесса понимать надо. А просто ток через мышечные волокна пропускать да снимать показания приборов – это, извините меня, любой школьник сумеет. Нет, в нашей лаборатории все должно быть на современном уровне!
– Отлично сказано, борода! – воскликнул Лейбович. Сразу видно, он еле дождался своей очереди вставить слово. Глаза его смиренно опущены вниз, полуприкрыты редкими белесыми ресницами, но нетерпеливый, насмешливый огонек так и сверкает в них. – И обратите внимание, товарищи, – какая глубина мысли! Кстати, вчера в «Вечерке» было объявление: студия «Ленфильм» для съемок в фильме «Анафема» приглашает молодых мужчин с выразительной внешностью. Пошел бы, Андрюша, а? Сыграл бы там какого-нибудь проповедника или монаха. Факультет бы прославил.
– Только вместе с тобой. Я – проповедника, а ты – клоуна. Ну что у тебя за привычка такая – никогда нельзя серьезно поговорить. Вечно цирк устраиваешь!
– Андрюша, непременно скажи твоей маме, что она тебя плохо воспитала. Кто же ведет за столом разговоры о делах! За столом должна вестись легкая, непринужденная, остроумная, изысканная беседа. Беседа логически завершается тостом. Демонстрирую образец. Приезжаю я как-то, друзья мои, на Черноморское побережье, в город Батуми. Захожу в шашлычную. Подходит моя очередь, протягиваю деньги, продавец мне говорит: «Погоди, кацо, шашлык еще не дожарился». Стою, жду. Тем временем через мою голову продавцу суют деньги, а шампуры с шашлыком уплывают у меня под носом. «А мне?» – спрашиваю. «Погоди, кацо, я же сказал тебе: шашлык не дожарился. Или ты будешь есть сырое мясо?» – «Нет, – говорю, – не буду». Стою, жду. История повторяется. Тут я не выдерживаю, начинаю возмущаться. «Это почему же, – говорю, – для меня шашлык не дожарился, а для других дожарился?! Это что за безобразие! Дайте жалобную книгу!» – «Ай, ай, как нехорошо, дорогой! – отвечает мне продавец. – Зачем сердишься? Я тебя хочу угощать самым вкусным шашлыком, а ты сердишься. Знаешь, какой шашлык самый вкусный? Тот шашлык самый вкусный, которого долго ждешь!» А что, ребята, разве не мудро? Погодите, погодите, аплодисментов не надо. Моя речь еще не закончена. Я ведь к чему клоню. Мы долго ждали, когда будет создана наша лаборатория. И тем радостнее нам теперь, когда это долгое ожидание завершилось, когда лаборатория открывается! Так давайте поднимем тост за шашлык, которого долго ждешь!
Все засмеялись, Фаина Григорьевна захлопала в ладоши, и снова начался за столом общий беспорядочный разговор, веселый и сумбурный, с бесконечными «А помнишь?..», «Нет, а ты помнишь?..». Потом они пели студенческие песни – те, без которых не обходился раньше ни один курсовой вечер, ни одна праздничная демонстрация, – и с особым чувством, с особым значением, растроганно глядя друг на друга и стараясь скрыть эту растроганность, пели они:
Я не знаю, где встретиться
Нам придется с тобой.
Глобус крутится, вертится,
Словно шар голубой…
Вот и встретились они, вот и встретились – словно и правда вернулись, собрались все вместе после долгих экспедиций и далеких путешествий…
В передней раздался звонок – кто-то еще спешил разделить с ними их торжество, их веселье. Фаина Григорьевна пошла открывать дверь.
– Смотрите, кто пришел! – радостно-удивленно воскликнула она, возвращаясь.
За ее спиной стоял Глеб Первухин.
Вот уж кого действительно очень давно не встречал Решетников – так это Глеба Первухина. Чуть ли не с того самого дня, как Глеб, единственный со всего их курса, еле вытянул диплом на тройку и исчез, только появился еще на государственных экзаменах, а так даже в выпускном вечере не захотел принять участие.
– Привет! – сказал Глеб. – Извините, если я ворвался некстати.
– Да что ты, Глебушка! – заволновалась Фаина Григорьевна. – Какой может быть разговор! Проходи, садись.
– Нет, я чувствую, что я некстати, – упрямо повторил Первухин.
Он был заметно пьян. Лицо его осунулось, глаза покраснели, длинные пряди волос небрежно свисали к ушам.
– Брось, Глеб, ломаться, – сказал Новожилов, – тут все свои люди. Садись.
– Правда, Глеб, как замечательно, что ты пришел, – сказала Валя Минько. – Именно сегодня! А еще говорят, что нет телепатии.
– А я, понимаешь, Митя, тебе позвонил. Мне твоя тетушка сказала, что ты здесь. Ну, я и пришел.
– Вот и хорошо, вот и хорошо, – все суетилась возле него Фаина Григорьевна. – Рассказывай, Глеб, что ты, как ты? Мы же почти ничего о тебе не знаем. Разве так можно – скрылся, законспирировался, даже не позвонишь. Кем ты хоть работаешь, где?
– Кем работаю? – сказал Первухин и усмехнулся. – Я работаю заготовителем трупов.
Последние два слова он произнес раздельно, почти по складам, и обвел всех взглядом, словно проверяя произведенный эффект.
– Ну и шутки у тебя… – поморщился Решетников.
– Что, не нравится? А я не шучу. И ты, Минько, на смотри на меня так умоляюще, не надейся, что я пошутил. Я сказал по-русски: я работаю заготовителем трупов. Есть такая должность. Работаю в одном медицинском учреждении, учреждению этому для исследований нужны трупы, ну вот я и езжу по моргам… Ничего себе работенка, правда?
– Ну конечно, Глебушка, – сказала Фаина Григорьевна, – только…
– Что только? Ну что – только?
– Ты же все-таки университет кончил. Мог бы найти работу поинтереснее…
– А зачем?
– Ну как зачем?.. Чтобы получать удовлетворение от работы… Применить свои знания…
– Нет, а я спрашиваю: зачем? Чтобы поддакивать таким подлецам, как Женька Трифонов? Или самому стать вроде него?
– Будто уж других путей нет, – сказал Новожилов.
– А есть? Вот вы тут собрались, празднуете, ликуете оттого, что Левандовский опять в силу входит. А на то, что, когда Левандовский ваш в зените славы, так сказать, был, он всех своим авторитетом давил, против него никто пикнуть не смел, – на это вы глаза закрываете?
– Глеб! – предостерегающе, испуганно воскликнула Фаина Григорьевна.
– Ладно, ладно, не буду трогать вашу святыню. Я только одно хочу сказать: мне надоело. Надоело! Сегодня Левандовский, завтра еще кто-то, сегодня одно, завтра другое, а где истина? У вас у всех ужасно умные лица, вы делаете вид, что всё понимаете, что во всем можете разобраться, а я не могу… И прямо говорю об этом. Но этого-то вы все и не хотите мне простить. Мне и тройку за диплом вкатили только оттого, что я честно…
– Не говори ерунды! – оборвал его Новожилов. – Ты получил тройку за диплом вовсе не потому, что был честен, а потому, что это была никуда не годная работа. И нечего этим кичиться. И нечего прикрывать свою лень высокими словами.
– Ладно, какая разница, – махнул рукой Первухин. – Дайте выпить.
Решетников никогда не любил Первухина, было в этом человеке что-то от юродивого. И бегающие, уходящие от прямого взгляда глаза, и вечно потные, холодные руки, и перхоть на пиджаке – все это создавало ощущение какой-то болезненной нечистоплотности. Но сегодня Решетников за всей этой юродивостью, за всей этой жалкой бравадой видел просто неприкаянного и – вероятнее всего – больного человека. Сегодня, как никогда раньше, ему хотелось, чтобы всем вокруг было хорошо, чтобы никто среди них не чувствовал себя несчастливым и обойденным.
И еще одно странное совпадение занимало сейчас Решетникова: позавчера Левандовский говорил с ним почти о том же, о чем говорил сегодня Первухин. «Знаете, Дмитрий Павлович, – сказал тогда Левандовский, – у меня было достаточно времени, чтобы подумать о своей жизни. И теперь я вижу, что во многом нам надо винить самих себя. Мы были слишком яростны и нетерпеливы в утверждении истины, слишком категоричны, мы были слишком нетерпимы к своим противникам, к тем, кто не соглашался с нами. Мы сами подготовили и вспахали эту почву. Почву, на которой потом с такой легкостью взросли лжеавторитеты и администраторы от науки. В науке нельзя быть нетерпимым, запомните это, Дмитрий Павлович…»
Глеб выпил рюмку вина, по-прежнему стоя.
– Прощайте, – сказал он. – Не смею больше надоедать вам.
– Куда же ты, Глеб? – засуетилась опять Фаина Григорьевна. – Посидел бы еще, чаю бы выпили.
– Нет, – сказал Первухин многозначительно. – Я привык внезапно возникать и исчезать так же внезапно. Прощайте.
Он быстро повернулся и вышел из комнаты. Хлопнула дверь.
– Принюхайтесь! – скомандовал Лейбович. – Быстро принюхайтесь!
– Что такое? – всполошилась Фаина Григорьевна. – Что-нибудь горит на кухне?
– Да нет же, – сказал Лейбович. – Неужели вы не чувствуете? Пахнет серой. Захудалой серой третьего сорта.
Вот что неоценимо в Лейбовиче – так это умение пошутить в нужную минуту. Сострил – и сразу стало исчезать, развеиваться тягостное чувство, тот неприятный осадок, который остался после ухода Первухина. Только Фаина Григорьевна вздохнула и сказала с грустью:
– Жалко парня. Есть люди, призванные напоминать нам, что мир пока не так гармоничен, как хотелось бы… Глеб принадлежит к их числу.
– Не надо было отпускать его, – сказала Валя Минько. – Куда же он пойдет сейчас?..
– Ребята, хотите еще один сюрприз? – спросил Андрей Новожилов. И, не дожидаясь ответа, щелкнул переключателем телевизора.
В следующую минуту в комнате зазвучал голос, чья медлительно-тягучая интонация была так хорошо знакома Решетникову:
– …нам представляется, что наибольшего внимания заслуживает… работа ученика девятого «б» класса… – а затем на маленьком экране телевизора всплыло лицо Евгения Трифонова.
Как безукоризненно, как великолепно выглядел он на экране! Молодой ученый. Талантливый ученый. Ученый, подающий надежды. Лицо, исполненное значительности, белые манжеты, темный, тщательно отглаженный костюм.
– Да выключи ты эту нудь! – крикнул Лейбович. – Неужели он тебе в лаборатории не надоел?
Новожилов повернул переключатель, и звук исчез. Трифонов продолжал что-то говорить. Беззвучно шевелились его толстые, мягкие губы. Они то округлялись, то растягивались, то сжимались. И все, кто был сейчас в этой комнате, молча, в полной тишине смотрели на этот беззвучно шевелящийся рот.
– Прямо сюрреализм какой-то, – сказала Валя. – И смешно и не по себе как-то, жутковато даже.
– Ишь как старается! – усмехнулся Новожилов.
– Вот бы на собрании так, – мечтательно сказал Лейбович. – Нажал кнопку и отключил оратора.
Решетников смотрел на экран. Лицо Трифонова уже исчезло из кадра, и теперь на экране возник узкоплечий, задумчивый мальчик. Ученическая куртка была мала ему, казалось, он готовился выбраться из нее, как цыпленок из скорлупы, его руки с большими кистями неуклюже торчали из коротких рукавов. Чем-то давним и знакомым повеяло вдруг на Решетникова.
А камера уже опять вернулась к Трифонову. Только теперь он молчал, он сидел неподвижно, погрузившись в свои мысли, глядя прямо перед собой. Он словно забыл, что его снимают. О чем он думал?.. Что вспоминал?..
Лицо его изменилось, ушло выражение значительности, и оно вдруг стало похоже на лицо того Женьки Трифонова, с которым сидел когда-то Решетников за одной партой…




