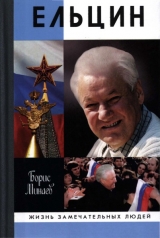
Текст книги "Ельцин"
Автор книги: Борис Минаев
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 55 страниц)
Слухи о том, что Гришин доживает последние недели, быстро разнеслись по Москве.
Ельцин начал заниматься делами города уже осенью 1985 года.
«Новый заведующий строительным отделом ЦК, – пишет в своих мемуарах Владимир Ресин, который при Лужкове долгие годы возглавляет строительную отрасль столицы, – пристально следил за делами в Москве и заметил: начальника “Главмосинжстроя” (то есть Ресина. – Б. М.) Московский городской комитет партии утвердил без его ведома, не согласовав вопрос в ЦК. Так я попал между молотом и наковальней, между Гришиным и Ельциным.
Моя карьера чуть было не закончилась. Ельцин не хотел меня утверждать, потому что формально нарушен был ряд процедурных моментов, соблюдаемых при выдвижении руководящих кадров. Но причина, конечно, была глубже, пока мало кому известной».
Ресин встретился с новым заведующим строительным отделом ЦК и вместо десяти минут проговорил с ним час. В конце встречи Ельцин сказал: «Я к вам приеду!»
«Мы проехали в его большом черном “ЗИЛе” по многим районам и объектам. Ельцин спрашивал, сколько работает членов партии и комсомольцев, сколько москвичей и иногородних, так называемых лимитчиков. Их Москва принимала по лимиту, выделяемому заводам и стройкам по решению инстанций.
Ельцин интересовался, сколько у нас холостяков и семейных, сколько людей с высшим и средним образованием, где рабочие повышают образование, учатся. Конечно же, спрашивал о заработках.
Мы пообедали в заводской столовой и продолжили объезд. В тот день я понял: это наш будущий первый секретарь МГК».
Далее Ресин подробно описывает механизм, с помощью которого Горбачев поменял в Москве «хозяина города»:
«В органе ЦК КПСС газете “Советская Россия” появилась критическая статья, разорвавшаяся как бомба. В ней утверждалось, что дела на стройках Москвы идут плохо. По “сигналу” печати к делу по решению ЦК подключился Комитет народного контроля СССР. Его сотрудники насобирали компромат: искажение государственной отчетности, “очковтирательство”, нарушение установленного правительством порядка приемки в эксплуатацию жилых домов… Началась шумная борьба с приписками, недоделками, низким качеством. То был сигнал, что Виктору Васильевичу Гришину пора уходить со сцены.
…Пленум горкома партии единогласно избрал первым секретарем МГК Бориса Николаевича Ельцина. Тогда я услышал его в Колонном зале Дома Союзов. Он выступил на городской партконференции с отчетом МГК КПСС, которым до того не руководил.
Ельцин, как никто до него, уделил в отчетном докладе много места реконструкции столицы. Он признался, что не решен в принципе вопрос – как и куда развиваться городу. Тогда всем собравшимся в Колонном зале московским руководителям стало ясно, почему из Свердловска первого секретаря обкома перевели на второстепенную должность заведующего строительным отделом ЦК…»
Знал ли Ельцин о том, что ему предложат возглавить столицу в тот момент, когда уезжал из Свердловска? Нет. Это подтверждает и Наина Иосифовна – «нет, не знал». Должность секретаря ЦК по строительству его вполне устраивала, он собирался работать на ней долго. Я привожу эту версию Ресина лишь для того, чтобы подчеркнуть: назначение Ельцина первым секретарем Московского горкома было абсолютно неожиданным, оно многим казалось нелогичным, сенсационным.
В феврале 1986 года на XXVII съезде КПСС Борис Николаевич Ельцин был избран кандидатом в члены Политбюро.
…На всех своих работах он привык сначала детально, тщательно изучать место, по-строительному – «объект», по-военному – поле предстоящей битвы. В данном случае «место» было громадным, сложным и запутанным.
Красивый, но сильно обветшавший центр, перегруженные магистрали, грязные улицы, одинаковые спальные районы, заводские корпуса, торчавшие тут и там без всякой системы, пустыри, бесконечные заборы и какая-то печать суетливой запущенности на всем.
Он не мог привыкнуть к Москве. Пытался вжиться, войти в нее, как простой прохожий, пешеход, – и не мог.
…«Разведки боем», вроде той, которую он провел с Владимиром Ресиным (с восьми утра до десяти вечера), были в его практике не единожды. Как-то раз пересел из удобного ЗИЛа в московский троллейбус, в самый час «пик». Растерянная охрана пыталась оттеснить от него «простых москвичей», штурмующих двери на остановке. И не смогла. Высокого, мощного Ельцина стиснула толпа ошалевших от давки пассажиров. Проехав несколько остановок, он с трудом прошел к выходу.
Первое открытие, которое сделал: Москва перегружена людьми. Перегружено всё: транспорт, магазины, школы, детские сады, больницы, очередь на жилье возрастает с каждым годом.
Причина – «лимитчики». Их неубывающий поток. Артерии города закупорены. Не хватает самого необходимого. Общежития, в которых жили люди с временной пропиской («лимитчиков» набирали не только московские строительные тресты, но и все крупнейшие заводы, автобусные парки, жилконторы, милиция), поражали своей запущенностью и неустроенностью. Люди ютились в них годами, порой в антисанитарных условиях, даже не мечтая о сносном жилье. Старый жилищный фонд – тоже в плачевном положении.
Это, как строитель, он отметил сразу.
Генеральный план развития Москвы – первое, с чего начал Ельцин в качестве столичного градоначальника. Разработками нового генплана, которые начали делать при Ельцине, еще долго пользовались новые руководители Москвы.
Но планы планами, а ограничить въезд в Москву привозной рабочей силы он хотел уже сегодня, сейчас. Все возрастающий поток «лимитчиков», по мнению нового первого секретаря позволял московскому руководству прикрывать низкую производительность труда, неэффективность капиталовложений. Это и стало лейтмотивом его первых атак на московскую рутину.
Вопрос о неэффективности производства не был новостью для московских руководителей: из года в год они слышали с высоких трибун одну и ту же песню. Но он впервые был поставлен настолько остро и настолько грозно. Ельцин связал два понятия воедино. «Лимита» – бесправная, забитая, полулегальная – была той московской тайной, которую хранили «по умолчанию», десятки лет, считая неизбежной платой за рост мегаполиса.
С 1964 по 1985 год в Москву приехали более семисот тысяч рабочих (это только официальная статистика). Ельцин называл их «рабами развитого социализма конца XX века». И конкретизировал свою мысль: «Они были намертво привязаны к предприятию временной московской пропиской, общежитием и заветной мечтой о прописке постоянной. С ними можно было вытворять все, что угодно, нарушая закон, КЗОТ, они не пожалуются, никуда не напишут. Чуть что – лишаем временной прописки, и катись на все четыре стороны…»
Этот приток «лимитчиков» «развращал» (слово Ельцина) руководство предприятий. Руководители не ощущали необходимости модернизировать производство и механизировать ручной труд. Треть городского трудоспособного населения занималась тяжелой физической работой!
Что же предлагал смелый свердловчанин московским промышленным зубрам? Каков был его план?
Хотя ежегодный рост производства в Москве планировался на скудные 2,8 процента, Ельцин обещал, что в ближайшие пять лет он возрастет «не меньше» чем на 125–175 процентов. Это достижение будет обеспечено громадным увеличением производительности труда (20 процентов ежегодно), модернизацией промышленности и снижением доли ручного труда (на 20 процентов в год).
Сегодня мы смотрим на этот ельцинский план другими глазами. Москва, наполненная новыми «лимитчиками», мигрантами, гораздо более бесправными, чем в советское время, – такова грустная картина нового времени. Но для биографии нашего героя эти невыполненные планы, несбывшиеся надежды важны не меньше, чем его дела. Ельцин уже тогда, в 85-м, увидел масштаб кризиса – увидел раньше, чем его коллеги из Политбюро.
Важно и то, как он изучал этот кризис – не только на бумаге с помощью статистических отчетов. Ельцин особенно любил внезапные наезды к проходным московских заводов, когда приходила утренняя смена (то есть в шесть-семь утра. – Б. М.). Однажды утром к нему подошли не менее сотни рабочих и сообщили о своих бедах: тяжелейшие условия труда, такие же условия быта, полное безразличие руководства. «Надо было видеть, с каким раздражением люди говорили об этом», – сказал Ельцин на пленуме МГК. А вот что говорил сам Ельцин в интервью латвийскому журналисту А. Ольбику в августе 1988 года: «Если я, например, собирался на какой-либо завод, то я предварительно намечал маршрут, по которому обычно добираются до завода рабочие. К примеру, основной поток рабочих завода имени Хруничева направляется со стороны Строгино. В шесть часов утра я садился здесь на автобус, добирался на нем до метро, пересаживался снова на автобус и к семи оказывался у проходной предприятия. И не ждал, когда приедет директор, шел в цеха, в рабочую столовую. И когда затем разговор заходил об “адовых” сложностях транспорта, я отчетливо понимал озабоченность рабочих»
Своих новых коллег по бюро горкома он точно так же заставлял, в прямом смысле, срываться с места и ехать на предприятия, разговаривать, бесконечно беседовать с людьми, разбираясь с потоком их протестов и жалоб. Это стало его стилем – и грозным упреком для старого московского руководства.
Вскоре после того, как Ельцин принял в городе власть, был составлен план вывода вредных производств из столицы и запрета строительства в Москве новых заводов, фабрик и административных зданий.
Другим новшеством Ельцина стал запрет на снос исторических зданий. Реставрация памятников истории и культуры в Москве началась также при Ельцине. Он издал постановление, по которому из центра города, по крайней мере с первых этажей исторических зданий, выводились конторы, главки, институты, – на их месте должны были появиться кафе, рестораны, магазины. Именно Ельцин начал отмечать в Москве День города – традиция, которая сохраняется и сейчас, через 20 лет.
Но Борису Николаевичу требовалось доказать, что его напор – не пустые слова, не просто обещания.
В подтверждение серьезности своих намерений он взялся за «святая святых» московской власти: партийную элиту Москвы.
«Из тридцати трех первых секретарей райкомов партии, – пишет Ельцин в «Исповеди на заданную тему», – пришлось заменить двадцать три. Не все они покинули свои посты, потому что не справлялись, некоторые пошли на выдвижение. Другие были вынуждены оставить свои кресла после открытого, очень острого разговора у меня или на пленуме районного комитета партии. Большинство сами соглашались с тем, что не могут работать по-новому. Некоторых пришлось убеждать. В общем, это был тяжелый болезненный процесс».
Шлейф от тех «открытых, очень острых» столкновений с московским руководством тянулся за ним еще долгие годы. Его обвиняли в жестокости, в том, что ломал судьбы. Он был вынужден отвечать:
«Тяжелое впечатление на меня произвел трагический случай с бывшим первым секретарем Киевского райкома партии. Он покончил с собой, выбросившись с седьмого этажа. Он не работал в райкоме уже полгода, перешел в Минцветмет заместителем начальника управления кадров, обстановка там вроде была нормальная. И вдруг, совершенно неожиданно, такой страшный поворот. Кто-то ему позвонил, и он выбросился из окна. Позже, когда меня принялись травить, и этот трагический случай кто-то попытался использовать в своих целях, заявив, что этот человек покончил с собой из-за того, что я снял его с работы… Даже легенда была сочинена, будто он вышел с обсуждения на бюро и выбросился из окна. Это была абсолютная ложь. Но больше всего меня поразило то, что люди даже смерть человека пытаются использовать как козырную карту…»
Однако то, что новый первый секретарь МГК затронул основы основ московской номенклатурной жизни, вторгся в самые закрытые зоны, поломал давно сложившиеся правила игры, – не подлежит сомнению. Это было потрясением такой силы, что для очень многих московских руководителей небо над головой действительно померкло. Они были к этому не готовы.
Не готовы были к такой мощной атаке и в Политбюро.
«Хотя Горбачев был поначалу доволен ретивостью нового московского секретаря, взявшегося проветривать горкомовские коридоры, не считал его (Ельцина. – Б. М.) важной политической фигурой на своей шахматной доске. По словам дочери Горбачева, в ежевечерних домашних “разборах полетов” фамилия нового первого секретаря горкома почти не упоминалась», – пишет Андрей Грачев, пресс-секретарь первого и последнего президента СССР. Думаю, впрочем, что «не упоминалась» фамилия «Ельцин» и по другой причине. Постоянные «вылазки» Ельцина, тот бешеный темп, с которым он вторгается в тихую и сонную Москву – за один день он может постоять у заводских проходных, поговорить с людьми на автобусных остановках, посетить десяток магазинов, заехать в научный институт, а уж потом провести бюро горкома, – для его шефа Горбачева, увы просто непредставимы.
Ельцинские публичные «концерты» он воспринимает со все более возрастающим раздражением.
Примерно с конца 1986 года Горбачев перестает встречайся с Ельциным один на один. Эту пустоту немедленно заполняет второй секретарь ЦК Егор Лигачев, который (то ли выполняя пожелание генерального секретаря, то ли по собственному рвению, скорее всего, и то и другое вместе) начинает яростно влезать во все московские дела, поправлять, вмешиваться, звонить, часто и бестолково, доводя Ельцина до белого каления. Лигачев недоволен то его борьбой с партийными привилегиями, то «идеологически невыдержанными» заявлениями, то какими-то совсем уж странными «московскими недостатками», о которых Егор Кузьмич узнает из газет.
Горбачев ведет на Политбюро сложную игру. Заговаривает зубы консерваторам, упорно проталкивает свои идеи, осаживает каких-то неведомых радикалов и демократов, вежливо «раскланивается» со старыми брежневскими динозаврами: первым секретарем ЦК Компартии Украины Щербицким, Андреем Громыко. Он посылает свои «стрелы» в разные стороны, в несколько сторон одновременно, удерживая только ему понятный «баланс сил».
Но Ельцин категорически не понимает своей роли в той сложной политической конструкции, которую выстроил Горбачев.
Поддакивать он не умеет. Отделываться формальными многозначительными замечаниями – глупо, не имея контакта с генеральным. Это будет хорошая мина при плохой игре, блеф, на который он не способен. И он пытается выражать свое мнение открыто, выступать серьезно – и снова и снова ощущает все тот же вакуум, гнетущую вату, которой его обложили.
Получается, что Горбачев просто не предусмотрел его в своей игре!
Просто «заткнул» им «московскую брешь», формально заполнил кадровую пустоту, подставил его, как пешку, в сложном и длинном розыгрыше, в своей шахматной партии.
Первое открытое столкновение Горбачева и Ельцина произошло на заседании Политбюро 19 января 1987 года при обсуждении проекта доклада к пленуму ЦК о кадровой политике.
Все присутствующие высказывались «по кругу». Подошла очередь Ельцина. «Говорил он… резко, безапелляционно», – вспоминает Виталий Воротников, член горбачевского Политбюро.
Что же говорил в тот день Ельцин?
«Прошу правильно понять мои предложения. Откровенно их изложу.
Первое. Несколько завышены оценки состояния перестройки. Состояние кадров таково, что опасно поддаваться оптимизму. Некоторые не готовы к революционным переменам.
Второе. Оценка 70-летия. Ее ждут. Надо иметь мужество до конца сказать, что в торможении виноваты и Политбюро того состава, и ЦК.
Третье. О гарантиях успеха. Гарантии, которые перечисляются, – это социалистический строй, советский народ, партия. Но они были и все эти 70 лет! Поэтому никакие это не гарантии невозврата к прошлому. А гарантии вытекают из тех тем доклада, которые в его конце. И главная среди них – демократизация всех сфер жизни.
Четвертое… Стоит сказать, что кадры очень глубоко поражены… И не произошло во многих эшелонах ни обновления, ни перестройки. Критика в докладе направлена только вниз…
Шестое. Перечень особо пораженных территорий. Названы Узбекистан, Казахстан, Москва. Я бы добавил: Ростов, Киргизия.
Горбачев. Это задание твое будет выполнено».
Генеральный секретарь осторожно осаживает Ельцина: «Это задание твое будет выполнено». В этой реплике отчетливо слышна ирония, причем достаточно жесткая: вместо того чтобы сформулировать замечание, как это сделали другие товарищи, первый секретарь Московского горкома дает оценки, причем какие – он упрекает Политбюро в самоуспокоенности («критика направлена только вниз»), он пытается поправлять не отдельные положения, а суть горбачевского доклада!
И еще. Выступление Ельцина резко отличается от реплик других выступающих и по форме. Он, по сути, выступает с содокладом (первое, второе, третье), то есть говорит вдвое, втрое, вчетверо больше, чем от него ждут… Он как будто не понимает сценария, своей роли, заранее прописанных правил. Слушая Ельцина, Горбачев все больше закипает.
Ельцин продолжает:
«…Длительное пребывание в должности одного лица девальвирует и отношение к делу, и отношения с другими. Возникает самоуспокоенность.
Горбачев. Заканчивай, хотя ты критически выступаешь».
Взяв слово в конце обсуждения, Горбачев посетовал на то, что Ельцин недостаточно внимательно ознакомился с докладом, и даже зачитал те места своего доклада, которых Б. Н., по его мнению, «не заметил». Это была уже прямая стрела, выпушенная в зарвавшегося кандидата в члены Политбюро.
«Все это не выходило за рамки обычных дискуссий на Политбюро, – вспоминает еще один бывший член Политбюро В. А. Медведев. – Но Борис Николаевич воспринял это болезненно. Все разошлись, а он остался в своем кресле. Он сидел с перекошенным от досады лицом… Стучал кулаками по столу». В своих мемуарах Медведев приводит записки, которыми он обменивался со своим коллегой А. Н. Яковлевым (там же, на Политбюро) в связи с выступлением Ельцина:
«Медведев – Яковлеву. Оказывается, есть и левее нас, это хорошо.
Яковлев – Медведеву. Хорошо, но я почувствовал какое-то позерство, чего не люблю.
Медведев – Яковлеву. Может быть, но такова роль.
Яковлев – Медведеву. Отставать – ужасно, забегать – разрушительно» (В. А. Медведев «В команде Горбачева. Взгляд изнутри»).
На следующий день после заседания Горбачев созвонился с Воротниковым и сказал, что выступление Ельцина оставило у него «неприятный осадок». «Методы Ельцина – заигрывание с массами, обещания, перетряска кадров, много слов, мало конкретной работы. Состояние хозяйства и торговли в Москве, несмотря на огромную помощь других республик, не улучшилось. Все время ссылки на прежние упущения».
В тот же день Воротникову (у которого был день рождения) позвонил Ельцин. Вспоминая этот звонок, Воротников так передает его слова:
«– Занесло меня. Видимо, я перегнул где-то, как считаете?
– Нередко и другие вступают в споры. Только ведь надо как-то спокойнее выступать. Ты всегда обвинитель. Говоришь резко. Так нельзя.
– Согласен, такой характер» (В. И. Воротников «А было это так… Из дневника члена Политбюро ЦК КПСС»).
«Перегибать палку» он тем не менее продолжал и дальше. Вот одна из характерных записей, которые сделали помощники Горбачева во время одного из заседаний Политбюро:
«24 марта 1987 года.
Чебриков (председатель КГБ. – Б. М.). Гласность уже сейчас используют против перестройки. Используют ее так, что отвлекают от реальных проблем, канализируют энергию в охрану памятников, раздувают шум по посторонним вопросам, поднимают на щит неформальные объединения, провоцируют необоснованные ожидания.
Плюрализм полный. В печати публикуют все, что угодно и не извиняются, когда выясняется, что врут или оскорбили… Отменили цензуру, но отменили и государственное руководство духовной жизнью совсем. И вот результат.
Ельцин. Подхожу утром к киоску. Киоскер говорит: “Ничего у меня нет, ни газет, ни журналов. Все раскупили за полчаса”. Вот интерес людей к тому, что происходит. А средний слой руководителей и парторганизаций непробиваем ни снизу, ни сверху. Укрылись в аппаратах. Кадры тормозят дело, дрожат за свои места. И тут не надо пугаться обновления, хотя все ворчат. Время такое. В коммунальных квартирах в Москве проживают полтора миллиона человек. Коренной москвич не имеет никакой перспективы получить квартиру, если имеет 5 метров на человека.
Горбачев. Надо менять норму жилья по Москве. И вообще, на первом месте, думаю, у тебя должно быть жилье, на втором – здравоохранение».
Горбачев снова «тушит» огонь, который раздувает Ельцин. Он слишком резок в оценках. «Старики» слушают его крайне раздраженно. Горбачеву это не нужно.
Однажды Ельцин во время заседания Политбюро пожаловался на то, что в Москве не хватает пекарей, некому печь хлеб. Громыко раздраженно заметил: «И что, решением Политбюро вас еще учить, как лапти плести?» Поднялся дружный хохот. В игру Горбачева на Политбюро Ельцин явно не вписывался.
Вспоминает пресс-секретарь Горбачева – Андрей Грачев: «Теоретические дискуссии об истинных заветах Ильича, о невыкорчеванном наследии сталинизма… явно увлекали Горбачева, и он с удовольствием на долгие часы втягивал в них членов Политбюро, во-первых, потому, что эти дебаты стали для него способом саморазвития, во-вторых – из-за того, что, перечитывая Ленина (томик из собрания сочинений всегда лежал на столе у Михаила Сергеевича. – Б. М.), он незаметно для себя начинал в него “играть”, стараясь перенести в доставшееся ему послебрежневское Политбюро атмосферу острых идейных баталий…
Уже в решающие годы, когда закладывался фундамент его проекта и каждый месяц из отпущенного ему Историей срока и кредита народного доверия был на счету, выявилась та особенность Горбачева-политика, которая, в конце концов, обрушила недостроенное им здание перестройки: граничившее с отвращением нежелание заниматься рутинной, повседневной, систематической работой. Его зажигали и увлекали “большие дела”, крупные идеи, судьбоносные решения, проекты, уходящие (и уводящие) за горизонт повседневности. Самым интересным собеседником был для него тот, кто отвлекал от будней, от скучной текучки, приглашал в разреженную атмосферу мира высоких идей.
Американский госсекретарь Дж. Шульц вспоминает, как, начав однажды с Горбачевым условленные переговоры о ракетах и боеголовках, они незаметно перешли на глобальные сюжеты и рассуждения о перспективах развития мира в ближайшие 15–20 лет. В результате “скучный” подсчет боеголовок был быстро свернут и передоверен экспертам, а собеседники часа на два погрузились в футурологию, поломав график встреч генсека».
Ельцин воспринимал это нежелание генсека заниматься скучной рутинной работой, «текучкой» очень остро. Он видел за этим нечто другое – не грандиозные планы и стратегическое мышление, а отсутствие нормального, рабочего механизма принятия решений.
«Заседания Политбюро были по четвергам, – вспоминает Наина Иосифовна. – Борис Николаевич приходил оттуда совершенно больной. На него смотреть страшно было. Однажды сказал: я с этой бандой больше разваливать страну не хочу!»
…Почему Ельцин, прекрасно понимавший, что судьба подарила ему огромный карьерный взлет, не упивался своей новой ролью, не обживал ее тихо, спокойно, а упрямо лез на рожон? Что он видел на этой самой «земле» такого, что приводило его в состояние тревоги, беспокойства, которое он отчаянно пытался передать членам Политбюро, и Горбачеву в первую очередь?
Попробуем посмотреть на тогдашнюю Москву его глазами.
Начал с самого вроде бы простого – с магазинов. Считал, что снабжение в Москве, как ни странно, самый больной вопрос. Хотя снабжаться столица, по идее, должна была гораздо лучше, чем другие города в России – он это точно знал.
Унылый ассортимент, очереди, подозрительно-оживленная толкотня в подсобках, неприветливые продавцы. Мясо, даже куриное, масло, майонез, крупы, сыр, колбаса – все было в дефиците. За всем надо «стоять». Однажды, во время таких своих «прогулок», он заглянул в первый попавшийся гастроном и начал, как обычно это делал в Свердловске, допрашивать продавщицу, что у них есть, почему нет того и этого, как вдруг она почти истошно завопила: а кто ты сам такой, чтоб тут порядки наводить, из ОБХСС, что ли?!
Вызвал испуганного директора, отчитал, записал в блокнот всё – номер магазина, фамилию директора, отсутствие в ассортименте тех и этих товаров, вышел…
Пусть хоть немного пошевелятся.
Был случай, поразивший его. Выходя из одного магазина, он почувствовал торопливые шаги за спиной, уже около остановки автобуса, где его ждала машина. За ним бежала молодая девчонка.
– Товарищ Ельцин! – зашептала она горячо и страстно. – Можно вас на минуточку?
И она рассказала ему всё: как ее взяли в магазин и заставляют обвешивать, обманывать покупателей, прибегать к сотне различных ухищрений, чтобы получить левые деньги и «отстегивать», делиться со всеми – заведующим отделом, директором магазина; что так делают все – делятся, отстегивают наверх, в райторг, в главк, по цепочке; что все повязаны круговой порукой, и вырваться невозможно, а увольняться ей некуда, она молодая мать, и приходится, вы же понимаете, жить в этой системе, и плакать по ночам, и не смотреть в глаза покупателям, сделайте что-нибудь, сделайте…
Эта история имела продолжение. Он вызвал девушку в горком, дал поручение следственным органам, ждал результата и дождался – полетели новые головы, последовали новые громкие увольнения (хотя уже очень много ответственного народа в Москве он и так успел поснимать с их постов). Но интуиция подсказывала ему – эту систему быстро не сломать.
Да и надо ли было ее ломать вообще? – вот что самое главное.
Ельцин понимал, с чем столкнулся, – а столкнулся он не просто с системой воровства, с «торговой мафией», нет – столкнулся с закоренелой привычкой, с менталитетом, с образом жизни. Невозможно сделать прозрачной торговую отчетность, выяснить, как именно распределяются действительно огромные (по меркам СССР) продовольственные фонды Москвы, по одной очень простой причине – теневое распределение продуктов устраивало всех.
«Столы заказов», спецбуфеты, распределители, закрытые столовые, спецотделы магазинов, продуктовые «Березки» (в них дефицитные продукты можно было купить за валюту)… Все то, что не попадало в общедоступные магазины, от мармелада до финского сервелата, всё растекалось мелкими ручейками по холодильникам, сумкам, «дипломатам», авоськам москвичей ежедневно и ежечасно. Обогащая при этом (ну а как же!) всех тех, кто распределял эти ручейки, – и деньгами, и ответными услугами, да и просто социальной значимостью гордой и таинственной профессии «работника торговли».
Так было удобно, хотя все в один голос проклинали эту систему, – поскольку то была единственная возможность получить из этих ручейков хоть что-то.
Ельцин увольняет директора Мосторга, старшего следователя городской прокуратуры по особо важным делам, которого уличат в связях с руководителями московской торговли, директоров овощебаз, начальников районных трестов… В 1986 году руководитель райторга (невероятно высокая должность по московским понятиям, обладатель священного доступа на тортовую базу, к любому дефициту) мог слететь со своей золотой должности из-за такого пустяка, как «недостаточное обеспечение москвичей прохладительными напитками в летнее время». Кары посыпались на головы торговой касты, которой и сам ОБХСС был нипочем, – да еще и по причинам нелепым и пустым, по их мнению. Однако скучающие продавщицы с газировкой и соками появились действительно на каждом углу.
Ельцин попытался расшатать торговую систему и по-другому: если нельзя победить «левые» свертки и пакеты (хотя когда на одном из заводов он обнаружил сразу три «спецбуфета», он с яростью закрыл их; но это были эпизоды, крохи), то можно хотя бы снизить цены на свежие овощи и фрукты на рынке, можно организовать прямые поставки из колхозов и совхозов, «ярмарки выходного дня» (они существуют в Москве до сих пор), куда прямо на машинах будут привозить свежую зелень, картошку, овощи, а летом и осенью – фрукты, причем прямо оттуда, где все это растет.
Он горячо пробивал эту идею, громыхал на планерках по поводу отвратительной системы хранения и переработки овощей и фруктов, добился того, что первая ярмарка прошла с громадным триумфом – пели и плясали коллективы народного творчества, покупатель радостно уносил в сумках «зеленые витамины»…
На открытии азербайджанской ярмарки (цены на ней и так были ниже обычных) на Усачевском рынке он неожиданно обратился к продавцам с импровизацией: что, неужели жалко для москвичей, которые работают на всю страну, сбросить цены на полтинник, на рубль? Продавцы под красноречивыми взглядами азербайджанской элиты, сопровождавшей Ельцина, посовещались и тут же поменяли ценники.
Ярмарки были событием. О них передавали репортажи по телевизору, писали в газетах, но вскоре и эта история стала унылой реальностью – овощей и тем более фруктов почему-то все равно не хватало, стоять в очередях надо было к разным лоткам, да еще и на улице, из привычных магазинов хорошие овощи и фрукты исчезли совсем, началась рутина, грязь, никакого праздника и никакого удовлетворения.
Молодые люди 80-х и тем более 90-х годов рождения не знают, не помнят атмосферы советского магазина, не помнят его специфического запаха и вида (например, казарменного запаха опилок зимой на грязном полу продмага), им не приходилось, расталкивая локтями других покупателей, мчаться к прилавку универсама, когда туда с грохотом выбрасывали (именно презрительно выбрасывали) мороженые куриные тушки и завернутые в серый замызганный целлофан обломки трески океанической. Они не разбирали на составные части мокрый бумажный пакет с мерзлой картошкой, не видели очередей за водкой, бурлящих ненавистью, которые сделали жизнь совсем невыносимой. Они даже не знают, что такое талоны (на сахар, на табак, на водку, на мясо, на стиральный порошок)… Жизнь в СССР знакома им только из кадров кинохроники – величественная вереница баллистических ракет на Красной площади, улетающий в небо олимпийский Мишка… Когда-то я думал: как хорошо, что наши дети этого не помнят, не знают.
Теперь иногда думаю – жаль.
Жаль, потому что тогда иначе относились бы к прошлому. И к настоящему тоже.
Впрочем, проблема лимитчиков, снабжения, «руководящих кадров» – все это не исчерпывает того, что стало головной болью Ельцина московского периода. Он привык «ставить проблемы» и работать с ними – это был его метод, его конек. Те же самые проблемы были и в Свердловске. Да и везде, по всему СССР.
Но в Свердловске все для него было понятно: устройство самой жизни, устройство власти, социальной среды, глубина и степень этих отдельных проблем. Здесь, в столице империи, его давили именно непрозрачность, спутанность всех социальных отношений. Устройство московского мира.







