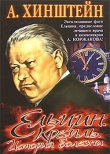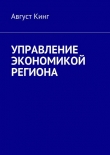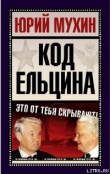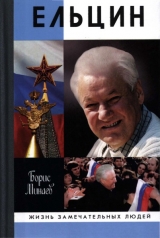
Текст книги "Ельцин"
Автор книги: Борис Минаев
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 53 (всего у книги 55 страниц)
– Неправильно сели. Степашин – первый зам. Пересядьте, Сергей Вадимович.
12 мая, когда Примаков пришел в Кремль с очередным докладом, Ельцин сказал ему слова, которых тот давно ждал: «Вы выполнили свою роль. Теперь, очевидно, нужно будет вам уйти в отставку. Облегчите мне эту задачу, напишите заявление об уходе с указанием любой причины».
Он не хотел с ним ссориться. Был благодарен Примакову, переживал, испытывал перед ним острое чувство неловкости. Он убирал не лично Примакова, к которому относился с большим уважением, он просто осуществлял свой план.
План Ельцина.
Но Примакову эти резоны были неинтересны. Он ни о чем не спросил президента. Ему все было ясно: его «свалили» недоброжелатели, интриганы: Волошин, Березовский, Дьяченко, Юмашев. «Примаков, – пишет Леонид Млечин, – в эти недели чувствовал себя очень плохо, страдал от тяжелого радикулита, нуждался в операции. Но присутствия духа не потерял…»
Напряженно, хмуро Примаков сказал:
«Нет, я этого не сделаю. Облегчать никому ничего не хочу. У вас есть все конституционные полномочия подписать соответствующий указ. Но я хотел бы сказать, Борис Николаевич, что вы совершаете большую ошибку. Дело не во мне, а в кабинете министров, который работает хорошо, страна вышла из кризиса. Люди верят в правительство и его политику. Сменить кабинет – это ошибка».
Ельцин не хотел отпускать Примакова на этой тяжелой ноте. Зачем-то опросил, есть ли у Примакова машина, на чем он сможет доехать домой. Примаков хмуро ответил: на такси.
Ельцин почувствовал себя плохо, нажал на кнопку, вошли врачи.
Когда президенту стало лучше и медики ушли, он встал, обнял Примакова и сказал: давайте останемся друзьями. Так описал эту ситуацию сам Евгений Максимович. Очевидно, что каждой деталью он старается подчеркнуть: как Ельцин был неправ.
Сам Ельцин вспоминает эту отставку несколько по-другому: «Еще раз посмотрел на Евгения Максимовича. Жаль. Ужасно жаль. Это была самая достойная отставка из всех, которые я видел. Самая мужественная».
Примаков испытывал смешанные чувства – обиды, горечи, а с другой стороны – чувство освобождения. По крайней мере, так он скажет позднее.
Однако «чувство освобождения» не освободило Примакова от желания борьбы, от желания доказать свое превосходство.
Коммунистическая фракция в Госдуме, предвидевшая такой поворот событий, торопила процедуру импичмента, конституционного отстранения президента от власти.
До нее оставались считаные дни. Ельцин принял неожиданное решение – уволить Примакова не после голосования, а до него.
Казалось, что этот шаг не логичен. Дума разъярится, узнав, как президент бесцеремонно отправил в отставку популярного премьера. Но получилось иначе.
Коммунисты не собрали необходимого количества голосов для импичмента, в очередной раз проиграв Ельцину. Его решимость подействовала на них, как, впрочем, и всегда. Депутаты не захотели обострять ситуацию вторично, и Сергей Степашин с первого захода стал премьером, ему не пришлось, как Сергею Кириенко или Виктору Черномырдину, испытать болезненный стресс неудачного голосования.
Однако премьером Сергей Степашин пробыл недолго, всего три месяца. Возникает закономерный вопрос: почему?
…Интересная деталь: в своем интервью журналу «Тайм» Путин сказал, что первый разговор состоялся у них с Ельциным еще осенью 1998 года. Но об этом разговоре тогда никто не знал.
– Когда был решен вопрос, что Путин – главный кандидат в премьеры? Когда произошел их первый разговор, как и когда Ельцин принял это решение? – спрашиваю у Валентина Юмашева.
– Подобные предварительные беседы президент, скорее всего, провел с несколькими людьми в течение 1997–1998 годов. Среди них были, но здесь я могу только предполагать, первый вице-премьер Борис Немцов, бывший министр юстиции в правительстве Гайдара, президент республики Чувашия Николай Федоров, наверняка Виктор Степанович Черномырдин. К весне 1999 года к этому списку Ельцин добавил Сергея Степашина (тогда министра МВД), Николая Аксененко, министра железнодорожного транспорта. Наверняка был и кто-то еще. Ельцин пытался оценить реакцию собеседника, он как бы прощупывал его. Присматривался. Естественно, каждого из своих собеседников просил держать разговор в строжайшей тайне.
Назначение Степашина было той «долгой паузой», столь характерной для Ельцина, перед тем, как он сделал свой окончательный ход. Ельцин так объясняет это в своей книге: объявлять Путина своим преемником больше чем за год до президентских выборов было неправильным, опасным. Экономическая ситуация в стране была тяжелой, на премьера ложился груз непопулярных решений. Поэтому «выстрелить» надо в самый последний момент.
Но были, конечно, и другие причины. Отставка Примакова и без того была рискованным шагом для Ельцина. Он вполне логично опасался, что назначение Путина до предела раскачает ситуацию, вызовет конфликт внутри спецслужб, что за Путина не проголосует Госдума, зная о его непростых отношениях с Примаковым. Напротив, у Примакова со Степашиным были самые теплые, дружеские отношения. И это тоже повлияло на решение Б. Н.
Внутри президентской команды мнения разделились. Например, Анатолий Чубайс, бывший глава администрации, был за назначение Сергея Степашина. Юмашев – против. Волошин после долгих раздумий тоже склонился к фигуре Степашина.
Выслушав все доводы, Ельцин принимает решение – вносит кандидатуру Сергея Степашина в Думу. На удивление скептиков, депутаты сравнительно легко утвердили его в должности председателя правительства. И хотя Владимир Путин оставался основным кандидатом, у Степашина появился реальный шанс внести поправки в этот предвыборный расклад. Сама должность делает его безусловным кандидатом на лидерство.
Однако Сергей Степашин довольно быстро начал растрачивать этот потенциал. С первых же шагов у него возник конфликт с первым вице-премьером Николаем Аксененко. Он считал, что Аксененко пытается занять его место. Нервно реагировал на то, что Борис Николаевич периодически приглашал на встречу к себе вместе с премьером и Аксененко. Точно так же в свое время Ельцин приглашал в Кремль или в резиденцию «Горки-9» Черномырдина вместе с Немцовым и Чубайсом, двумя его первыми замами. Президент считал правительство одной командой. Но Степашин реагировал на это крайне болезненно.
Конфликт премьера с первым замом создал нездоровую атмосферу в правительстве, паралич воли, вакуум решений. Ельцина это раздражало. К концу июля президент понял, что настал решительный момент – медлить с назначением Владимира Путина больше нельзя.
Отставку Сергея Степашина Ельцин также перенес тяжело. Ему нравился Сергей Вадимович, с ним было пережито многое. Степашин не потерялся после тяжелых событий в Буденновске в 95-м, когда он вместе с другими силовиками ушел в отставку. Продолжал работать, сначала в департаменте правительства, потом стал министром юстиции, наконец, министром внутренних дел, и вот, когда настала вершина карьеры, Ельцин вынужден попрощаться с ним.
На решающий разговор Б. Н. пригласил вместе с Сергеем Степашиным Владимира Путина, будущего премьера, и Николая Аксененко, первого вице-премьера. Разговор получился тяжелый, неприятный.
Еще тяжелее отставку пережил сам Сергей Степашин. Уже после своего ухода он продолжал винить в этом Аксененко, обиделся на советников Ельцина, которые, как он считал, подтолкнули президента к этому шагу. На самом деле «подтолкнуть» Ельцина никто не мог. «Подтолкнуло» и повлияло совсем другое. С одной стороны, трезвый расчет, с другой – знаменитая интуиция Ельцина, которая всегда приходила ему на помощь в периоды кризиса. Вот из этой неосязаемой субстанции и возникло то, что вскоре станет нашей историей… Ключевым, поворотным ее моментом.
Это «отложенное» назначение происходило на фоне драматических событий лета 1999-го. Событий, все убыстрявших свой ход.
После отставки Примакова и назначения Сергея Степашина стало ясно: будет новая информационная война. Но какая война? Какими способами? Какой ответ Ельцину будет дан? Кем? Вскоре все ответы были получены. Началась травля президента и его семьи в СМИ.
Впервые, в виде пробы сил, своеобразной пристрелки, тема «семьи» появилась в 1998 году. Тогда по автомагистралям столицы были развешаны большие плакаты: «Семья любит Рому. Рома любит семью». «Московский комсомолец» сразу расшифровал для тех, кто не понял: речь идет о Романе Абрамовиче, владельце Сибнефти. Впервые о дружбе Валентина Юмашева и Татьяны Дьяченко с Абрамовичем написал Александр Коржаков в своей скандально известной книге, вышедшей в 1997 году.
Но почему именно «семья»? Почему не что-то еще? Ведь были и другие темы, давно апробированные коммунистами: экономическая депрессия начала 90-х годов, разорение эпохи дефолта, тяжелое состояние медицины, социальной сферы, армии, науки, наконец, здоровье Ельцина, его пресловутый «алкоголизм»…
Ответ очевиден – эта тема была наиболее эффективной, потому что отражала реалии самого времени. Близкие родственники (жены, дети, братья и сестры) руководителей крупных регионов и маленьких городов сплошь и рядом занимались в новой России предпринимательством, поскольку законодательного запрета на использование «семейного положения» в бизнесе не существовало. Скажу больше – с юридической точки зрения установить подобные запреты почти нереально, их нет и в других странах. Другое дело, что законодательная база, препятствующая коррупции, монополизму, разработана там куда более подробно. Недаром в европейских государствах причиной публичного скандала то и дело становятся, по российским понятиям, сущие «мелочи»: дорогие подарки, деловые поездки за чужой счет, неоправданно высокие расходы на личные нужды чиновников. Регулятором социальных отношений там является не только страх переступить закон, но и механизм общественного мнения, независимая пресса, многолетняя этическая традиция.
…В 90-е годы российская независимая пресса очень активно разрабатывала тему «родственники чиновников в бизнесе». Россияне прекрасно знали о том, как богатеет семья Юрия Лужкова или семья самарского губернатора Титова, знали и о многих других губернаторах, мэрах и т. д.
Поверить в то, что российский президент и его семья не делают то же самое, не поступают таким общепринятым в России образом, простому человеку было трудно. Зерно упало на благодатную почву.
Первый залп раздался в мае 99-го. В программе «Итоги» на канале «НТВ» телезрителям подробно объяснили, каким образом «семья» распределяет финансовые потоки, кто за что отвечает в этой зловещей, буквально поработившей политику и экономику России конструкции. Назывались Юмашев, Волошин, Дьяченко, Березовский, Абрамович, Мамут и, наконец, сам президент Ельцин, стоящий во главе преступного синдиката.
Постоянным персонажем программы «Куклы» стала Татьяна, дочь Ельцина, и если раньше сюжетом этого сатирического шоу служили в основном политические баталии, то отныне главной темой стали «семья» и ее влияние.
Следующим этапом разоблачения «семьи» явились уже тематические программы: 45-минутная программа о даче на Николиной Горе, якобы принадлежащей дочери Ельцина, программа о собственности «семьи» за границей, виллы в Германии, замки во Франции, дома в Англии. Вновь были вытащены на свет дело «Мабетекс», банковские счета за рубежом, «расхищение» транша МВФ в 1998 году, «махинации» на ГКО. Ключевым стал термин «кошелек семьи»: этот ярлык поочередно навешивали то на Абрамовича, то на Мамута, то на Березовского.
Второй главной темой стала узурпация власти: изоляция Ельцина (вновь пошла в ход тема здоровья), невозможность пробиться к нему через возводимые «семьей» заслоны, его несамостоятельность в принятии решений – все то, что и сейчас переходит из книги в книгу.
«Информационные поводы» находились легко. Публикации статей в изданиях медиахолдинга Гусинского (газета «Сегодня», журнал «Итоги»), «Как сообщает газета “Сегодня”», «как сообщает журнал “Итоги”»… О том, что «сообщают» все это одни и те же люди, по одной и той же команде, простой телезритель, естественно, не мог догадаться, да это было уже и не важно. Главное, тема запущена.
Не отставали от НТВ и московские городские СМИ, московский телеканал, финансируемый мэром. Лужков не мог простить Ельцину, что тот не сделал его премьером в сентябре 98-го… Обида не прошла. И в разгул этой травли мэр Москвы выступил с публичным заявлением, в котором сказал, что президент обязан в суде отвести обвинения в воровстве.
Самое печальное было то, что публичная травля исходила прежде всего от телеканала «НТВ» – самого «демократического», самого либерального на первый взгляд телевидения. Телевидения, которое декларировало объективную подачу фактов, правду – как свое главное достижение, как свое знамя.
Был еще один важный момент – противники Ельцина прекрасно знали, что президент не подаст в суд на СМИ, это было его многолетним железным правилом. Казалось, что такая информационная война была беспроигрышной.
– У меня не было близких отношений с Гусинским, – рассказывает Валентин Юмашев, – а вот директора НТВ Игоря Малашенко я хорошо знал, дружил с ним, он принимал активное участие в выборах 1996 года. Малашенко был основным кандидатом на должность главы администрации в июле 96-го, сразу после окончания выборов президента. Игорь тогда отказался, и эту должность занял Чубайс. О степени моего доверия и открытости наших отношений с ним говорит такой факт. Когда встал вопрос, кто заменит Кириенко после августовского кризиса, и президент попросил меня сформулировать свою позицию, я попросил его, чтобы он меня принял вместе с Малашенко. Сказал ему, что вопрос настолько сложный и плохо просчитываемый, что лучше иметь несколько мнений. И более часа вместе с президентом мы обсуждали самые деликатные вопросы, все «за» и «против» каждой кандидатуры. Я полностью верил Игорю, знал, что от него не уйдет никакая информация, которую в тот день он на этой встрече вольно или невольно получил. И вот прошел всего год, и начался этот бред на НТВ. Я встретился с Малашенко и спросил его: Игорь, ты же прекрасно знаешь Таню, ты знаешь Бориса Николаевича, его семью, ты знаешь, что это кристально чистые люди, как ты можешь давать эту ложь каждый день в эфир?!
– И что же он ответил?
– Он ответил: да, я знаю. Но таковы командные правила игры, я ничего не могу сделать. Вы уже проиграли, вы не контролируете ситуацию, вы теряете политический ресурс, ваше дело обречено. Поэтому информационная кампания будет продолжаться.
…К концу этой кампании (правда, на канале «НТВ» она плавно сошла на нет в марте 2000 года, сразу после окончания президентских выборов) у слушателей, читателей и зрителей создалось одно ясное ощущение. «Семье» принадлежит всё. Фактически вся страна. Атомная промышленность, цветная металлургия, гражданская авиация, нефтяная промышленность, целые предприятия, скважины, месторождения и т. д.
Но вот прошло время, можно подвести некоторые итоги. Где же всё, что когда-то «им принадлежало»?
Вот как отвечает на эти вопросы в своем блоге дочь президента Ельцина Татьяна Юмашева:
«Есть известная ложь, распространяемая в течение долгого времени, что за те годы, что я работала в Кремле, мною было сколочено многомиллионное (десятки, сотни миллионов, миллиарды – сумма зависит от фантазии пишущего) состояние. Повторю, это ложь. Я все-таки попытаюсь в этом вопросе поставить точку. Как? Очень просто. Разобравшись с каждым слухом, с каждым враньем. При этом предлагаю использовать самое простое средство. Гласность. Помните, старое слово? Появившееся в середине 80-х.
Теперь, что пытаются мне приписать? Что за годы, что я работала в Кремле, я будто бы оказывала услуги различным бизнесменам, и они, в благодарность, делились со мной акциями компаний, которыми владели. Это тоже ложь. Дальше. Они расплачивались со мной не только акциями. Они также будто бы дарили мне виллы, дома, квартиры, особняки, резиденции и прочее недвижимое имущество, и это всё в Москве, Подмосковье, за границей – в Англии, Франции, Австрии, Германии, Италии и прочих европейских странах. Это тоже ложь. Еще писали про автомобили, которые мне дарили, дорогие и красивые, но это уже так, мелочи, добавка к основному. Это тоже ложь. У меня нет и никогда не было акций компаний. Ни “Сибнефти”, ни “Газпрома”, ни “Лукойла”, ни “Аэрофлота”, ни “ОРТ”, ни “Связьинвеста”, ни “Русала”, ни “Норникеля”, ничего. Я предлагаю дальше продолжить этот список, в него вы можете добавить все компании, которые были созданы или приватизированы в 90-е годы или позже. Эта информация легко проверяется. Почти все эти компании поменяли хозяев, новые собственники, у которых, понятно, никаких обязательств передо мной уже нет (у старых, правда, тоже не было), легко могут войти в реестр акционеров и подтвердить то, что я говорю.
Были десятки публикаций, например, о моем особняке-дворце на Николиной Горе. Первые статьи появились в 98-м году, к концу 99-го их был просто вал. Вот и в этот раз некоторые комментаторы спрашивают меня об этом доме. Что я предлагаю. Те журналисты, которые писали об этом моем богатстве на Николиной Горе – хотела бы уточнить, что это журналисты НТВ, телеканала ТВЦ, газеты “Сегодня” (уже не существующей), газеты “Версия”, газеты “Совершенно секретно” и некоторых других, – вы можете доехать до этого дома, постучаться в ворота и спросить, когда хозяева туда въехали, сколько там живут. Еще можно от имени любого печатного издания официально обратиться в местные органы, где зарегистрированы этот участок и дом, и получить информацию о том, кому принадлежит это имущество. Это также может сделать любой желающий. И я могу сейчас уже сказать, какая информация будет получена. Ни ко мне, ни к кому-либо из моих родных этот дом никогда никакого отношения не имел. Франция, Лазурный Берег. Периодически называются разные виллы, шале, дома и т. д. Я сказала в своем интервью журналу “Медведь” – ничего нет. И добавила, любой человек, который найдет любое имущество в любой точке мира, которое будто бы принадлежит мне, может забрать его себе».
По-моему, исчерпывающий ответ.
Парадокс состоит и в том, что Борис Николаевич, когда был президентом, не раз отправлял в отставку тех, в ком подозревал личную заинтересованность, порой даже несправедливо, но в любом случае это было для него сильнейшим аргументом: если есть скандал, такой человек должен уйти. Поэтому он не пускал в «большую» власть Лужкова, поэтому расстался с Коржаковым и его командой, таких примеров много. Но именно личную заинтересованность вменили ему в вину те, кто сам был далеко не ангел.
Тема «семьи» разрабатывалась тогда и в ином направлении. Говорили и писали: Б. Н. много болел, доступ к нему сильно затруднен, он мало с кем встречался, кроме нескольких человек. Это был тот узкий круг, который, по сути, всё и решал, эти люди могли провести через него любое решение, подписать любой документ.
Рассказывает Валерий Семенченко, руководитель секретариата президента в аппарате Ельцина:
– Порядок прохождения документов от президента и к президенту существовал, конечно, всегда. Но, памятуя о том, как Коржаков подписывал у Ельцина бумаги, при главе администрации Анатолии Чубайсе этот порядок был сильно ужесточен. Президент Ельцин просто технически не мог подписать ничего, что не прошло бы всех необходимых согласований в правительстве, силовых структурах и так далее. Любой документ он получал только через меня, со всеми необходимыми формальностями и визами. Миновать мою папку не мог ни один документ. Никто не мог подписать документ у Ельцина, не собрав всех необходимых виз.
– Пишут, что президент в последнее время мало с кем встречался, доступ к нему был затруднен, а получить аудиенцию можно было только через Татьяну, дочь президента. Так ли это?
– Это тоже было невозможно технически. «Прикрепленный» (дежурный адъютант. – Б. М.) был обязан сообщить президенту о каждом звонке, который поступал на телефон спецсвязи. То есть, любой министр, генерал, любой крупный чиновник, у кого на столе был аппарат правительственной связи, в любую секунду мог позвонить президенту, и об этом звонке прикрепленный лично докладывал президенту. Не доложить он не мог, это должностное преступление. Больше того, прямую линию с президентом, то есть телефон, который прямую выходил на пульт Бориса Николаевича, имел довольно широкий круг лиц – премьер-министр, силовые министры, все помощники. И пользовались они этой возможностью постоянно. Что касается рабочего графика Ельцина, всегда был весьма напряженным, где бы президент ни находился: в Кремле, дома или в больнице. Как правило, раз или два в неделю он встречался с премьер-министром, с главой администрации, с помощниками, в круг его постоянного общения входили вице-премьеры, заместители главы администрации, все силовики. Каждый день к нему на стол поступало множество официальных документов (солидная папка), каждый из которых он обязан был прочесть и завизировать, оставить на нем свое мнение или подписать. Я помню, с Ельциным связался один из региональных руководителей (Михаил Прусак, новгородский губернатор) и попросил срочно, буквально завтра, принять его. Ельцин, естественно, согласился. И из-за этого весь президентский график поплыл, встреча с премьер-министром, с министром иностранных дел и т. д.
Я опять спрашиваю Валентина Юмашева:
– Говорят и пишут, что в последние годы существовал некий «коллективный Ельцин», то есть президент передоверил свои главные функции узкому кругу советников. И они, то есть вы, вместо него принимали решения, а Ельцин лишь соглашался с вами.
– Ельцин никогда не принимал решение, если он не выслушивал несколько точек зрения. Примеров, известных и из мемуаров, и из опубликованных документов, масса: и март 1996 года, когда речь шла о роспуске Думы и переносе выборов, когда Ельцин выслушал позиции своих помощников во главе с Илюшиным, затем силовиков – Коржакова, Барсукова, министра МВД Куликова, Чубайса – и лишь после этого принял решение. И назначение, и снятие с поста замсекретаря Совбеза Бориса Березовского (кстати, и при назначении, и при снятии я занимал позицию, отличную от позиции Ельцина). Ситуация после дефолта, когда Дума не утверждала на пост премьера Виктора Степановича Черномырдина. Мнения в администрации по поводу кандидатуры Лужкова резко разделились, и по просьбе президента я повез в резиденцию Бориса Николаевича «Горки-9» Сергея Ястржембского и Андрея Кокошина, чтобы Борис Николаевич сам, не через аналитическую записку, не через меня, а напрямую выслушал их мнение. Я был против назначения Сергея Степашина премьер-министром после отставки Примакова (считал, что назначать надо сразу Путина). Во-первых, потому, что считал Степашина хорошим министром внутренних дел, а во-вторых, зачем нужно мучить человека и через некоторое время снимать его? Но Борис Николаевич, выслушав другие позиции, принял свое решение. То есть если считать, что я – один из видных членов «семьи», то Борис Николаевич достаточно часто делал всё «ровно наоборот». Вспоминаю сейчас лишь самые яркие примеры. Шла ли речь о назначении премьера или вице-премьеров, Б. Н. всегда требовал несколько кандидатур и выбирал сам. Принимая любое решение, он, как правило, любил исходить из нескольких вариантов.
…Я очень надеюсь, что миф о «семье» будет разобран когда-то будущими историками «по косточкам», с документами и фактами в руках, на объективную и субъективную составляющие, это важно. Но сейчас хочу вернуться к главной теме: «семья», как идеологическая конструкция, была не просто инструментом «черного пиара». Она была необходима и массовому сознанию, и не только потому, что имя Ельцина прочно связалось с периодом гайдаровских реформ, сложных экономических преобразований. Нет, просто так нам всем удобнее жить. Реальный Ельцин был уж очень неудобен, он никак не хотел вписываться со своей открытостью и приверженностью демократии в параметры нашего российского представления о власти. Не вписывался и в наш менталитет.
В своей книге «Президентский марафон» Ельцин не без иронии главу о назначении Путина назовет: «Ельцин сошел с ума».
Сейчас уже трудно в это поверить, но именно так общество отреагировало на появление нового премьер-министра. Было непонятно, чем благодушный, симпатичный Степашин не устраивает президента.
Не понимали не только оппозиционеры, которые еще не успели остыть от «битв» по поводу отставки Примакова, не понимали и друзья. Анатолий Чубайс, считавший своим долгом предупреждать президента о принципиальных ошибках, добился встречи у Ельцина, с полчаса доказывал ему, что Путин премьером быть не может, что Степашин – наилучшая кандидатура. С огромной обидой воспринял свою отставку и сам Степашин, он дважды пытался переубедить президента.
Есть такие цифры: Ельцин уволил за время своего правления пять премьеров, более тридцати вице-премьеров. И на самом деле – чего он добивался этими отставками? В своей книге он так комментирует это: время двигалось слишком быстро, задачи менялись с калейдоскопической быстротой. Да и, кроме того, замечает он, благодаря работе в правительстве на политическую сцену выходили всё новые политики, они становились известны, а после отставки заполняли политическую пустоту, которая характерна для только что возникшей демократии. За редкими исключениями это было действительно так. Даже Александр Руцкой после Лефортова вернулся в губернаторы, не говоря уже о Лебеде и многих других. Это, между прочим, весьма красноречиво говорит о том, что, по большому счету, Б. Н. был незлопамятен.
Ельцин играл на открытом политическом поле. Он менял конфигурацию правительства в зависимости от ситуации в Госдуме, от экономических показателей, в зависимости от того, как вел себя тот или иной человек. Никогда не сомневался, принимая решение об очередной отставке, потому что знал – эти люди вернутся через какое-то время, если докажут свою честность и полезность.
Но в данном случае смысл отставки и назначения нового премьера был совершенно другим. В этот момент на карту было поставлено будущее страны – так считал президент Ельцин. И был совершенно прав. Другое дело – насколько правильно он увидел это будущее, насколько точно угадывал его? Но на этот вопрос я ответить, конечно, не могу. Ответят будущие историки, для которых эта книга будет лишь одним из многочисленных «источников». Моя же задача гораздо скромнее: попытаться более или менее адекватно изложить последовательность событий жизни героя, передать его логику и его образ мыслей.
Исполняющий обязанности премьера Владимир Путин был утвержден Госдумой неожиданно легко, в первом туре. Но будущее его виделось туманно.
Противники Ельцина торжествовали. Они не принимали Путина всерьез, в стране его еще никто не знал. Рейтинг Путина составлял ничтожные два процента.
Травля Ельцина и его семьи нарастала.
И в этот момент Россия застыла в шоке. Началась вторая чеченская война.
Вторжение чеченских боевиков в Дагестан летом 1999 года поначалу не восприняли всерьез. Но вскоре развернулась крупномасштабная войсковая операция, руководил которой именно Путин. Затем, в сентябре, прогремели взрывы в Москве, в Печатниках и на Каширке, потом взрыв в Волгодонске. Это были взрывы страшной силы – и физически, потому что взорванные ночью дома погребли под собой сотни мирно спящих людей, и психологически. Возник страх.
Я не помню такого страха в Москве за всю свою жизнь…
В сентябре 1999-го москвичи боялись выходить из дома, выпускать из квартир детей. Ездить по городу. Это была атака, по психологическим последствиям очень напоминающая нью-йоркскую трагедию, которая последовала два года спустя.
Жильцы устанавливали дежурства в подъездах, не спали ночами, ходили вокруг домов с фонариками, на милицию обрушился шквал звонков о «подозрительных личностях», из темных окон люди с ужасом вглядывались в темноту…
Первая чеченская война вызвала в обществе гневный протест, об этом свидетельствовали и тон прессы, и опросы, и реакция депутатов, и голоса интеллигенции. Вторая война была поддержана большинством населения, политическими элитами – практически всеми.
Но – далеко не сразу.
Забытые ныне цифры социологических опросов свидетельствуют о том, что идея второй чеченской войны была вначале крайне непопулярной, что армия, как тогда считалось, была не готова вновь влезать в кровавую мясорубку, что политический риск этой войны был огромен, что страх становился разрушающим фактором для российской власти. Первая положительная реакция началась с первыми победами Российской армии.
«Администрация президента считала последствия второй чеченской операции непредсказуемыми, а риск неоправданно большим. Лично я предлагал Путину отложить начало полномасштабной операции хотя бы на период после выборов, – вспоминает Валентин Юмашев. – Путин отвечал на это: “Но мы можем не дожить до выборов”. Он считал, что нужно отвечать ударом на удар, иначе страх дестабилизирует обстановку в стране. Идея второй раз ввязаться в Чечню казалась мне безумно рискованной. Но Борис Николаевич сразу поддержал Путина».
Впервые за всю историю своего президентства Ельцин передал координацию действий силовых министерств новому премьер-министру.
Никто в тот момент не мог ожидать, что война в Чечне, с тысячами жертв с обеих сторон, с одной и той же страшной телевизионной картинкой каждое утро и каждый вечер, что и в 1995-м, – станет, как ни парадоксально, для Путина взлетной полосой в политике. Сам он считал себя в тот момент заложником ситуации, предполагал, что, выполнив свой долг, уйдет в отставку.
Но получилось по-другому.
Путин апеллировал к вооруженной мощи государства. Это был премьер-министр, деловито и хладнокровно руководивший всеми военными ведомствами. Он апеллировал к давним народным инстинктам. Он говорил на языке двора, улицы, очереди – и его знаменитое «мочить в сортире» вызвало бурный восторг у населения страны.
Одним словом, Путин ввел в политическое мышление понятие непреклонной силы. Силы – как последнего, решающего аргумента для разрешения кризиса.
В локальной ситуации чеченской войны он угадал давно копившиеся ожидания общества. Оно хотело видеть в Кремле победителя, защитника. Установка на борьбу с чеченским беспределом быстро расширилась в этих общественных ожиданиях до понятия борьбы с беспределом вообще. Карать, наказывать, наводить порядок, ставить жесткие рамки, требовать безусловного подчинения государственной воле – все это считывалось в поведении Путина, хотя сам он, возможно, еще только неосознанно формировал в себе этот образ, будучи поначалу человеком, в общем, далеко не публичным.