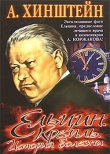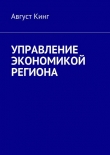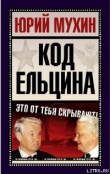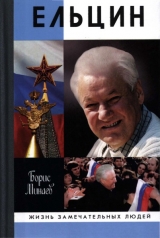
Текст книги "Ельцин"
Автор книги: Борис Минаев
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 55 страниц)
Между тем ни один человек в этот день (включая Скаукрофта и президента Буша) не говорил, что видел Ельцина нетрезвым. Его публичная лекция, видеозапись которой показало затем советское телевидение, говорит о том, что человек, произносящий ее, находится в состоянии крайней усталости, напряжения, перевозбуждения, что ему очень тяжело, что ему трудно говорить, но он говорит тем не менее со все возрастающей силой и энергией.
Однако зловредная заметка начала свой долгий путь в Москву. Сначала ее пересказала итальянская газета «Репубблика». А затем перевод из «Репубблики» появился в советской газете «Правда».
«От Бориса Ельцина, народного героя москвичей, Кассандры Горбачева… исходят бесконечные пророчества катастроф, сумасшедшие траты денег, интервью и особенно запах знаменитого кентукийского виски…»
Оказывается, за пять дней Ельцин выпил «две бутылки водки, четыре бутылки виски и бессчетное количество коктейлей». Он купил «новую одежду и обувь, полные коробки рубашек, два видеомагнитофона» (никаких рубашек и видеомагнитофонов он, конечно, не покупал). Ни в «Вашингтон пост», ни в итальянской газете «Репубблика» не было ни слова о том, что говорил Ельцин, с кем он встречался, как его восприняли в Америке. Поэтому обе статьи производили впечатление спущенных сверху, в лучшем случае – недобросовестных.
Публикация в «Правде» вызвала в стране удивление. Уж очень мелко сводились счеты. И мало кто из читателей газеты понимал: Кремль крайне раздражен тем, что Бориса Ельцина приняли в Белом доме.
В материале, перепечатанном в «Правде» из итальянской газеты «Репубблика», не случайно упоминались «мрачные пророчества» Ельцина. Пророчества действительно звучали.
Однако следует отметить, что он был далеко не единственным, кто предрекал советской экономике в ближайшее время тяжелейший кризис и вслед за этим взрыв социального протеста. Точно так же оценивали ситуацию наиболее авторитетные «экономические писатели» того времени: Селюнин и Шмелев, Лацис и Гайдар, Попов и Аганбегян. Однако в устах Ельцина критическая оценка тяжелой ситуации звучала уже не как прогноз эксперта, а как серьезное политическое послание.
Он постоянно говорил о том, что «люди устали ждать», что «если мы не изменим серьезно ситуацию в течение ближайшего времени, в стране будет социальный взрыв». Американцев, слишком благодушно настроенных по отношению к нашим «прекрасным переменам», он жестко предупреждал: «Вы просто не знаете реальной ситуации, не знаете, как живут люди в Советском Союзе».
В науке это называется «алармизм» (от англ. alarm) – состояние тревоги, которое передается от одного ко многим или от малой группы людей к большой.
Эти предчувствия, нарастающая волна беспокойства, раздражения людей проникли в него очень глубоко. Он ощущал их как чувствительный электроприбор.
Ельцина очень часто упрекали в том, что он «нагнетает обстановку». Однако в июле 1989 года он получил серьезный аргумент в защиту своего социального алармизма.
Забастовали шахтеры.
Забастовка шахтеров вновь перевернула представления о том, что можно и чего нельзя в СССР. А когда она перекинулась практически на все шахты Кузбасса и Воркуты, то стала событием и вовсе невероятным. Вместо того чтобы использовать все возможные средства для борьбы с забастовщиками (как это было бы при прежних правительствах) – угрозы, подкуп, применение войск и милиции, использование бесплатного труда зэков, попытку договориться «по-тихому», расчленить единый фронт на несколько частей, замолчать событие, наложить информационное вето на забастовку, – правительство Горбачева повело себя иначе.
К шахтерам выехала специальная комиссия под руководством члена Политбюро Николая Слюнькова. И вот к каким парадоксальным выводам она пришла: требования шахтеров объявлены справедливыми, виновными же в том, что случилось, целиком и полностью признаны местные власти.
Горбачев из Кремля, таким образом, поддержал шахтеров. Их требования и их борьба были признаны проявлением «широкой демократии». И самое главное, четко обозначены враги перестройки: чиновники, бюрократы, аппарат, местные элиты. Для последних это был ужасный сигнал. Ужасен он был еще и тем, что первым из московских политиков шахтерскую забастовку поддержал, конечно, Ельцин. И именно Ельцин стал тем политиком, кого бастующие шахтеры хотели видеть на переговорах в первую очередь, с кем были согласны вести диалог.
Такая последовательность событий не могла ускользнуть ни от местных верхушек, ни от политиков в Москве и на Западе. Горбачев боялся упустить инициативу! Он готов был пожертвовать поддержкой местных партийных руководителей, лишь бы не дать Ельцину набрать лишние политические очки. Но его жертва была несоразмерна выигрышу. Тесная связь Центра, Москвы, Кремля – со страной, с областными и краевыми городами, с местными «кремлями» – это и была при Брежневе основа государственной вертикали. Ситуация с Кузбассом ясно показала местным элитам, как именно центр собирается решать социально-экономические проблемы, включая даже голодные бунты: отдавать местных царьков на заклание разъяренной толпе.
…Еще одним важным событием года стало создание первой легальной политической оппозиции в СССР – так называемой Межрегиональной депутатской группы.
В Координационный совет МДГ были избраны 25 человек, в том числе: академик Андрей Сахаров, Борис Ельцин, Юрий Афанасьев, Гавриил Попов, Анатолий Собчак, Николай Травкин, Аркадий Мурашев, Юрий Черниченко, Геннадий Бурбулис, Юрий Карякин, Сергей Станкевич, академик ВАСХНИЛ Владимир Тихонов, Виктор Пальм (Эстония), Михаил Бочаров, Тельман Гдлян, Михаил Полторанин, член-корреспондент АН СССР Алексей Яблоков. Сопредседателями КС стали Б. Ельцин, Ю. Афанасьев, Г. Попов, В. Пальм и А. Сахаров, секретарем – Аркадий Мурашев.
Среди депутатов – членов МДГ – было несколько человек, непосредственно связанных с политическим неформальным движением: лидер Народного фронта Карелии Сергей Белозерцев, член Координационного совета Московского народного фронта Сергей Станкевич, представитель Ярославского народного фронта Игорь Шамшев, один из основателей Апатитского добровольного общества содействия перестройке Александр Оболенский. Тем не менее большинство членов МДГ принадлежали к советской статусной интеллигенции и придерживались далеко не радикальных взглядов. Только 49 процентов участников 1-й конференции МДГ однозначно высказались за многопартийную систему, еще 40 процентов – за дискуссию о введении многопартийности (5 процентов выступили за сохранение однопартийной системы). Большому числу депутатов из МДГ взгляды академика А. Д. Сахарова казались чрезмерно радикальными, и именно Сахаров получил наименьшее из пяти сопредседателей число голосов – 69 (Ельцин – 144).
Однако для своего времени все они были, безусловно, крайне радикальными, смелыми, бесстрашными людьми.
Горбачев был шокирован заявлением о создании Межрегиональной депутатской группы. Дело в том, что, сам этот шаг противоречил стройному плану Анатолия Лукьянова – взять под контроль съезд путем создания так называемых «территориальных групп», руководить которыми должны были проверенные партийные товарищи.
Выходка членов МДГ переворачивала ситуацию с ног на голову, потому что это было депутатское объединение по политическому принципу, по убеждениям, изначально заявленное как «фракция несогласных», как оппозиция, чего Горбачев побаивался и не хотел.
В момент, когда на трибуну вышел Юрий Афанасьев и объявил о создании МДГ, Горбачев потребовал прервать телевизионную трансляцию. И хотя в дальнейшем многие из этих людей, включая самого Юрия Афанасьева, позиционировали себя как «демократы горбачевской волны», из песни слова не выкинешь – так было.
Больше того, почти никто из членов МДГ не прошел на выборах в Верховный Совет. Именно тогда Юрий Афанасьев произнес с трибуны свое знаменитое определение съезда: «агрессивно-послушное большинство».
В том-то и дело, что «большинство» съезда, хотя и действовало по указке своих дирижеров, сидевших в окружении Горбачева, к представителям «московской группы», к «демократам», питало чувства самые искренние и однозначные – для них это были опасные выскочки, болтуны, политические проходимцы. Люди вне системы и опасные для системы.
И это «большинство» вполне добровольно, отнюдь не по приказу захлопывало, не давая говорить, Сахарова и Афанасьева, Собчака и Попова, мрачно замирало при появлении Ельцина, презрительно гудело при появлении на трибуне Галины Старовойтовой или Евдокии Гаер, которые представляли интересы «малых народностей» (Гаер – северных, Старовойтова – кавказских).
Отношение Горбачева к членам МДГ в какой-то степени сформировалось как отзвук на эту волну, которая шла оттуда, из гигантского зала – «долой, не хотим, хватит»… Вот что кричало «большинство» членам МДГ, сходившим с трибуны. И все же отношение Горбачева к левым (как он считал) депутатам было крайне противоречиво.
Это может показаться странным, но люди, входившие в Межрегиональную депутатскую группу, отнюдь не были врагами Горбачева. Напротив, некоторые из них на трибуне съезда сумели сформулировать программу горбачевской перестройки настолько прозрачно и конкретно, что она, наконец, стала понятной и большинству народа, сидевшему у своих телевизоров.
Можно даже утверждать, что почти все члены МДГ по-разному, но с уважением относились лично к Михаилу Сергеевичу, а некоторые просто благоговели перед ним. И тем не менее по какому-то сложному комплексу причин эта «оппозиция» была для Горбачева неприемлема, она не вписывалась в его планы, казалась ему опасной.
Дело доходило до абсурда. Эти люди, которые были настоящими харизматическими лидерами, с которыми он тепло здоровался на съезде, которых внимательно выслушивал и которые могли ему просто позвонить по телефону, – почти все находились под колпаком у КГБ, их телефоны стояли на «прослушке» (как говорят об этом воспоминания Болдина), за каждым их шагом следила агентура.
Но ведь по-другому и быть не могло!
Для КГБ СССР лица, выступавшие на демократических митингах, хотя и были народными депутатами, все равно оставались подстрекателями, врагами, опасными элементами, а вовсе не политическими союзниками. В случае необходимости КГБ собирался их арестовывать и даже «стрелять на поражение».
Огромные московские митинги, собиравшиеся в 1989 и 1990 годах, проходили при непосредственном участии лидеров межрегионалов – Ельцина, Афанасьева, Старовойтовой, Сахарова, Гдляна, Бурбулиса, Станкевича. Таким образом, все они автоматически попадали в разряд «экстремистов», хотя всегда пытались сделать все возможное для предотвращения любых столкновений, любых провокаций.
Вот так непросто все было заверчено и закручено в этой новой «горбачевской стране». С одной стороны – друзья. С другой – враги. С одной – реальные кандидаты на серьезное участие в парламентской политике. С другой – объекты для «наружного наблюдения».
Не было никакого единства и в среде самих «оппозиционеров». Это были очень разные люди, с разными убеждениями и разными характерами.
Погоду в МДГ делали «профессора», представители академической элиты. Все они, во-первых, были членами партии; во-вторых, людьми умеренных и осторожных взглядов. Все они (кроме Сахарова и Старовойтовой, а также молодых демократов новой волны) попали в политику, в общем-то, случайно. Перспектива вести за собой «массы», участвовать в митингах и демонстрациях, вести большую организаторскую работу, бороться с официальной властью (как-никак оппозиция!) и вообще бороться с кем-то и чем-то – их, по большому счету, сильно смущала. Роль экспертов, судей, учителей была для них намного привычнее.
Ну и, наконец, самое главное: у них была психология успешных, состоявшихся, востребованных обществом людей. В этом смысле Михаил Сергеевич Горбачев, как руководитель страны, открывший им путь наверх, в политику, был для них, так сказать, «базовой ценностью».
Не случайно осенью на совещаниях МДГ появился посланец Горбачева – Евгений Максимович Примаков. Многих из «профессорского крыла» МДГ он знал лично, разговаривал с ними на одном языке, от каких-то «необдуманных действий» мог отговорить и в любом случае представлял собой мост между властью и новоявленной оппозицией.


Николай Игнатьевич Ельцин и Клавдия Васильевна Ельцина (Старыгина). 1960-е гг.

Дом в селе Бутка. 1960-е гг.

Железнодорожная школа Березников, где учился Борис Ельцин

Борис Ельцин – студент. 1950-е гг.

Борис Ельцин (справа) в общежитии Уральского политехнического

Курсант Ельцин (второй слева) на военных сборах

Тренер женской волейбольной команды

Борис и Наина Ельцины – молодые супруги. 1950-е гг.

Молодой отец. Конец 1950-х гг.

Наина Иосифовна Ельцина с дочерьми Леной (слева) и Таней (справа). Начало 1960-х гг.

Семья Ельциных: Борис, Михаил (брат), Николай Игнатьевич, Наина, Клавдия Васильевна, Валентина (сестра), Елена и Татьяна (дочери). 1960-е гг.

Наина Иосифовна, Борис Николаевич, старшая дочь Елена. 1970-е гг.

Начальник ДСК. 1960-е гг.

Секретарь Свердловского обкома КПСС выступает на пленуме

Первый секретарь Свердловского обкома КПСС. На военных стрельбах

Борис Николаевич, Наина Иосифовна, внучка Маша. Начало 1980-х гг.

Во время митинга. 1991 г.

Выход из состава КПСС. 1990 г.

Члены Межрегиональной депутатской группы на митинге. 1990 г.

Главное – впереди. 1988 г.

Кадидат в депутаты I Съезда народных депутатов СССР. 1989 г.

Торжественная присяга на Конституции. Первый всенародно избранный президент страны. 1991 г.

Вместе с М. С. Горбачевым

Обращение к народу России. 19 августа 1991 г.

Вместе с Р. И. Хасбулатовым на Съезде народных депутатов РФ

Ельцин, Гайдар, Бурбулис (крайний справа) на матче футбольных команд руководства Москвы и правительства России

С матерью. Начало 1990-х гг.
Настоящим большим политиком был здесь только Ельцин. За ним уже шли огромные массы людей. Он имел грандиозный опыт публичных выступлений, опыт руководства крупнейшим регионом. Он владел навыками организации и управления. Знал, как работает система власти.
Но именно это явное преимущество Ельцина смущало лидеров Межрегиональной депутатской группы. Одних он отталкивал своей слишком жесткой позицией по отношению к Горбачеву, других (как Сахаров и Старовойтова) – тем, что был еще недавно кандидатом в члены Политбюро, принадлежал к высшей партийной номенклатуре. Третьи не хотели вождизма, боялись, что имя Ельцина подавит всех остальных, они уйдут в его тень.
Поэтому было принято решение о коллективном руководстве МДГ.
Г. X. Попов в дальнейшем считал, что Ельцин «смертельно обиделся» на членов МДГ за это решение. Не простил их. Но это не так. Сам Попов при Ельцине стал мэром Москвы. В дни августовского путча 1991 года находился в Белом доме. Сохранял и позднее самые теплые отношения с президентом России. Афанасьев и Старовойтова в 1992–1993 годах работали членами Президентского совета, не раз обращались к Ельцину с просьбами и записками, которые он читал и выслушивал. Все, кто его знает, могли бы подтвердить – он не вел бы себя так с людьми, на которых когда-то «смертельно обиделся». Собчак также в дни августовского путча стоял с Ельциным плечом к плечу. До 1996 года работал мэром родного Петербурга, после неудачных выборов пал жертвой наветов своих врагов – но Ельцин не имел к этому никакого отношения.
– А вы бывали на заседаниях МДГ? – спрашиваю я у Наины Иосифовны.
– Несколько раз была.
– Как Борис Николаевич относился к этим заседаниям, что говорил после них?
– Относился очень серьезно, это была часть его политической борьбы. Другое дело, когда начался российский съезд и его выбрали Председателем Верховного Совета РСФСР, его интересы устремились в другом направлении. Но членов МДГ я видела не только на заседаниях в Доме кино. Они бывали и у нас дома. Попов, Собчак, да и многие другие. Приходило иногда по десять – пятнадцать человек. Были и просто человеческие контакты. Попов приходил к нам с женой, просто в гости, мы тоже бывали у него дома. Постоянно созванивались, договаривались о чем-то, иногда эти звонки продолжались и ночью. Борис Николаевич разговаривал по телефону с Сахаровым и с Боннэр, но дома они у нас не были.
Несмотря на то, что лично Горбачев относился к отдельным членам МДГ с симпатией, их политические позиции он по-прежнему не воспринимал. Им давали собираться только в Доме кино. Им запрещали выпускать и печатать свой информационный бюллетень. О их деятельности ничего не сообщалось в официальных отчетах со съезда. Горбачев отказывал группе в любом официальном признании – не хотел считать их полноправной фракцией нового союзного парламента.
У них не было никакого, даже призрачного, статуса. Ни одна их законодательная инициатива не могла быть принята к рассмотрению на съезде. Одним словом, Межрегиональная группа, созданная для конструктивной законодательной работы, буксовала на месте. Ее деятельность зашла в тупик, что не могло не сказаться и на атмосфере внутри нее.
Конфликт между членами группы достиг своего логичного развития поздней осенью 1989-го. Сахаров, Старовойтова и молодые демократы требовали объявить себя «политической оппозицией», организовать настоящую оппозиционную партию, чтобы добиваться изменений в конституции и, если потребуется, «бороться с существующим строем» не только через парламент, но и через акции массового неповиновения (забастовки, митинги, демонстрации).
Мнение профессорского крыла ярче всего выразил Анатолий Собчак. Он справедливо заметил, что настоящей оппозицией Горбачеву являются не они, а «агрессивно-послушное большинство», партийный аппарат, коммунистически настроенные депутаты. И становясь в оппозицию к Михаилу Сергеевичу, они (члены МДГ) объективно играют им на руку.
Ельцину было нелегко и слушать все это, и участвовать в дискуссии. На собраниях МДГ царила нервная обстановка, люди, глубоко уважающие друг друга, относящиеся с огромным восхищением к академику Сахарову, все-таки срывались на частности, не умея выработать общую платформу, порой не слышали друг друга, их привычная доброжелательность сменялась раздражением.
Постепенно ряды МДГ стали таять. Депутаты, первоначально объявившие о своем вхождении в МДГ, начали оттуда уходить.
…14 декабря 1989 года умер Андрей Дмитриевич Сахаров. Прощание с великим ученым и великим диссидентом состоялось в здании Академии наук на Ленинском проспекте, откуда Сахарова выдвигали депутатом на съезд.
Возможно, Сахаров умер от перенапряжения, вызванного сложной и очень непривычной для него обстановкой съезда. Сказались и глубокие переживания человека, который поверил, что изменения в стране, наконец, стали реальными, и был глубоко неудовлетворен тем, как тяжело это все происходит в жизни. И, конечно, это были последствия горьковской ссылки, где Сахаров не раз объявлял голодовку, писал безответные письма властям, страдал в домашней тюрьме.
Возле гроба Сахарова стояли прибывшие на несколько минут члены Политбюро. Стоял Горбачев. Стоял Ельцин.
Своей смертью Сахаров вроде бы просил их – объединиться, понять друг друга. Но тщетно.
Сахарова провожали на «правительственном» уровне.
Но «правительство» явно упустило возможность диалога с духовными вождями перестройки. Теперь это стало окончательно ясно. Горбачевская страна, где Сахаров стоит на одной трибуне с теми, кто его травил, где можно говорить всё, но нельзя ничего сделать, где есть парламент, но нет оппозиции, где все так неопределенно, зыбко и туманно, – это была страна без будущего.
Проект «Россия» (1990)
Это случилось в летние дни 1990 года в квартире Ельциных у Белорусского. Наина Иосифовна вспоминает:
«Однажды он вернулся домой с заседания союзного съезда, совершенно больной, измученный, и вдруг сказал мне такую фразу:
– Надо спасать Россию!
Я, честно говоря, ничего не поняла и даже испугалась. Какая Россия? Тогда был Советский Союз, и никто в таких категориях еще не мыслил. Я так и спросила:
– Боря, ты о чем, какая Россия?
– Нашу Россию!
Я уложила его, дала какие-то лекарства, травы, пощупала голову – может, горячая? Потом позвала Таню и стала с ней советоваться: у папы, сказала я, что-то с головой. Мне кажется, он не в себе.
Таня спросила, что же меня так напугало. Я отвечаю: он все время говорит про то, что надо спасать Россию. “Ну и что?” – отвечает Таня. Я просто не понимаю, о чем он говорит… Что это?
Россию как отдельное государство я тогда себе не представляла. Он уже понимал, что грозит стране, и мыслил совсем другими категориями», – подытоживает Наина Иосифовна.
…Эти «другие категории» пока еще были внове даже для его жены. Но он понимал суть происходящего – страна под названием «СССР» постепенно становилась неуправляемой.
В январе нового, 1990 года Ельцин отправился с визитом в Японию. Приглашение поступило от телекомпании Ти-би-эс, а также от деловых кругов.
Как и в США, от Ельцина ждали многого. Ждали откровенной, ясной и, главное, – новой позиции по поводу волнующих тем: Курильских островов, перезахоронения японских военнопленных, погибших в годы войны, мнения о статусе прибалтийских республик в составе Союза, о перспективах перестройки в целом… Обо всем этом Ельцин говорил в популярном ток-шоу, которое транслировалось в прайм-тайм – в 11 вечера. Премьер-министр Кайфу, министр иностранных дел Накаяма, министр строительства Харада – официальный круг общения Б. Н. в Стране восходящего солнца; несметное количество бизнесменов и журналистов – круг неофициальный.
Было ясно, что Ельцина воспринимают в Японии как совершенно особую политическую фигуру. Большую роль в этом восприятии сыграли его встреча в Белом доме с президентом Бушем, ореол оппозиционного политика. Для Японии это привычно – «теневой» кабинет и «теневой» премьер-министр были частью своеобразного политического ландшафта этой страны, в которой только одна партия из года в год побеждала на выборах, но политическая борьба от этого не становилась менее острой.
Как и в США, помимо официальных встреч и бесед, японцы захотели показать Ельцину свою страну. В программе поездки были и остров Хоккайдо, и древний храм, и «завод по производству роботов», и «маленький семейный ресторанчик».
Ранним утром Ельцин посетил рыбный рынок в Токио.
«…Сплошные крытые ряды с огромными чанами, в которых плещется живая рыба. Кажется, вода льется отовсюду, и создается впечатление, что и в самом деле бредешь среди живого серебра, – вспоминает его помощник Лев Суханов. – Тут и тунец, и крабы, и устрицы, и омары. Рубщики мяса длинными блестящими ножами разделывают туши огромных трехметровых тунцов».
Невероятное изобилие. Избыточность красок и запахов. Ощущение прочности и стабильности бытия.
Это было общим и там, в Америке, и здесь, в Японии.
И на Западе, и на Востоке он сталкивался с одним и тем же вопросом – почему же посередине, между Востоком и Западом, огромная страна с такими проблемами? Его в меньшей степени поражала стерильная технологичность японского производства или масштаб американского строительства. Он и в России видел огромные, величественные стройки и высокие оборонные технологии.
Тут дело не в технологиях, и не в культурных традициях, и даже не в трудолюбии народа. Ельцин прекрасно знал, как умеют работать русские, какими темпами, с какой отдачей.
Но в чем секрет этой избыточной материальной прочности, устойчивости западного и восточного миров? Почему в его родной стране материальная бедность, скудость, граничащая с нищетой, казарменные условия жизни – неизбежный спутник бытия? Этот вопрос не раз задавали себе многие русские люди за рубежом. Ельцин попытался ответить на него по-новому.
Уже начиная с 1989 года он живет проектом, который совершенно «выламывается» из прежней схемы его политической борьбы и в то же время органично продолжает ее.
Россия и Советский Союз – что это за конструкция? Казалось бы, такая знакомая, привычная с самого детства – теперь она стала казаться ему неправильной и непрочной. В ней гораздо больше загадок, чем разгадок.
…На март 1990 года назначены выборы российских депутатов. Многие соратники Горбачева потом не раз будут упрекать его в том, что он пошел на создание двух параллельных, очень похожих политических структур – союзного и российского съездов. Но, запустив этот процесс, Горбачев был уже не в состоянии его остановить. Выборы и сама атмосфера российского съезда сразу радикально отличались от съезда союзного.
Никаких «списков» от компартии, общественных организаций, объединений и прочих структур не предусматривалось. И вовсе не потому, что Горбачев хотел сделать российские выборы более демократичными. В России просто не было аналогичных структур. Не было, например, своей компартии или своей Академии наук, не было российских профсоюзов (они были организованы по отраслевому признаку). Один этот факт заставлял о многом задуматься.
Москва – это чья столица? России или целой империи, которая раскинулась практически на полмира?
Вот японцы ставят вопрос о Курилах. Для России, например, было бы выгодно использовать острова совместно – оставляя советскими, сделать их свободной экономической зоной. А для СССР с его сложными геополитическими интересами и статусом сверхдержавы экономическая выгода отходила на второй план.
Когда Ельцин руководил Свердловской областью, он наблюдал воочию, какой неистощимый источник ресурсов для всей страны находится на его территории: трубы для нефтепроводов и газопроводов, качавшие сырье на Запад, металл, машиностроительные заводы. А что получали уральцы взамен?
Он не раз задавал себе этот вопрос. Люди, непрерывно производившие военную и экономическую мощь всей страны, не могли даже нормально питаться. Завезти несколько тонн масла или мяса перед праздниками, чтобы «накормить область», становилось головной болью для любого первого секретаря. Даже для того, чтобы снести бараки и переселить людей в более-менее сносные дома, для того, чтобы построить для них метро, чтобы провести одну-единственную дорогу на Север, необходимую для жизнеобеспечения области, понадобились титанические усилия. Москва очень неохотно давала «добро», выделяла ресурсы на Урал. А выкачивала их весьма охотно, постоянно усиливая административный нажим. Так чьей же она была столицей? России или СССР?
Ельцин решил избираться в народные депутаты России в родном Свердловске. Две недели подряд он проводит встречи в заводских дворцах культуры, в цехах заводов Свердловска и Первоуральска. Его окружают толпы рабочих. Иногда он выступает перед рабочими по нескольку раз в день. Кстати, именно там, во время предвыборной кампании в Свердловске, формируется добровольная группа помощников Ельцина, которая помогает ему готовить тексты выступлений и ответы на записки, – Геннадий Бурбулис, Александр Урманов, Геннадий Харин, Людмила Пихоя и Александр Ильин. Все они свердловчане, обществоведы из Уральского университета. Их первая реакция на публичные экспромты Б. Н. – давайте записывать лучшие ответы на записки, создавать «домашние заготовки»! Так начинается работа его будущих спичрайтеров.
Свердловский обком КПСС, против всех ожиданий, отнесся к избирательной кампании Ельцина вполне лояльно. Не было никаких запретов, никто не ставил палки в колеса, а немногочисленные осуждающие статьи в партийной печати, которые все-таки появились, были формальными и выхолощенными. Как вспоминают коллеги Б. Н., ему было даже предложено поселиться в самой лучшей гостинице города, также принадлежавшей обкому, – «Октябрьской» и устроить там работу своего избирательного штаба, но Ельцин отказался от этого подарка.
Поселился, «как все», в местной гостинице «Урал», однако в гостинице шумно, тесно и грязно. В конце концов, помощники убедили его переехать в меблированную квартиру при одном из свердловских заводов, предназначавшуюся для приезжавших «консультантов».
Он победил на выборах в Свердловске с оглушительным перевесом – 85 процентов избирателей отдали ему свои голоса.
Отныне из всех острых ситуаций, из всех кризисов он всегда будет выходить через непосредственное обращение к народу.
Отныне слово «Россия» станет главным в его лексиконе.
Отныне он будет использовать все свои природные «слабые места» – физическую тяжеловесность, неоправданную для руководителя склонность к слишком вольным словесным импровизациям, чересчур откровенную «человеческую» интонацию и наивную веру в свои слова – как свою силу.
Теперь все это входит в его образ. Образ простого «россиянина», который пришел во власть.
…Кстати, Ельцин никогда не был выдающимся оратором. Он не умел произносить горячие многочасовые монологи, как, например, тот же Горбачев или Фидель Кастро. Хотя «ответы на записки», его излюбленный жанр, могли продолжаться по нескольку часов. Он мог держать зал в напряжении – но не с помощью монолога.
Собственные же речи Ельцина, которые он зачитывал по заранее подготовленному тексту четко и сухо, никогда не продолжались долго: 25 минут, 30, максимум 40.
И тем не менее каждый его политический старт начинался в каких-нибудь чумазых заводских цехах, на невзрачных улицах, в столовых и магазинах – всюду, где его ждала толпа людей, которые хотели его увидеть. Это была для него почти физиологическая потребность.
Так было в 1990-м, 1993-м, 1996-м – каждый раз, когда он всё начинал сызнова. Сегодня это кажется скучной прописью публичной политики, ее затверженным уроком. Но первым в России так начал делать именно он.
Почему его так тянуло к этой людской массе?
Он не ковал электорат и не искал популярности, она сама его находила. Он не любил митингов, организованных акций, редко на них выступал, только если это было крайне необходимо, даже в самые горячие годы своей борьбы. Не любил трибун.
…Стоя в этой толпе, как мне кажется, он что-то проверял в себе. Так было и в 1990 году.
Предвыборная программа будущего российского депутата уже довольно четко несет в себе черты нового политического проекта.
Б. Н. не стесняется говорить о многопартийности и о необходимости частной собственности «на средства производства и на землю». То, что было для него еще слишком смелым год назад, сегодня стало возможным. Он произносит слова, которые неприемлемы для Горбачева, для партии, для официальной власти.
Но дело, конечно, не только в этом.
Ельцин в своей предвыборной программе рисует портрет совершенно новой России.
«Новая Конституция, принятая на публичном референдуме, должна была закрепить приоритет… основных прав и свобод граждан: свободу демонстраций, свободу политических организаций и свободу совести и религии», – пишет Леон Арон, биограф Ельцина, не случайно делая акцент на фундаментальных ценностях западной демократии.