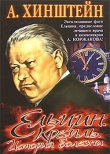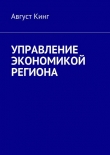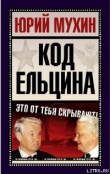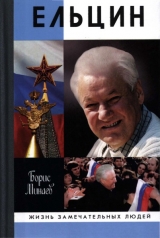
Текст книги "Ельцин"
Автор книги: Борис Минаев
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 55 страниц)
Реабилитация (1988)
9 ноября 1987 года, за два дня до пленума Московского городского комитета КПСС, Михаилу Сергеевичу Горбачеву доложили, что Борис Ельцин, бывший первый секретарь Московского горкома КПСС и бывший кандидат в члены Политбюро, совершил попытку самоубийства.
«9 ноября Ельцина, – пишет об этом его американский биограф Т. Колтон, – нашли в комнате для отдыха… в крови и тут же отвезли на “скорой” в кремлевскую больницу. Он поранил левую сторону грудной клетки… ножницами. Выбранный инструмент и поверхность ран показывают, что это было отчаяние чистой воды или крик о помощи, но не попытка самоубийства. Ельцин никогда не говорил о своей госпитализации откровенно, объясняя только, что у него был “срыв” и сильные боли в голове и груди…»
«Помню, сразу после Пленума, все эти дни у него жутко болело сердце. Когда я его видела вечером, он все время держался за левую сторону груди. Вообще, очень тяжело переживал, ведь он в один миг стал изгоем. Как папа на самом деле поранился ножницами, трудно сказать, но я уверена, что это был нервный срыв, а не попытка самоубийства. Если бы он хотел покончить с жизнью, он использовал бы пистолет. Ни тогда, ни позже мы с ним на эту тему не говорили. Слишком тяжелой она для него была», – вспоминает дочь Ельцина Татьяна.
Да, потом ни в одной своей книге, ни в одном интервью, ни в одной беседе Ельцин никогда не говорил об этом случае. Сам Горбачев впервые написал об этом в мемуарах 15 лет спустя.
Конечно, глубже зная Ельцина, Горбачев никогда бы не поверил этим слухам. Действительно, если бы Б. Н. решился на такое, в ход пошли бы скорее всего не ножницы. Тем не менее Горбачев поверил. Вернее, он просто не понял, что произошло.
Вообще за эти дни – с 21 октября, когда он выступил на пленуме ЦК, по 11 ноября, когда Ельцина в полубессознательном состоянии привезли на пленум Московского горкома, произошло немало событий.
Например, разговор помощника Горбачева Анатолия Черняева со своим шефом. Черняев написал письмо Горбачеву: о том, что Ельцина надо простить. Сейчас другая эпоха, и такие вопросы надо решить по-другому.
Через несколько дней, 3–4 ноября, на прием к Горбачеву начал проситься председатель исполкома Моссовета Сайкин, член бюро Московского горкома КПСС. «От имени и по поручению» членов бюро Сайкин хотел предложить Горбачеву компромисс: Ельцина, безусловно, удалить из кандидатов в члены Политбюро, но оставить его во главе Московской партийной организации.
Горбачев был крайне разозлен этой инициативой. Москвичи упорно продолжали настаивать на своем, несмотря на решение пленума ЦК. Это было неслыханно. Нужно было дать своевременный отпор. Пленум Московского горкома он решил собрать немедленно.
Еще один тревожный сигнал – демонстрации в Москве и Свердловске. В Москве несколько сот студентов и аспирантов МГУ собрались на площади перед главным корпусом и затем составили петицию в защиту Ельцина, которая попала в ректорат. Да, виновные наказаны. Но исключать из МГУ никого не следует, – распорядился Горбачев. Еще не хватало привлечь к этому делу внимание. В Свердловске несколько сот человек также собрались перед горкомом партии. Представитель горкома партии принял их обращение на имя членов Политбюро. Собравшиеся, после нескольких часов стояния под дождем, разошлись по домам.
Факты, увы, были неприятные. Единственное, что странным образом кольнуло Горбачева, – внезапное чувство удивления. Он не ждал, например, что каким-то студентам будет все это интересно. Кто-то явно их подстрекал. Но кто?
По всей стране проводились торжественные собрания, партконференции, посвященные семидесятилетию Великого Октября. Прошло торжественное собрание и в Москве. 6 ноября в Большом театре первый секретарь МГК КПСС читал с трибуны доклад перед московским «партактивом».
Голос Ельцина звучал глухо. Уже много ночей он провел без сна. У его постели постоянно сидела Наина Иосифовна, пыталась отпаивать его травами, заставляла пить снотворное, которое он не любил (после него весь день голова тяжелая), уговаривала успокоиться.
…Горбачев сидел напряженный, под торжественным сиянием знаменитой люстры. Все полтора часа, которые продолжался доклад, он, видимо, снова и снова прокручивал в уме нюансы и детали октябрьского пленума. Ведь он спросил его: как, сможешь работать после всего этого? И Ельцин не принял поданной ему руки! Публично, с трибуны подтвердил свой отказ работать в Политбюро! На что он рассчитывал? На то, что его поддержит Московская организация? Вот они, товарищи москвичи, сидят в зале, подсчитывают в уме «за» и «против». Посмотрим, как она его поддержит. Посмотрим…
Итак, еще лежа в больнице, Ельцин получил предложение стать первым заместителем председателя Госстроя СССР.
Если бы ему предложили уехать послом в какую-то страну (такой вариант Горбачев тоже обсуждал со своими помощниками) или что-то еще другое, обидное, унизительное в качестве работы, – он бы, наверное, все-таки уехал в Свердловск. Возможно, именно этого и не хотел Горбачев – продолжения эксцессов, демонстраций, народных волнений. Возвращение Ельцина в Свердловск, по мнению генерального секретаря, было бы политически опасным, скользким шагом.
Ельцин приехал в Госстрой еще в ранге кандидата в члены Политбюро.
«В приемную, – как писал позднее его помощник Лев Суханов, в то время работавший помощником председателя Госстроя, – сначала вошли телохранители, за ними – Ельцин. Подтянутый, в элегантном темно-синем костюме, белоснежной сорочке и стильно подобранном галстуке».
Ельцин старался «держать марку». Однако всем было очевидно, что он еще не отошел от болезни.
В комнате, примыкающей к кабинету, врачи из 4-го управления заставили повесить аптечку с обширным набором лекарств. Оборудовали сигнализацией его рабочий стол и стол заседаний. В комнате отдыха поставили диванчик.
Врачи не разрешали работать больше четырех часов в день. Ему, который привык начинать рабочий день в семь или восемь, а заканчивать порой в полночь! Он привык спать всего четыре часа – и ему этого хватало! Теперь же он приезжал в Госстрой, в новое массивное здание на Большой Дмитровке (там теперь находится Совет Федерации), садился за стол и… «Часто в ночные часы, – напишет Ельцин позднее в «Записках президента», – я вспоминаю эти тяжелые, быть может, самые тяжелые дни в моей жизни… Немногие знают, какая это пытка – сидеть в мертвой тишине кабинета, в полном вакууме, сидеть и подсознательно чего-то ждать… Например, того, что этот телефон зазвонит. Или не зазвонит».
В феврале его вывели на пленуме ЦК из состава Политбюро.
Он и это решение ЦК, хотя и совершенно формальное, пережил довольно тяжело, снова ухудшилось его состояние, снова врачи, уколы, лекарства…
Пытаюсь понять: неужели он ждал чего-то другого? Чего? Что кто-то из членов Политбюро поддержит его? Поговорит с ним? Что-то объяснит? Звонка Горбачева? Попытки примирения с его стороны?
Как реальный политик, партийный аппаратчик с огромным опытом работы, он этого ждать, конечно, не мог. Послестрессовое состояние, бесконечное перемалывание в голове одних и тех же фраз, фрагментов своего выступления – это понятно. Но тут что-то другое: он ждал, именно ждал, он прямо пишет об этом.
Мне кажется, его мучила, как ни странно это прозвучит, незавершенность того проекта, который он начал в Москве.
Искренняя вера в то (которая, кстати, двигала им и на октябрьском пленуме, и раньше, на заседаниях Политбюро), что москвичи будут за него, что они поддержат, вытащат его из этого кризиса, из этой ямы, – по-прежнему в нем существовала.
Горбачев сказал ему буквально следующее, когда предлагал этот пост в Госстрое: «Учти, в политику я тебя больше не пущу».
По всем прежним советским меркам, наказание для бывшего кандидата в члены Политбюро было очень мягким. Он остался министром, членом ЦК КПСС. Отсюда и этот тон Горбачева – мол, мы даем тебе приличную работу, оставляем в ЦК, но не думай, что все сошло с рук.
Однако эта двойственность принятого решения (попытка генерального смягчить жесткость публичной порки административными «цацками») отнюдь не успокоила Ельцина. Думаю, он все равно бы вернулся в политику – из любого города и из любой страны, в которую могли бы его отправить послом[5]5
В телеинтервью Владимиру Познеру в 2008 году Горбачев признается: до сих пор он думает о том, что, возможно, совершил ошибку, не выслав тогда Ельцина из страны в качестве посла.
[Закрыть].
Но в данном случае, оставаясь в Москве, он оказался в эпицентре того мощного, глубокого, «подземного» резонанса, который вызвала его неожиданная отставка. Однако почувствовал он этот резонанс далеко не сразу.
Ельцин сделал не одну попытку стать в Госстрое «своим». Вот что пишет Лев Суханов о его первых месяцах работы:
«Почти весь 1988 год Ельцин находился под психологическим стрессом, что, однако, не мешало ему заниматься текущими делами. Пройти “через Ельцина” какому-нибудь захудалому проекту было так же трудно, как вспять повернуть северные реки. А, между прочим, этот сумасшедший проект уже обсуждался в Госстрое, как и строительство промышленных предприятий на Байкале… Ельцин был категорически против этих проектов, писал докладные, звонил знакомым министрам, связывался с самим Рыжковым. Тот, к его чести, всегда выслушивал Бориса Николаевича и обещал помочь».
И еще одна интересная деталь его нового места службы:
«Если перечислить все вопросы, которые за день должен был решать первый зампред (то есть Ельцин. – Б. М.), пришлось бы посвятить этому целый фолиант. Правда, много времени сгорало впустую. Одни только заседания в кабинете Баталина (председателя Госстроя, которого Ельцин хорошо знал еще по Свердловску. – Б. М.) чего стоили… Это были не коллегии, а нечто, напоминавшее театр одного актера, продолжающийся по четыре и более часов. Выдерживать это Борису Николаевичу было непросто. И действительно, после каждого такого заседания Ельцин возвращался к себе с жуткой головной болью. К тому же, стало известно, что Баталин получил сверху команду – собирать на Ельцина компромат…»
Кстати, его новый помощник в Госстрое, Лев Евгеньевич Суханов, остался с Ельциным надолго, работал в его команде. Так вот, Суханов, вероятно, был одним из первых, кто сообщил шефу о том, что его абсолютно закрытая, «засекреченная» речь на октябрьском пленуме продается около метро в отксерокопированном виде.
– Как это «продается»? – обомлел Ельцин. – Ну-ка, принесите.
Оказалось, что эта «речь» Ельцина, которую люди передают друг другу как самиздат, а некоторые предприимчивые товарищи даже продают у метро, не имеет ничего общего с тем, что он действительно говорил на пленуме. Больше того, позднее выяснилось, что по рукам ходит около восьми (!) вариантов таких вот «речей» Ельцина. Это был своеобразный литературный памятник, новая мифология. Но Ельцину было не до филологических изысков. Он прекрасно понимал, что такие же его «речи», размноженные в сотнях и тысячах экземпляров, сейчас гуляют по стране и попадают в том числе на столы советских руководителей и в КГБ.
Вот что, в частности, «говорил» Ельцин в этих многочисленных подделках:
«Войска нужно вывести из Афганистана. Думаю, именно над этим вопросом товарищу Шеварднадзе нужно как следует подумать. Сейчас он занимается другими делами, менее неотложными, и месяцами находится за границей. Вынужден просить Политбюро оградить меня от мелочной опеки Раисы Максимовны, от ее почти ежедневных телефонных звонков и нотаций».
Или вот еще из псевдо-Ельцина:
«Да, товарищи, мне нелегко объяснять рабочему, почему на семидесятом году своей рабоче-крестьянской власти он вынужден стоять в очереди за колбасой, в которой больше крахмала, чем мяса, в то время как у нас с вами на столах – осетрина, икра и прочие деликатесы, которые мы без всякого труда получаем из таких заведений, к которым его и близко не подпустят…»
Разумеется, Б. Н. испытывал разноречивые чувства, читая эти литые, как стихи революционных поэтов, пассажи от лица народного героя и заступника, товарища Ельцина.
Через «наивный лубок» прорывался весь тот социальный гнев, который накопился в народе за эти годы.
…Однако помимо этих интересных образчиков «народного» творчества были и другие: письма. Письма людей, которые выражали Ельцину поддержку, сочувствие, восхищение, восторг, любовь, все что угодно. Их были сотни. Наина Иосифовна складывала их в большую коробку. Сама читала, а Б. Н. пересказывала самое интересное.
Письма приходили и на адрес Госстроя. Почта не успела «опомниться», вовремя остановить второй поток на этот раз действительно народного мифотворчества. Затем писем стало меньше, их явно начали направлять уже в другие организации. В Свердловске, на почтовых ящиках в подъездах даже появились, например, такие объявления: «Письма в Госстрой на имя товарища Ельцина не будут приниматься к отправке».
Приходили к Ельцину посетители и лично. Например, Илья Иванович Малашенко, юрист, подполковник в отставке, пришел в Госстрой и пожелал видеть Бориса Николаевича, чтобы «просто пожать ему руку». Суханов немедленно ввел его в кабинет – для Ельцина это было лучшее лекарство.
Далеко не всегда это были обиженные, уязвленные люди, вовсе не обязательно они его о чем-то просили (да и чем, собственно, он мог им теперь помочь в своем положении?). И все же бросалась в глаза накопившаяся в людях потребность – что-то сказать, крикнуть властям в лицо какую-то свою правду, высказаться во весь голос о бедах, неурядицах, нехватках, которые их мучили. Вскоре подобные письма станут публиковаться во всех газетах и журналах. Но уже сейчас, примерно за год до этого, Ельцин понял – каким мощным катализатором народного недовольства стали его речь на октябрьском пленуме и его последующая отставка.
«Сам факт того, что Ельцин может каждый день ездить на работу, ходить по улицам, разговаривать с людьми, был впечатляющим символом новой терпимости…» (Леон Арон). Он ходил по городу, посещал театры, просто гулял, и с ним здоровались, его узнавали, ему улыбались и снова говорили что-то теплое, поддерживающее. И во время первомайской демонстрации люди подошли к Ельцину, пожимали руки, благодарили.
Все эти детали складывались в единую картину: несмотря на полное отторжение Ельцина в коридорах власти – не было даже и речи о его исчезновении, как публичной фигуры. Даже после смерти Сталина опальные руководители подвергались куда более жесткому наказанию: ссылка Маленкова, домашний арест Хрущева, полное исчезновение из публичной жизни Шелепина и т. д. (при Сталине их просто расстреливали).
Для того чтобы так же поступить с Ельциным, чтобы его имя навсегда исчезло со страниц прессы, из общественного сознания, от Горбачева потребовалась бы такая же жесткость. Но это шло бы вразрез с его собственными постулатами и даже собственным характером, а главное – само время, изменившееся время, не позволяло генсеку довести публичную казнь до конца, хотя он, возможно, и собирался это сделать еще в первую декаду ноября 1987-го.
– Вы не боялись, что вслед за отставкой последует и что-то другое, худшее? – спрашиваю я у дочери Ельцина Татьяны.
– Честно говоря, нет. Мы понимали, что наступили новые времена, что никаких особенных репрессий быть не может.
Худшее, что могло быть – его отправили бы назад, в Свердловск. Просто было страшно за него, за его состояние.
Вопрос к Наине Иосифовне:
– После всего, что случилось, как вы относились к его попытке реабилитации, к возвращению в политику? У вас не было опасений, что все может кончиться еще хуже? Не пытались его останавливать?
Она на некоторое время задумалась и ответила вопросом на вопрос:
– А как я могла его остановить? Он же не мог просто сдаться. Нет, это было не в его натуре.
Безусловно, в «реабилитации» активно принимала участие семья Бориса Николаевича. «Мы все, – вспоминает Таня, младшая дочь, – старались чем-то порадовать папу, что-то вкусное приготовить или купить, отвлечь, растормошить. А купить что-то тогда было трудно, годы были такие. Я помню, узнала, что в одном магазине “выбросили” чешское пиво, папино любимое. И я помчалась туда. Антиалкогольная кампания в разгаре, в магазине стоит страшная давка, все пьяные, ругаются. Я, наверное, единственный раз в жизни тогда простояла чуть не несколько часов среди пьяных мужиков, в этой толпе. И достоялась, купила два ящика. Но эти два ящика еще нужно было как-то вынести из магазина, хотя бы до такси дойти. Помню, один ящик несу в руках, другой толкаю перед собой ногой, но счастлива, что папе везу подарок».
Кстати, именно в этом, 1987 году Таня вышла замуж за инженера Леонида Дьяченко (близкие всегда звали его Лешей, отсюда и разночтение в именах, в прессе он то и дело возникал под именем Алексея). Они вместе работали в КБ «Салют». Таня, как математик-программист, работала в отделе баллистики, занималась мирным космосом, разрабатывала программу дальнего сближения космических аппаратов (для транспортных непилотируемых кораблей, которые привозят грузы на станцию «Мир»), Леша занимался двигателями. Он из потомственной семьи инженеров, отец его был заместителем генерального конструктора КБ, вся его семья тоже всю жизнь проработала в этом конструкторском бюро.
Вполне вероятно, что именно Леша подвозил на своей машине Таню с этими двумя ящиками с боем добытого дефицитного пива.
Новой фазой реабилитации Ельцина стали его публичные выступления, прежде всего интервью. Их было несколько и далеко не все из них увидели свет.
Первое интервью «Московским новостям» (газете, выходившей, кроме русского варианта, еще на нескольких языках) было опубликовано только на немецком. Даже не на английском!
Журнал «Огонек» свое первое интервью с опальным Ельциным уже подготовил к печати, но опубликовать не смог – главный редактор Виталий Коротич отнес текст беседы в ЦК, и как он потом рассказывал, А. Н. Яковлев запретил публикацию.
Зато постарались западные средства массовой информации. И если во время первого своего интервью с американской телегруппой Ельцин в основном отмалчивался, то в мае 1988-го (в интервью американскому журналисту Питеру Сноу) он будет гораздо более определенным. Сноу спрашивает его:
«Хотели бы вы, чтобы Лигачева сняли с должности, удалили от центра власти, так как он, по вашему мнению, противится реформе?» Ельцин, не колеблясь, ответил: «Да, хотел бы».
В ответ на вопрос, считает ли он, что между Горбачевым и Лигачевым существуют глубокие внутренние разногласия, Ельцин зло рассмеялся – тогда он считал, что Лигачев и Горбачев играют в одну игру.
А летом, в августе, во время отпуска в Латвии вышло первое интервью в советской газете. Оно было напечатано и в маленькой местной газете «Юрмала» (которую, тем не менее, читали сотни тысяч отдыхающих из всех уголков Союза), и в республиканской газете «Советская молодежь». Потом это интервью было перепечатано в десятках областных, ведомственных, районных газет СССР, несмотря на сопротивление партийных органов, – прогрессивные редакторы уже дышали воздухом гласности, почуяли «новые времена».
Что же говорил Ельцин латышским журналистам?
«Мы подавили человеческий дух. Люди оказались придавленными тяжестью сомнительных моральных стандартов, директив, которые невозможно оспаривать, постановлений. Мы приучили людей объединяться в единоудушении, но не в единодушии».
«Когда руководителю Агропрома деликатесы доставляют на дом, он вряд ли будет усердно работать над Продовольственной программой, – шутил в интервью Ельцин. – Продовольственная программа для него давно решена».
Все заметили эту шпильку в адрес Горбачева – Продовольственная программа партии была его детищем еще на посту секретаря по сельскому хозяйству.
Это говорил прежний Ельцин – не сломленный, не смирившийся, все такой же резкий и острый.
Кстати, именно там, в Юрмале, Ельцин впервые посетил большой теннис как зритель. Вот как это было.
«Я познакомился с Борисом Николаевичем Ельциным, – пишет Шамиль Тарпищев в своей книге «Первый сет», – в августе 1988 года, когда сборная СССР играла в Юрмале матч Кубка Дэвиса против команды Голландии». Ельцин вместе с Наиной Иосифовной пришел на стадион, чтобы поболеть за «наших». Тарпищев узнал Ельцина, усадил его в ложу для почетных гостей, вот и всё общение. «На следующий день в санатории “Рижское взморье” я играл пару с республиканскими начальниками, – продолжает Тарпищев. – Вижу, мимо корта идет Ельцин с женой: наверное, он отдыхал в этом же санатории. Я поздоровался с ним, пожал руку и обратил внимание, что она у Ельцина очень холодная. Да и выглядел он неважно: было видно, что держится на лекарствах».
На этот раз Ельцин и Тарпищев немного поговорили. А еще через год, снова встретив Ельцина в Юрмале, на том же пляже, Тарпищев уговорил его «поиграть пару».
«Спустя год на том же пляже я снова играл в футбол со своими теннисистами. Мяч откатился к воде. Я побежал за ним и увидел Ельцина: “О, Борис Николаевич? Вы здесь? Отдыхаете?” – “Шамиль, привет”. Оказывается, он запомнил мое имя. И я ни с того ни с сего предложил ему поиграть в теннис, не знаю даже почему. Он отнекивался: “Да я плохо играю”. – “Давайте попробуем пару”. – “Я пару вообще не играл”. В общем, я его уговорил – он согласился. И на следующее утро Сергей Леонюк, я, писатель Михаил Задорнов и Борис Николаевич сыграли пару. Ему понравилось».
Но вернемся в 1988-й. Через два-три месяца после отдыха на Рижском взморье произойдет еще одна «страшная крамола» в процессе реабилитации Ельцина – его первое публичное выступление в огромной молодежной аудитории, Высшей комсомольской школе. Слушатели школы, молодые люди со всех концов СССР, добились того, чтобы он приехал, хотя поначалу Ельцин отнесся к этому приглашению настороженно.
Это была еще одна победа «новой терпимости» над старой нетерпимостью.
Ельцин, как водится, выступал перед аудиторией несколько часов подряд.
Однако было бы неправильно приписывать все эти первые, маленькие победы Ельцина только его личной позиции, личной смелости.
Пока он осваивался в своей новой роли, очень многое изменилось и в стране в целом. Изменения шли настолько быстро, что за ними было просто не уследить…
13 марта 1988 года Горбачев улетал с официальным визитом в Югославию. В закрытом правительственном аэропорту «Внуково-2» его, как всегда, провожала официальная делегация – Рыжков, Лигачев, Яковлев.
Горбачев знал, давно знал, это была азбука власти – любое отсутствие первого лица в стране – это риск. Всегда! Но успокаивал себя – летит ненадолго. Да и что могло случиться?
Только что отгремела вся эта история с Ельциным: пусть неприятная, но важная – показательный урок всем, кто хочет раскалывать единство в руководстве страны. Отгремела, слава богу, без каких-то серьезных последствий.
Ну что они могут сделать? Подготовить внеочередной пленум, сколотить группу из членов Политбюро, противников перестройки? Нет предпосылок. В Политбюро как минимум половина – его твердые, искренние, убежденные сторонники, остальные – скрытные фигуры, молчуны, типа Воротникова, председателя Совмина РСФСР, или Чебрикова, председателя КГБ, но – не страшные, без позиции, без агрессии, которую он всегда очень тонко чувствовал в людях.
Удар последовал неожиданный и тяжелый – публикация в «Советской России». Статья Нины Андреевой, преподавательницы общественных наук (истории КПСС или политэкономии социализма) из Ленинграда, с одиозным названием «Не могу поступиться принципами».
С точки зрения идеологической, ничего нового в статье не было.
Те же самые аргументы, которые мусолились сейчас везде и всюду, да и чего было ожидать другого от замшелых партийных догматиков, от людей, жирно и вольготно, безбедно, бессмысленно просидевших в своих креслах долгие десятилетия: не трогайте Сталина, он наше знамя боевое, с его именем в атаку ходили, его сам Черчилль уважал, хотя и буржуазная был гнида, не трогайте наших высоких моральных ценностей (и Сталин – одна из них), не трогайте наш социализм, вы – пятая колонна западного мира, наймиты, продажные шкуры, прочь из нашей страны… Всё знакомо. До боли знакомо. Пещерный сталинизм.
Новизна была в подаче – в том, как расположена статья, какое ей отведено место на газетной странице, в том, как поработали над ней партийные писатели старой закалки. Каждая фраза отточена, доведена до иезуитской схоластики, выстроена, как в отчетных докладах Брежнева – чувствовалось, читалось: это не случайно! Читалось: не просто статья, не только отдельное мнение. Позиция редакции, органа ЦК. И не просто редакции, и не только ЦК. Позиция молчаливого большинства, позиция самой партии, бери выше, самого народа!
Вот в чем главная пакость.
Довольно быстро стало известно: статью читал Лигачев, и читал до публикации.
Проверить было нельзя, невозможно, не проводить же формального расследования через Комитет партконтроля, не затевать же скандал, хотя подобные предложения были.
…Нет, он ответит так же, как они, их же оружием. Это будет статья в «Правде», которая всё расставит по местам, утихомирит страсти, прекратит ненужную мышиную возню вокруг этого пасквиля.
Вызвал Яковлева, дал ему поручение. Однако прежде чем всё решилось в его пользу, Горбачев пережил на Политбюро очень тяжелый момент. Вот как это было, судя по записям, сделанным В. Медведевым, а также помощниками Горбачева А. Черняевым и Г. Шахназаровым:
«23 марта в комнате президиума во время перерыва на съезде колхозников произошел следующий разговор.
Лигачев. Печать стала и по зубам давать этим… Вот в “Советской России” была статья. Очень хорошая статья. Наша партийная линия.
Воротников. Да! Настоящая правильная статья. Так и надо. А то совсем распустились…
Громыко. Да. Думаю, что это хорошая статья. Ставит все на место.
Горбачев. Я ее мельком проглядел перед отъездом в Югославию.
Его перебивают… мол, очень стоящая статья. Обратите внимание…
Горбачев. Да, я прочитал ее потом, вернувшись.
Опять наперебой хвалят статью.
Горбачев. А у меня вот другое мнение.
Воротников. Ну и ну!
Горбачев. Что “ну и ну”?..
Неловкое молчание, смотрят друг на друга.
Горбачев. Ах, так. Давайте на Политбюро поговорим. Я вижу, дело куда-то не туда заходит. Расколом пахнет. Что “ну и ну”? Статья против перестройки, против февральского Пленума. Я никогда не возражал, если кто-то высказывает свои взгляды. Какие угодно – в печати, письма, статьи. Но до меня дошло, что эту статью сделали директивой. Ее в парторганизациях уже обсуждают как установочную. Запретили печатать возражения этой статье… Это уже другое дело.
А на февральском Пленуме я не “свой” доклад делал. Мы его все обсуждали и утвердили. Это доклад Политбюро, и его пленум утвердил. А теперь, оказывается, другую линию дают… Я не держусь за свое кресло. Но пока я здесь, пока я в этом кресле, я буду отстаивать идеи перестройки… Нет! Так не пойдет. Обсудим на Политбюро».
«Двухдневное заседание Политбюро, – пишет другой помощник Михаила Сергеевича, Андрей Грачев, – устроенное им для выяснения отношений внутри партийного руководства, превратилось в своеобразное “собрание по китайскому методу”.
Каждый из членов Политбюро и Секретариата должен был высказать свое отношение к “манифесту антиперестроечных сил” (так была официально заклеймена эта публикация в редакционной статье в «Правде» от 5 апреля, написанной Яковлевым…). Одним, и в первую очередь самому Е. Лигачеву, пришлось оправдываться и доказывать свою “полную непричастность” к появлению статьи, другим, как, например, В. Воротникову, поторопившемуся назвать ее “эталоном”, или В. Долгих – каяться и объяснять, что они невнимательно ее прочитали и проглядели антиперестроечный пафос… И хотя итогом изнурительного марафонского заседания стало столь желанное для генсека единодушие, расчистившее путь подготовке к партконференции, никто уже не заблуждался насчет этого вымученного единства. “И с этими людьми надо двигать вперед перестройку!” – жаловался Михаил Сергеевич после заседания своим помощникам».
…Он долго и трудно создавал в Политбюро баланс сил, правильный, аккуратный баланс. Все знали, что Егор Лигачев – убежденный, пламенный коммунист, он уравновешивал западника Яковлева, создавал почву, прокладку, твердую землю, на которой М. С. чувствовал себя легко, спокойно… Все знали, как важен для него этот баланс, эта возможность маневра, равновесия, не случайно же произошла эта драматическая история с Ельциным, который был крайним антиподом Лигачева и пошел на него в прямую атаку.
И вдруг всё изменилось. Всё покосилось.
Нарушился баланс. Зашатался трон. Он терпеть не мог все эти старорежимные, монархические штампы, – но куда было от них деваться, они точно передавали ощущение темной, страшной природы его власти, о которой он очень не любил задумываться, не хотел ее признавать.
Но она, тем не менее, существовала, эта природа власти, и вот теперь он задумался о ней по-другому, иначе, задумался трезво, с учетом всех событий последних месяцев.
Они все должны его бояться. Они должны дрожать от страха. Но он не любил, не умел, не хотел этого. Он презирал правителей, которые управляют страхом. Он хотел изжить в себе этот пережиток прошлого, эту темную волю вожака – крушить, давить, наказывать.
И он верил, что управлять страной, даже такой, как СССР, все-таки можно без страха, просто правильно выстраивaя людей, правильно объясняя им какие-то вещи, убеждая, личным примером в первую очередь. Искусно лавируя между противоречиями, политическими флангами, интересами, как между рифами и течениями, спокойно ведя свой корабль в четком направлении, по карте.
И вот – пробоина.
В Политбюро Горбачев заседал с 1978 года, уже десять лет. Однако ничего подобного никогда не видел и не слышал. Это очень похоже на раскол, на начало заговора. На какой-то ползучий переворот. На возникновение антипартийной, антигосударственной группировки. Сможет ли он совладать с ситуацией, справится ли?
На его месте Брежнев стал бы постепенно, планомерно смещать, отодвигать от власти потенциальных врагов. Хрущев объявил бы им открытую анафему. Сталин просто ликвидировал бы в одночасье. Горбачев пошел другим путем. Самым органичным для себя – путем политических маневров.
Михаил Сергеевич был искренним, убежденным коммунистом. Слова «социалистический выбор», «Великий Октябрь», «революция», «Ленин» – были для него священны. Они были символом его веры.
«Ленин, которого он действительно неоднократно перечитывал, магнетизировал не только своим интеллектом, но и… способностью безоглядно менять свои взгляды, веруя только одному богу – политической реальности, принося ей в жертву любые теоретические догмы и схемы, включая и свои собственные» (Андрей Грачев).
Горбачев не стал ждать очередного съезда партии, чтобы поднять принципиальные вопросы, как это было положено по Уставу КПСС. Он объяснил эту спешку ускорившимся темпом перемен. Нет времени ждать…