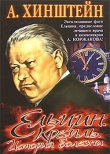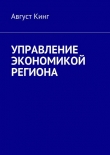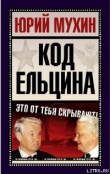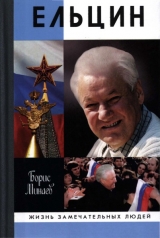
Текст книги "Ельцин"
Автор книги: Борис Минаев
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 34 (всего у книги 55 страниц)
Итак, Ельцин шокирован. Ельцин взбешен. Ельцин принимает отставку генерального прокурора Казанника, увольняет министра безопасности Голушко, Ельцин требует от своих помощников немедленного указа, составленного в «самых жестких тонах», от министра внутренних дел – «немедленных арестов». Суета в Кремле, страшное напряжение, счет идет на часы, потом на минуты…
И что же?
Что?
Куда девалась его решимость? Почему он позволил Хасбулатову, Руцкому, Макашову и прочим остаться на свободе? Что с ним случилось?
Вернемся чуть назад. Новый состав парламента почти сразу обозначил свою агрессивность по отношению к президенту. 17 января депутат Липицкий предложил создать комиссию для разработки амнистии по делам, связанным с событиями августа 1991 года и 3–4 октября 1993-го. Затем последовала инициатива Госдумы о проведении совместных заседаний с парламентами Белоруссии и Украины с последующей денонсацией Беловежских соглашений. И хотя постановление набрало лишь 123 голоса, это был тревожный сигнал. Президент направил в Госдуму свой проект амнистии для лиц, «не представляющих общественной опасности». 11 февраля 1994 года, когда депутаты начали рассматривать президентский проект амнистии, началась бурная дискуссия. «На одном полюсе, – пишут помощники Ельцина, – выступления… пронизанные искренним стремлением умиротворить общество после трагических событий осени 1993 года; на другом – резкие взаимные политические нападки». Стало ясно, что в такой обстановке новая Дума просто не сможет работать. 18 февраля с неожиданной инициативой выступил Сергей Шахрай – от имени трех фракций он предложил принять меморандум об общественном примирении и согласии. «Женщины России» предложили объединить принятие меморандума с амнистией.
Ельцин сумел погасить порыв гнева. Сумел взвесить все «за» и «против». Он понял, что ни Руцкой, ни Хасбулатов, ни все остальные (включая гекачепистов, также выпущенных на свободу) – действительно никакой серьезной «общественной опасности» уже не представляют. Наученные горьким опытом, они будут придерживаться строгих рамок парламентской борьбы. Так и получилось. Многие из выпущенных в те дни на свободу и вовсе ушли в тень, другие остались в политике. Но серьезного влияния на жизнь России это уже не имело.
В конце февраля 1994 года Наина Иосифовна была в Свердловске, у постели тяжело больной матери. А когда она вернулась, Б. Н. вдруг предложил ей съездить в отпуск, на Черное море, в Сочи.
Это был как бы подарок на день рождения (они улетали 14 марта). Отпуск в плохую погоду, в самом начале весны, неожиданный «как снег на голову», среди бурно разворачивающихся политических событий потряс умы обозревателей.
Одни видели в этом отпуске подтверждение того, что «Ельцин так и не отошел от событий 3–4 октября», другие – что он, как всегда, убегает из Москвы после политических кризисов, впадает в период депрессии и затишья, в то время как надо решительно действовать. Третьи беспокоились о его пошатнувшемся здоровье.
Провожали президента во Внуково-2 премьер Черномырдин, вице-премьер Олег Сосковец, министры обороны и внутренних дел Грачев и Ерин. Ельцин пообщался с журналистами, которые ждали в соседнем зале, сказал, что в Сочи будет купаться и играть в теннис, несмотря на плохую погоду. Возможно, Ельцин действительно мечтал окунуться в холодное море. Эта обжигающая ледяная вода всегда давала ему какое-то освобождение, очищение.
От чего – в данном случае?
Несмотря на его убеждение, что общественное примирение и согласие – единственный на данный момент политический лозунг, который способен заставить Госдуму и все общественные институты придерживаться конституционного поля, жить в рабочем режиме, а не в бесконечной политической схватке, – внутри него бушуют еще не остывшие страсти. Надо погасить их. Надо остановиться, оглянуться. Надо понять, что происходит…
В то время как Ельцин окунается в холодное Черное море, в Москве ходит по рукам, а затем публикуется в «Общей газете» анонимный документ: «Версия № 1» (затем – уточненная «Версия № 2»),
Его так и не найденные авторы писали: весной или летом 1994 года группа высокопоставленных государственных лиц «намерена осуществить попытку отстранения Б. Ельцина от власти». Утверждалось, что эта группа уже провела предварительные переговоры с министрами-силовиками П. Грачевым, В. Ериным и С. Степашиным… Сигналом к началу действий должно было послужить выступление по Первому каналу «известного общественного деятеля», а мотивом – «ухудшение состояния здоровья президента, его физическая неспособность руководить страной».
Документ, который попал на радиостанцию «Эхо Москвы», в пресс-службу президента, в редакции известных газет, был передан по факсу с номера телефона, который оказался фальшивым.
Абсолютно фальшивым был и сам этот документ, поскольку в числе «заговорщиков» фигурировали политически совершенно несовместимые лица: вице-премьер О. Сосковец (находившийся в тесных отношениях с Коржаковым) и Ю. Лужков (который уже конфликтовал с начальником президентской охраны), начальник Генштаба генерал Колесников, спикер Совета Федерации В. Шумейко, М. Полторанин, Ю. Скоков. Некоторые из этих людей были даже не знакомы друг с другом.
Называлась и фамилия того «крупного общественного деятеля», который должен был выступить по телевидению и тем самым обозначить начало действий новоявленного российского ГКЧП, – Юрий Скоков, бывший секретарь Совета безопасности, потенциальный премьер того правительства, которое должно было «приступить», если бы события 3–4 октября повернулись по-другому.
Разумеется, все участники «заговора» немедленно дезавуировали свое участие, обозвали документ фальшивкой и потребовали начать расследование по всей форме.
Скандал был такой остроты, что главный редактор «Известий» И. Голембиовский позвонил Ельцину в Сочи и среди прочих задал ему этот вопрос:
«Не могу не спросить, как вы относитесь к появлению так называемого документа “Версия № 1”… Политическая жизнь в стране приобретает новый острый накал. И странно, что службы, обеспечивающие безопасность, до сих пор не могут сказать ничего внятного…»
Ельцин отвечал:
«Во-первых, это провокация. Во-вторых, вы правы – соответствующие службы оказались беспомощны…»
Многие в те дни приписывали «Версию № 1 и № 2» политологу Глебу Павловскому. Он сам отказался комментировать эти слухи.
Но кем бы ни был этот безвестный конспиролог, попытавшийся перессорить тогдашнюю российскую элиту, он верно уловил главное: подступающий кризис.
Кризис, который отражал внутреннее состояние самого Ельцина.
Его неподвижность, его скованность, его усталость и его… раздражение.
Словом, идея примирения и согласия вызывала в те дни не только позитивную реакцию. Многие считали ее опасной, других она оставляла равнодушной. Третьи просто пытались ее торпедировать с помощью таких вот фальшивых и надуманных «версий».
Егор Гайдар не раз говорил, что раздражение, апатия, вялость Ельцина были следствием тяжкого стресса, который тот пережил в октябре 1993-го. На мой взгляд, причина не только в этом: он никак не мог почувствовать ситуацию, в которой находится, понять направление политического процесса. Вопрос «что делать дальше?» повис в воздухе.
Такой Ельцин был, безусловно, опаснее любых заговоров и путчей.
Это внутреннее раздражение начинает прорываться постепенно, шаг за шагом. Еще до отъезда в отпуск он нарывается на крупный внешнеполитический скандал: бывшего президента США Ричарда Никсона, который во время своего частного визита в Москву решил встретиться с вышедшим на свободу Руцким, он лишает правительственного автомобиля и охраны. Бедный Никсон едет в аэропорт всего лишь на посольской машине. А ведь 20 лет назад москвичи встречали его, стоя на тротуаре Ленинского проспекта, с цветами и флажками! За это приходится извиняться всем: и кремлевской администрации, и МИДу, и Биллу Клинтону, новому президенту США, который вынужден делать у себя на родине политические реверансы и объяснять действия своего российского коллеги.
Сам Ельцин извиняться не собирается. По его мнению, Руцкой – преступник, оказавшийся на воле по недомыслию членов Государственной думы. Раздражение впервые публично прорывается наружу.
В том же телефонном интервью «Известиям», отвечая на вопрос о своем здоровье, он говорит:
«С врачами не встречаюсь, в Мацесту (на лечебные процедуры. – Б. М.) не езжу… Работаю… Словом, никаких признаков болезни…» После Сочи он возвращается в Москву – вроде бы полным здоровья и сил.
Но раздражение, накопившееся в нем, постепенно прорывается – в первую очередь как раз через физическое состояние, неожиданными приступами и болями в сердце.
Американский биограф Ельцина с дотошностью клинического терапевта перечисляет все его болезни:
«Как бегун на длинные дистанции после пересечения финишной линии, Ельцин вдруг почувствовал боль от всех ран и травм, которых у него было предостаточно. Особенно серьезной была травма, полученная при аварийной посадке самолета в Испании в мае 1990 года. И хотя операция по восстановлению двигательной активности прошла успешно, впоследствии каждый толчок в спину, напряжение позвоночника вызывали острую боль. Из всех болезней Ельцина самой тревожной была ишемическая болезнь сердца, или недостаточное кровоснабжение сердца в связи с полной или частичной закупоркой коронарных артерий. Одно из наиболее распространенных сердечных заболеваний, ишемическая болезнь сердца вызывает сильную боль в области груди, которая часто распространяется в спину и руку»…
Посчитайте сами, сколько раз в этом пассаже повторяется слово «боль».
А вот как сам Ельцин описывал свое состояние в книге «Записки президента», вышедшей в свет весной 1994 года:
«Я должен был пережить все это: изнурительные приступы депрессии, мрачные мысли по ночам, бессонницу, головную боль, отчаяние и печаль при виде грязной нищей Москвы… весь груз принятых решений, обиду на тех, кто когда-то был рядом, а в трудное время предал, не помог, не проявил стойкости».
В сухом терапевтическом остатке – отпуск Ельцину не помог.
Человек, поглощавший деловые бумаги как машина, запоминавший сотни цифр, целые страницы текста наизусть, возвращал теперь своим помощникам аналитические записки без каких-либо замечаний. Мы радовались, вспоминают они в своей книге, когда в верхнем углу документа находили карандашную «галочку» – это значило, что текст хотя бы привлек его внимание.
Ельцин все чаще ломает рабочий график, отменяет встречи, переносит их, уезжает из Кремля в Завидово или в Барвиху на несколько дней. Особенно мучительными были для него протокольные мероприятия, например, вручение верительных грамот послами зарубежных государств, во время которых нужно было стоять час или полтора, что заканчивалось всегда острой, невыносимой болью в ноге.
Вот что пишут его помощники:
«Ближайшей целью вернувшегося после отдыха Президента было убедить или вынудить оппозицию подписать Договор об общественном согласии. Однако недомогания и “отсутствия в Кремле” продолжались. В это время у Президента сильно болели ноги, и ему порой было трудно не только ходить, но и сидеть. Все чаще приходилось отменять заранее запланированные встречи и мероприятия…Противники… использовали каждый подобный факт для того, чтобы вновь выдвинуть тезис о недееспособности Президента. 4 апреля Борис Николаевич попросил отменить посещение вновь построенной и только что открытой церкви Иконы Казанской Божьей Матери… 5 апреля не состоялось давно ожидавшееся Совещание по экономическим вопросам… 6 апреля – заседание Совета Безопасности».
Помощники в апреле этого года напишут Ельцину первое письмо, в котором выразят обеспокоенность «потерей темпа» и предложат меры к исправлению положения: встретиться с тем-то, выдвинуть такую-то инициативу, выступить по телевидению.
Вдруг замолчавший, ушедший в себя Ельцин начал все больше беспокоить свою команду.
Еще в самом конце предыдущего, 1993 года Ельцин встречался в Кремле с представителями интеллигенции. На встречу были приглашены А. Адамович, Б. Окуджава, Ф. Искандер, Б. Васильев, Д. Гранин, Б. Ахмадулина, Ю. Нагибин, Р. Рождественский, Д. Лихачев. Эту встречу Ельцин также хотел отложить, но пресс-секретарь Костиков, учитывая уровень приглашенных, решил настоять. Он дежурил у двери, ожидая, когда президент, наконец, появится. «На этот раз он шел медленнее, чем обычно, волоча ногу. “Безжалостный вы человек, Вячеслав Васильевич, – сказал Ельцин. – Не жалеете президента…”». Думая, что президент шутит, ободренный Костиков гнул свое: «В конце концов, можно отказаться… от вашего выступления. Писатели и сами всё понимают. Им важнее высказаться самим…»
Неожиданно президент остановился и повернулся к Костикову. «Неужели вы не понимаете? – сказал он Костикову голосом, который Костиков назвал «металлическим». – Сегодня мне даже сидеть трудно».
Подписание Договора об общественном согласии происходит 28 апреля 1994 года. Это большое, торжественное событие в Георгиевском зале Кремля по-своему уникально. Цветы, пресса, парадные костюмы – среди тех, кто ставит свои подписи, есть и непримиримые враги – например, Гайдар и Жириновский.
Ельцин работает над текстом своего выступления на церемонии подписания договора 28 апреля очень тщательно, отвергает один вариант за другим, правит, дополняет, исправляет. Как пишут помощники, «это было одно из тех событий, когда он по-настоящему волновался». Неужели будет достигнута та ситуация, при которой можно спокойно продолжать реформы, вывести Россию из тупика?
Вот что говорил Ельцин 28 апреля 1994 года:
«Почти восемь десятилетий назад нашу страну постигла страшная трагедия. Россия была ввергнута в бездну Гражданской войны… Кровавая межа разделила людей на белых и красных, на своих и чужих, на врагов друг другу.
…Надо прервать кровавую череду подобных событий. Это не было сделано нашими отцами и дедами. Это обязаны сделать мы. Обязаны сделать, чтобы вручить нашим детям мирную Россию…»
Но договор отнюдь не вызвал в российском обществе того энтузиазма, на который он рассчитывал. Лидер российских коммунистов Г. Зюганов и лидер партии «Яблоко» Г. Явлинский отказались ставить свои подписи под договором. Критиковала договор и демократическая интеллигенция – не слишком ли высокую цену собирается заплатить президент за мифическое «согласие»? Первые же сессии Государственной думы выявили одну простую истину: оппозиция осталась оппозицией, причем – по-прежнему непримиримой.
Однако ситуация все-таки изменилась. Вместо эпохи открытого противостояния началась эпоха закулисных договоренностей, долгих изнурительных переговоров, торга, компромисса. Да, это было много лучше, чем уличная война.
Ельцин внимательно прислушивается к тем сигналам, которые посылает ему оппозиция через своих переговорщиков. При подготовке Договора об общественном согласии коммунисты выставили ряд неприемлемых условий: отказаться от приватизации, от реформ, удалить из правительства реформаторов, вернуться к государственной собственности в ряде приоритетных отраслей. Требование «убрать Чубайса» станет знаковым для всех закулисных переговоров с оппозицией образца 1994 года. Например, лидеры «красных фракций» считали, что Ельцину выгоден перенос выборов. И парламентских, и президентских. Перенос выборов их вполне устраивал, новые выборы в парламент в 1995 году казались слишком близкими.
«В обмен» они требовали контроля над правительством – убрать одних, назначить других.
Ельцин, лично не принимая участия в переговорах, рекомендовал – выслушивать, записывать, но не давать никаких обещаний.
Помощники Ельцина пишут: «Отсутствие в Думе пропрезидентского… большинства заставляло исполнительную власть прибегать к нестандартным ходам для “продавливания” своих решений. Фактически это сводилось в той или иной мере к подкупу в виде раздачи льгот, преференций и т. п. для коммерческих структур, стоявших за депутатскими фракциями (группами). Ясно, что чем дальше развивалась эта практика, тем дороже становились депутатские “услуги”».
Летом 1994 года он окончательно понимает – мечта об общественном договоре, о политическом перемирии, о совместной работе всех политических партий и движений пока несбыточна. У них нет общей платформы. Они никогда не смогут договориться.
Остается взирать на эту шахматную партию сверху, расставлять фигуры…
Вячеслав Костиков, пресс-секретарь Ельцина, напишет позднее: «Желая вывести Ельцина из-под огня критики по экономическим вопросам, помощники президента, члены Президентского совета настойчиво рекомендовали ему., дистанцировался от действий правительства, сосредоточить внимание на политической стратегии, на отношениях с парламентом, с политическими партиями. По существу, это были верные советы, вытекавшие из сути новой Конституции. И президент принял их во внимание. Он отошел от непосредственного руководства экономикой, почти перестал вести “президиум Правительства”. Но в личном плане это отрицательно сказалось на внутренней стабильности Ельцина.
Он вырос и сформировался в гуще хозяйственных вопросов. Как бывший секретарь обкома КПСС, ответственный за огромный и насыщенный промышленностью регион, он привык именно к экономическому руководству, привык вникать во все тонкости хозяйства. Все его способности и привычки развились именно на этой ниве… И вот теперь, сдав Черномырдину тяжелый экономический рюкзак и, казалось бы, освободив силы и время для национальной стратегии, он вдруг оказался без внутреннего стержня. Ельцину пришлось учиться играть на совершенно новом поле и в новую игру, где еще не было правил и где его личный опыт был мало пригоден. В 63 года ему пришлось учиться заниматься собственно политикой. Его интеллектуальный аппарат, отточенный для решения конкретных вопросов, оказался мало адаптирован для осмысления достаточно абстрактных понятий, таких, как национальные интересы, политическая стратегия. Он привык к огромным усилиям воли и ума, которые тем не менее приносили видимые и быстрые плоды. Теперь же пришлось столкнуться с проблемами, решение которых требовало времени – пяти, десяти и даже более лет. Это обескураживало. Положение усугублялось тем, что Ельцин не привык быть в роли ученика, не привык получать советы. Да и советы, в сущности, давать было некому. Большинство других российских политиков страдали теми же недостатками, что и Ельцин, но не имели его смелости, его способностей, его воли. В новой роли стратега Ельцину, в сущности, не на кого было опереться».
Не думаю, что его бывший пресс-секретарь Костиков здесь во всем прав: нет, Ельцин внутренне был готов и к стратегическим решениям, и к долгосрочным планам переустройства России. Но ему хотелось видеть хоть какие-то плоды своих усилий сегодня, сейчас, участвовать в стройке самому. А реальность новой России, хаотичная, неустойчивая, депрессивная, властно отодвигала от него этот долгожданный момент.
Между тем в ошарашенной всеми последними событиями Москве слова о «примирении и согласии» воспринимаются, мягко говоря, с иронией. Примирением и согласием здесь и не пахнет.
Первая половина 1994 года проходит под знаком краха «финансовых пирамид» и прежде всего – «МММ», творения братьев Мавроди. Причем «МММ» – далеко не единственная, а просто самая большая и популярная среди населения «пирамида». Смысл ее прост – покупая акции «МММ», так называемые «мавродики», по одной цене, люди буквально через два-три месяца могут продать их по более высокой. Пирамида подпитывает сама себя, и понятно, что рано или поздно она рухнет, а вкладчики останутся ни с чем.
Именно это и произошло летом 1994 года, спустя несколько недель после подписания меморандума о гражданском мире. Толпа окружила офис здания «МММ» на Варшавском шоссе и блокировала его. Это был непрекращающийся круглосуточный митинг. Десятки тысяч людей непрерывно дежурили у здания, их состояние можно было определить просто – психоз.
Вот что пишут очевидцы этих событий:
«Часть толпы вкладчиков, численностью около трех-четырех тысяч человек, организованно во время зеленого света на пешеходном переходе заняла его и отказалась уйти оттуда. Возникла ситуация перекрытия Варшавского шоссе – одного из самых оживленных в Москве.
В толпе в то же время раздавались призывы блокировать дополнительно и линию железной дороги, проходящую с другой стороны здания “МММ”.
Постовой сотрудник ГАИ, пытавшийся помешать толпе, был ею оттеснен, а когда попробовал сопротивляться – ему стали угрожать мерами физического воздействия. В этой ситуации сотрудник милиции произвел выстрел, почему-то в асфальт. По счастливой случайности рикошетом никого не ранило. После этого был вызван ОМОН для разгона вкладчиков».
Нетрудно было понять ярость и гнев этих людей – ведь многие из них продавали квартиры, занимали огромные деньги, чтобы вложить их в акции «МММ». На некоторых московских предприятиях даже зарплату выдавали не рублями, а «мавродиками». Ирония заключалась в том, что сам Мавроди был глубоко убежден, что к концу 1994 года превратит «мавродики» (с изображением своего портрета на ассигнациях) в «стабильное платёжное средство».
Рекламная кампания «МММ», которая велась по всем телевизионным каналам, со смешным персонажем из «народа», Леней Голубковым, с его нелепыми родственниками, у кого-то вызывала полное отторжение, а у кого-то ажиотаж. Леня Голубков на государственных каналах ТВ казался символом своего времени.
Символ был чрезвычайно грустным – в реальности Леня Голубков оказался обманутым вкладчиком.
Страна заново училась всему – участвовать в выборах, переносить экономические реформы, жить при демократии, при свободном рынке, наконец, училась покупать и продавать ценные бумаги. Но никто толком не мог объяснить, что же это такое – ценные бумаги. Определить их настоящую ценность.
Разноцветные «мавродики», цветные бумажки, с катастрофической скоростью потерявшие всякую стоимость, к сожалению, были своеобразной пародией на ваучеры, которые в ходе чековой приватизации выпускало государство. Напомню в двух словах, что означали эти «чеки».
1 июля 1992 года президент Ельцин объявил о начале программы «чековой приватизации». Перед миллионами телезрителей предстал руководитель Госкомимущества Анатолий Чубайс, который с указкой в руках, на схемах и диаграммах попытался объяснить, каким образом государственные предприятия должны переходить в частные руки.
…Именно этот исторический момент, если судить по многочисленным статьям, книгам, научным работам, стал отправной точкой коллапса отечественной промышленности, причиной ее упадка, падения в пропасть, остановки производства на многих и многих заводах и фабриках. В реальности промышленный кризис начался за несколько лет до этого. Прекращение государственных дотаций, госзаказа, разрушение экономических связей между республиками и регионами, исчезновение единой плановой экономики стран «социалистического содружества» произошло гораздо раньше. По причинам не только экономическим, но и политическим. Советская экономика перестала работать уже в 1989–1991 годах.
Развалилось на части само Советское государство, а без него не могла работать и экономика. И наоборот – развалилась советская экономика, а без него не могло существовать и Советское государство. Это был единый процесс, развивавшийся стремительно, могучими разрушительными толчками, похожий на землетрясение.
Приватизация тут была совершенно ни при чем.
Более того, стихийная приватизация госпредприятий гигантскими темпами шла и до Чубайса. Только называлась она по-другому.
Еще при союзном премьере Рыжкове вступила в действие так называемая «концепция полного хозяйственного ведения». Уже в конце горбачевской эпохи директор предприятия мог распоряжаться основными фондами предприятия по своему усмотрению.
Вот к чему это приводило: «На финише 1991 года стихийная приватизация уже бушевала вовсю. Чаще всего работали две схемы захвата госсобственности. Первая: имущество госпредприятия просто переписывалось как составная часть некоего вновь создаваемого акционерного общества. Вторая: госимущество становилось частной собственностью в результате проведения нехитрой операции “аренда с выкупом”» («Приватизация по-российски»).
Анатолий Чубайс приводит классический пример такой стихийной директорской приватизации НПО «Энергия». Здесь в уставном капитале акционерного общества поровну были оценены – и оборудование огромного завода, и «интеллектуальная собственность некоего товарища Петрова». «Что интересно, – пишет Чубайс, – открутить обратно такие сделки, как правило, невозможно. Потому что вновь созданные акционерные общества тут же вносятся в другие акционерные общества, и в составе этих обществ они еще раз оцениваются и переоцениваются… Абсолютно непробиваемая схема. Абсолютно неограниченных размеров хищения».
«Директорская» приватизация набирала обороты. Политически корпус «красных директоров» выступал против гайдаровской реформы, за восстановление госзаказа и плановой экономики. Практически – был заинтересован в том, чтобы закон о разгосударствлении был принят как можно позже.
«В чьих интересах шла спонтанная приватизация? Всегда, когда нет единого государственного подхода и нет настоящей государственной власти, всплывают интересы каких-то локальных элит. Так было и с приватизацией до 92-го года. Безусловно, захват собственности осуществлялся в интересах наиболее сильных – представителей партийной, директорской, региональной и отчасти профсоюзной элит. Государство не получало ничего: бюджетные интересы в ходе спонтанной приватизации не учитывались. А трудящиеся?.. В этих процессах они не участвовали никак. Словосочетанием “трудовой коллектив” лишь красиво прикрывалась выгодная для начальства сделка».
Поскольку процесс стихийной приватизации уже развернулся вовсю, с управляемой приватизацией («по закону») ждать было невозможно. Государство обязано было обуздать этот процесс. Оно было обязано обеспечить основной массе населения возможность получить свою долю собственности и свой шанс.
Развернулись споры о том, как и когда это делать.
Директорское лобби повело атаку с двух сторон: во-первых, говорили представители директорского корпуса, предприятия должны продаваться по «индивидуальным» схемам; во-вторых, необходимо подождать, пока ценовая реформа не стабилизирует инфляцию, пока рынок не наполнится товарами, а госбюджет – реальными деньгами. По сути, это значило отложить приватизацию на неопределенный срок, может быть – навсегда.
Чубайс отвергал и первый, и второй аргумент.
Разумеется, говорил он, освобождение цен приносит результаты очень быстро, раньше чем через год. Приватизация дает финансовые результаты лишь через семь-восемь лет. Но это не значит, что ее надо откладывать, – мы просто-напросто прибавляем к этому длинному сроку еще один год, еще два.
Где написано, гневно вопрошает он, что приватизация должна проходить после ценовой реформы? Странный вопрос. Нигде не написано. В том-то и дело, что разгосударствление такой огромной махины, как советская экономика, было процессом сугубо уникальным, не имеющим аналогов.
Сложнее было с первым аргументом. Директора (или, на западный манер, менеджеры) советских промышленных гигантов не хотели подпускать «чужаков» даже близко к своей территории. Хотели, чтобы процесс перехода собственности от государства к новым собственникам проходил под их чутким контролем. Чтобы они сами искали покупателей, а еще лучше – сами были бы и продавцами, и покупателями. Так, например, возникла идея «финансово-промышленных групп» под эгидой бывших министерств и ведомств, которая сразу хоронила главное зерно приватизации – возможность появления на нерентабельном предприятии эффективного собственника. В эти гигантские конгломераты предполагалось объединить заводы, фабрики, объекты соцкультбыта, дороги… Эту идею активно пробивало промышленное лобби в Верховном Совете РФ.
Чубайс признается, что приватизационная программа в какой-то мере была насилием. Но насилием над чем (или над кем)? Над стихийным экономическим эгоизмом руководителей предприятий, которые не хотели отдавать никому столь сладкий кусок. «Вспомним, – пишет Максим Бойко, один из соавторов программы, – на дворе канун 1992 года. “Умные головы” по телевизору, в газетах, в представительных собраниях озабоченно дискутируют на тему: готова ли Россия к рынку?.. А можно ли вообще в нашей стране проводить приватизацию? Поймут ли “наши люди”, что такое аукцион?.. На фоне всей этой теоретической дичи в стране вовсю развернулась спонтанная приватизация. Директора предприятий, руководители министерств и ведомств… делали свой маленький (а кто и не очень) бизнес. Правда… хотя они и контролировали предприятия, но не были их владельцами и потому не могли получать прибыль открыто, законно. Поэтому заключались контракты на продажу продукции по заниженным ценам, помещения и производственное оборудование сдавались в аренду подставным фирмам, выдавались кредиты, которые потом не возвращались, и т. д. – все это, конечно, с учетом личной заинтересованности директора…
Масштабы бесконтрольного воровства росли и ширились, и власть, сознавая, что надо вмешаться, не понимала, как это сделать».
Итак, зафиксируем этот момент: стихийная приватизация в стране началась гораздо раньше «ваучерной» приватизации по Чубайсу.
Наконец, последний, «железный» аргумент противников закона о приватизации был таким – приватизацию проводить надо, но «как в других странах», за реальные деньги, это единственно экономически обоснованный путь, это дополнительные средства в бюджет, это появление эффективного собственника.
Вслушаемся теперь в аргументы Чубайса. «Слова были вроде и правильные, но я думаю, что главная цель той полемики была другой: затормозить приватизацию любой ценой! Наши оппоненты понимали: после того, как механизм массовой приватизации будет раскручен, остановить его окажется невозможным».
Чубайс и его команда попытались проанализировать схемы, по которым шла массовая приватизация в бывших социалистических странах. «Изучили мы, например, опыт польской приватизации. Там начали продавать собственность на денежных аукционах. И что же? Из-за отсутствия иностранных и внутренних инвестиций продажа (контрольных пакетов. – Б. М.) двигалась черепашьими темпами и приносила бюджету не такие уж большие деньги. За первые два года… удалось продать контрольные пакеты акций только тридцати двух крупных и средних предприятий. Это принесло в бюджет всего 160 миллионов долларов…»