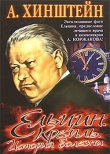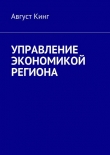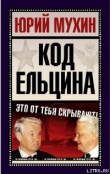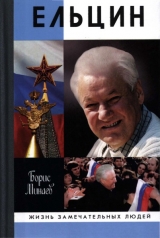
Текст книги "Ельцин"
Автор книги: Борис Минаев
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 36 (всего у книги 55 страниц)
Тему начали еще при Горбачеве, когда Ельцин был «главным оппозиционером». Врагом партии. «Отщепенцем и оппортунистом» для КПСС. Именно тогда в народное сознание стали целенаправленно внедрять идею: Ельцин – тяжело пьющий человек. Внедрять с помощью газет, телевидения, «инструктивных писем». Политический заказ ушел, а тема, вбитая усилиями горбачевских пропагандистов, в памяти осталась. Как только, начались непопулярные реформы – она сразу вспомнилась и очень многим пригодилась, особенно коммунистам и деятелям из Верховного Совета 1992–1993 годов.
Между тем, как мы помним со слов его близких, «снимать стресс таким образом», то есть пытаться расслабиться с помощью алкоголя, Ельцин научился только в Москве, не раньше[26]26
Вспоминает Наина Иосифовна: «В 1987–1988 годах, когда Борис Николаевич начал работать в Москве и у него часто было запредельное нервное напряжение, нам порой приходилось приглашать врачей домой. Мы тогда жили на совминовской даче в Успенском, и я помню, что приезжали к нам невропатолог Кузнецов и терапевт Нечаев. Однажды они дали такой совет: вместо снотворного и седативных препаратов выпивать перед сном, в случае необходимости, 100–150 граммов коньяка. Это, мол, лучше, чем химия. Сейчас я думаю, что, возможно, это была ошибка».
[Закрыть].
Однако это вовсе не значит, что до этого Ельцин вовсе не употреблял алкоголь.
Стиль, что в партийных, что в комсомольских органах (последние я помню хорошо до сих пор по работе в молодежной прессе 80-х годов) был, за редким исключением, единым: кто не пьет, тот «не наш человек». Партийные ужины и обеды, встреча гостей из Москвы (а их у Ельцина было немало) проходили в основном без женщин. Обязательным считалось выпить много, но не потерять контроль.
Рассказов о том, как Ельцин выпивал, в литературе, посвященной девяностым, достаточно. Рассказывали не только явные враги, но порой и друзья, и многолетние партнеры по политике (Сергей Филатов, Аркадий Вольский, Борис Немцов и т. д. и т. п.), а уж анекдотов и мифов на эту тему просто не счесть. Известно, какую водку Ельцин предпочитал, известно, как дегустировал коньяк, как спровоцировал приступ, не зная особенностей ликера «Куантро». Верить, не верить, делить надвое или на десять – это дело читателей.
Я же хочу добавить со своей стороны в эту тему одну деталь, вернее, предположение.
Ельцин принимал снотворное и так называемые «плановые» лекарства – видимо, сердечные, от давления, обезболивающие (после травмы позвоночника). На этом фоне пить, конечно, не следовало. Даже немного. Но у него была одна особенность (и об этом он сам написал в своей книге): он не признавал возраст, не признавал болезнь, не верил, что его организм может дать сбой. Говоря другими словами, до операции на сердце Ельцин всегда воспринимал свое здоровье только как богатырское.
Интересно провести аналогию с другой политической фигурой – бывшим президентом США Ричардом Никсоном. Через десятилетия после того, как Никсон ушел в отставку, вскрылись неприятные факты: Никсон консультировался у психотерапевта, в громадных количествах принимал психотропные препараты, наконец, Никсон много пил. Приступы его неадекватного состояния, приступы гнева или паники, когда он требовал, например, немедленно начать ядерную атаку на СССР, кончались тем, что окружение президента было вынуждено прибегать практически к изоляции главы государства.
Ничего подобного у нас в России, к счастью, не было. Никто бы и подумать не смел о какой-либо «изоляции» Ельцина. То, что в США было страшной государственной тайной, у нас широко обсуждалось в печати и на улице: о «вредной привычке» Ельцина вслух говорили с высоких политических трибун. Но самое главное, Ельцин никогда не прятался, как Никсон, в тайных комнатах и кулуарах. По русской традиции, после выпитой рюмки он совершенно не скрывал от окружающих своего веселого расположения духа или своего резкого недовольства. Так что говорить о «синдроме Никсона» тут не приходится. Скорее – о синдроме Ельцина. Он, повторяю, никогда не прятал своих слабостей, у него не было «второй жизни». Напротив, Ельцин жил абсолютно распахнутой, прозрачной жизнью публичного человека.
Вспомним его знаменитых современников, у которых наблюдались те же проблемы: Владимир Высоцкий, Олег Даль, Василий Шукшин, Олег Ефремов… Писатели, поэты, актеры. Их склонность к алкоголю оправдывалась тем, что в творческой профессии всегда найдется место и внезапным стрессам, и перепадам настроения, и тяжелой неуверенности в себе. Их внезапные «исчезновения» близкие друзья, семья, коллеги старались просто «не замечать».
Но разве в политике нет стрессов, нет перепадов, тяжелых, мрачных полос?
Другое дело, что крупный руководитель не может никуда исчезнуть – ни на год, ни на месяц, ни даже на один день. Становясь политиком, он как бы подписывает невидимое миру обязательство – отказ от обычных человеческих слабостей и проблем. Это жестокая реальность.
Неприятная грань проблемы еще и в том, что здоровье Ельцина стремительно ухудшалось. Было и другое – неожиданные экспромты, неподготовленные заявления, срывы рабочего графика. И тем не менее именно в те годы (1994–1996), когда близкие президенту люди вынуждены были постоянно следить за его состоянием здоровья, за его формой, Ельцин жил в сумасшедшем рабочем режиме: поездка следовала за поездкой, причем почти без перерыва, совещание за совещанием, вал принимаемых решений (и каких решений) поглощал его с головой. Его переутомление было крайним, предельным, а его сердце работало на последнем ресурсе.
Реакция ельцинской команды на инцидент в Берлине была очень острой. Тревога за его состояние, которая росла в течение всего 1994-го, достигла наивысшей точки. Казалось, президент теряет не только политическую инициативу (хотя его рейтинги были по-прежнему высоки), но и самое главное – прежнюю энергию, умение наступать. «Верните нам прежнего Ельцина!» – говорили демократы в том 1994 году.
– Честно говоря, – сказала Наина Иосифовна, вспоминая 1994 год, – я не могу слышать, когда ему снова и снова припоминают эти два эпизода, Шеннон и Берлин. Как будто не было ничего другого! Просто не к чему прицепиться, нечего предъявить, вот и спекулируют на этом.
Не к чему прицепиться? Поначалу меня удивила эта фраза Н. И. Как это «не к чему»? А Беловежская Пуща, а 93-й год, а война в Чечне? Но постепенно, раз за разом прокручивая пленку с этим разговором, я согласился с ней. Речь идет именно о личной чистоте политика. А не о тех исторических конфликтах и противоречиях, схватках и сражениях, в которых ему довелось участвовать. Однако именно способность Ельцина участвовать в «схватках и сражениях» и была поставлена под сомнение тогда, в 94-м.
Вернувшись в Москву, все помощники Ельцина решили изложить свою позицию в письменном виде. Первый помощник Виктор Илюшин сначала отнесся к идее письма отрицательно. Прийти в кабинет Ельцина целой группой тоже было нелегко, психологически немыслимо. Делегировать свои полномочия кому-то одному?
«…Когда письмо было готово, решили, что все-таки неправильно обойти первого помощника, тем более что по сути он разделял наши тревоги, – пишет Вячеслав Костиков. – Прочитав письмо, В. Илюшин неожиданно изъявил желание тоже подписать его».
4 сентября президент улетал в Сочи в отпуск. С ним уезжали А. Коржаков, М. Барсуков и В. Илюшин. Было решено, что письмо лучше всего отдать президенту в самолете.
Первый помощник Илюшин и начальник службы безопасности Коржаков в самолете напряженно посматривали друг на друга, сидя на своих привычных местах. Вскоре президент должен был нажать кнопку для вызова Илюшина – для традиционного просмотра документов.
Илюшин положил письмо в папку.
Дождался, когда загорелась кнопка, прошел к Ельцину в салон, положил папку на стол: «Посмотрите». Вышел, напряженно согнувшись.
Реакция последовала незамедлительно.
Ельцин снова вызвал Илюшина. В тяжелом гуде моторов, в вибрации полета как будто стала слышна и сердечная вибрация.
– Вы что мне за гадость тут подсунули? Что за галиматья? Помощники…
Он швырнул Илюшину письмо.
Сделал знак рукой – идите, видеть вас не хочу.
У трапа Илюшина ждала Наина Иосифовна.
– Зачем вы это сделали, Виктор Васильевич? Что вы ему там дали? Что теперь будет?
– Это было необходимо, Наина Иосифовна, – подавленно ответил Илюшин.
Но президент вел себя в Сочи на удивление спокойно. Никаких разносов, конфликтов. Никакой реакции. Он просто с ними не разговаривал.
Молчал.
Так что же писали помощники своему шефу тогда, в сентябре 1994 года? Почему так долго (семь лет!) не решались опубликовать этот документ?
Письмо большое, и я позволю себе привести лишь некоторые фрагменты (полностью оно опубликовано в книге «Эпоха Ельцина»):
«Уважаемый Борис Николаевич!
…Приближается 1996 год – год выборов… Фактически в стране начинается предвыборная президентская кампания. Подошло время, когда требуется высочайшая концентрация воли, здоровья самого Президента, четкое и активное взаимодействие с помощниками и единомышленниками.
Однако в последнее время все очевиднее проявляется противоположная тенденция. Налицо снижение активности Президента. Работа носит нерегулярный характер со взлетами и резкими падениями активности. Утрачивается постоянный и стимулирующий контакт с политической средой, Президент оказывает все меньшее воздействие на политическую ситуацию. Политическое планирование, столь необходимое для поддержания стабильности в стране, все в большей мере подвержено иррациональным факторам, случайности, даже капризу. Существенно снизилась интенсивность политических контактов и консультаций Президента с партиями, лидерами. Мнению и голосу общественности все труднее достучаться до Президента. В этой связи центр не только экономической, но и политической активности постепенно смещается в сторону Правительства. Утрачиваются позиции в среде предпринимателей и интеллигенции.
Становится заметным, что Президенту все труднее дается контакт с общественностью, журналистами, читательской и телевизионной аудиторией. Усиливается замкнутость Президента в крайне узком кругу частного общения.
Понимаем, что одной из важных причин этих негативных тенденций является объективная усталость. Ведь Вы уже в течение 10 лет выдерживаете огромную политическую и моральную перегрузку. Однако есть и иные причины. Прежде всего пренебрежение своим здоровьем, известное русское бытовое злоупотребление. Имеет место и некоторая успокоенность, даже переоценка достигнутого. Отсюда – высокомерие, нетерпимость, нежелание выслушивать неприятные сведения, капризность, иногда оскорбительное поведение в отношении людей.
Говорим об этом резко и откровенно не только потому, что верим в Вас как сильную личность, но и потому, что Ваша личная судьба и образ тесно связаны с судьбой российских преобразований. Ослабить Президента значило бы ослабить Россию. Этого допустить нельзя.
В этой связи считаем своим долгом привлечь Ваше внимание к “берлинскому инциденту”. Важно понять его политические последствия…»
Далее помощники дают конкретные рекомендации, и эти подробности сегодня не столь уж важны.
А концовка письма такая:
«Борис Николаевич!
При необходимости можно было бы расширить перечень назревших мер и корректировок. Но нужна ваша воля и решимость внести эти корректировки. Нужно тесное взаимодействие с командой.
В сложившихся условиях фактор времени имеет решающее значение. Начинать нужно сейчас, не откладывая. Необходимо перехватить политическую инициативу.
Готовы помогать Вам, работать вместе с Вами во имя интересов демократической России. Верим в Вас!»
С Людмилой Пихоя, руководителем группы своих спичрайтеров, Ельцин впервые заговорит лишь через полгода, зимой 1995-го.
– Почему вы это сделали? – спросит он ее. – Почему не поговорили со мной лично?
Запомните эту фразу…
Считается, что Ельцин расправился со всеми, кто подписал письмо. Это не так. Лишь Вячеслав Костиков, пресс-секретарь Ельцина, прошедший с ним самые трудные дни 1992 и 1993 годов, осенью 1994-го будет отправлен в почетную ссылку – послом в государство Ватикан.
Однако сам Ельцин перед тем, как окончательно попрощаться, спросил Костикова:
– Вячеслав Васильевич, так что будем с указом (о переводе на другую работу. – Б. М.) делать? Может, вернетесь?
Среди подписавших письмо есть одна фигура, которая стоит как бы особняком. Александр Коржаков. Каково же его участие в этой истории?
…Начиная с 1990 года Ельцин и Коржаков становятся всё ближе, их отношения довольно скоро перестают носить характер служебных, чисто деловых. Формально Коржаков числился в частной охранной структуре, никакой официальной должности при Ельцине с 1988 по 1990 год у него не было.
Тем не менее до того, как стать депутатом, Председателем Верховного Совета РСФСР, Ельцин частенько передвигался по Москве на личной машине Коржакова – «Ниве». А когда политическая борьба слишком «доставала», с удовольствием ездил в его летний дом, в подмосковную деревню, которую Александр Васильевич не без юмора называл «Простоквашино».
Именно к этому периоду относится период ельцинской «реабилитации», когда после жуткого напряжения, депрессии, после стольких лет существования в футляре партийного лидера он вновь ощутил почти забытый вкус жизни, почувствовал себя свободным и сильным.
Прямо скажем, романтический период…
В ситуации непрерывного стресса Ельцину был очень нужен друг, с которым можно поговорить откровенно и который при этом не будет вникать во все сложности политической борьбы. Пусть этот «друг» далеко не всё понимал, пусть ему не хватало кругозора и интеллекта, в данном случае это не важно. Эмоции нужнее.
Кризисы 1991 и 1993 годов сделали эти эмоции прочными и глубокими. Ситуация грозила стать катастрофической, и Ельцину было действительно важно знать, что рядом есть человек, в прямом смысле готовый пожертвовать ради него своей жизнью. Ельцин, конечно, не забыл, как предал Горбачева в августе 1991-го начальник его охраны Медведев. Да и Коржаков никогда не ленился грамотно напомнить ему об этом.
При этом Ельцин никогда, ни при каких обстоятельствах не переходил с Коржаковым на «ты». Их отношения развивались как бы на двух уровнях. Первый, так сказать, рабочий и будничный, предполагал наличие дистанции, жесткую иерархию, прохладно-вежливое «вы». На втором уровне, пусть и никогда не проявлявшемся открыто, остававшемся в подтексте, Коржаков был другом, «кровным братом», которому было позволено многое, и об этом они оба тоже никогда не забывали. Отношения этих людей, достаточно глубокие и драматичные, могли бы стать предметом самостоятельного, может быть, даже художественного исследования. Достаточно упомянуть, что Ельцин был шафером на свадьбе дочери Коржакова, а сам Коржаков был крестным ельцинского внука. Слуги, помощники, секретари довольно часто перестают играть чисто формальную роль и занимают особое положение в государственной иерархии. Это мы хорошо знаем из истории. Но никогда это добром не заканчивается. «Тень, знай свое место!» – так герой может решить эту проблему только в сказке.
Собеседники Коржакова всегда отмечали его цепкий природный ум, хорошую память и реакцию, народный юмор. И конечно, преданность президенту. В качестве телохранителя Коржаков был действительно золотым самородком. Но для уровня руководителя самой мощной на тот момент федеральной спецслужбы ему слишком многого не хватало, прежде всего осознания пределов своей компетенции.
Коржаков никогда не скрывал, что рассматривает понятие «безопасность» предельно широко. «Я на вас стучал президенту, стучу и буду стучать, это моя работа», – откровенно говорил он в кругу помощников. Коржаков считал «своей работой» абсолютно все аспекты политической жизни. «Стучать», то есть вмешиваться, используя свое влияние, и в дела президентской администрации, и в отношения Ельцина и Черномырдина, он продолжал, несмотря ни на что. Конечно, представить себе такое при прежних, советских руководителях было немыслимо.
В силу особого положения он постепенно становился самостоятельной фигурой и подбирался к рычагам власти, стал лидером «силового блока» в окружении Ельцина. Начал проникать Александр Васильевич и в другие сферы. Ему удалось уговорить Б. Н. поставить «своего» человека в Госкомимущество, организовать особым указом льготы на торговлю алкоголем и сигаретами для Национального фонда спорта, где у него тоже стоял свой человек.
Были и другие примеры: так, однажды главный телохранитель предложил пресс-секретарю Ельцина прочитать «на предмет экспертизы» объемную экономическую программу, составленную его службой, в противовес программе правительственной.
– Александр Васильевич, но при чем здесь я? – слабо оправдывался пресс-секретарь.
Надо сказать, что все эти «записки» Коржаков исправно подавал на стол Ельцину.
К первой половине 1995 года список людей Коржакова, то есть его друзей или его протеже во власти, оказался уже довольно широким: в него входили и генеральный прокурор А. Ильюшенко, и вице-премьер Олег Сосковец, и начальник Государственной службы охраны, а затем Федеральной службы контрразведки Михаил Барсуков, вице-премьер, а затем глава администрации Николай Егоров. Пытался Коржаков назначить и «своего» председателя Российской телерадиокомпании и т. д….
В рамках этой нехитрой, но эффективной стратегии «порядочному и преданному» Коржакову был очень выгоден сентябрьский демарш главных фигур в администрации Ельцина.
Между тем реакция Наины Иосифовны на письмо помощников была весьма красноречива. Она абсолютно не считала его полезным. И вовсе не потому, что не разделяла тревоги его авторов.
Н. И. прекрасно знала характер того, к кому было обращено это послание. Она заранее знала, что реакция Б. Н. на письмо будет резко отрицательной.
Очень жесткие политические характеристики, данные в письме помощников, больно задели его – ведь это была его команда, и получалось, что они оставляют его одного вместе с этими проблемами, отказываются идти дальше вместе с ним, ставят условия…
Пусть это субъективная, эмоциональная оценка, но другой в тот момент она быть, наверное, не могла.
Прекрасна знал это и Коржаков, когда подписывал письмо.
Характер, привычки, миросозерцание слуги позволяли ему спокойно выносить жесткий нрав Ельцина, который для других становился непреодолимым барьером, позволяли интриговать, не стесняясь ничего. В этой обстановке он чувствовал себя как рыба в воде.
Этот год был очень нелегким (и объективно нелегким) прежде всего в экономике.
11 октября 1994 года грянул «черный вторник», обвал рубля.
Из-за падения курса российского рубля на ММВБ на 845 пунктов возникла реальная угроза экономического кризиса. Президент назвал сложившуюся ситуацию «попыткой финансового путча». Сотрудники банков объясняли происшедшее бездействием ЦБ РФ и правительства. В свою очередь, чиновники во всем обвиняли коммерческие банки, которые якобы по плану выбрасывали на биржу миллиарды рублей.
«Геращенко проглядел 11 октября 1994 года – “черный вторник”. Тогда… при полном попустительстве Центробанка курс рубля с грохотом обрушился на 27 процентов. В угоду банкам-спекулянтам. И президент Ельцин уволил “проницательного банкира”», – пишет современный обозреватель.
Ельцин не стал требовать отчета у председателя Центробанка о причинах падения национальной валюты. Без комментариев потребовал у него написать заявление об уходе.
Кстати говоря, миф о «великом банкире» Геращенко (который был создан впоследствии коллективными усилиями журналистов), судя по мемуарам современников и активных действующих лиц экономической драмы, не всегда соответствует действительности. Пока Гайдар боролся за жесткую финансовую стабилизацию в течение 1992 года, руководитель Центробанка, подотчетный лишь Верховному Совету, на полную катушку запустил печатную машину. Считал, что только так можно спасти экономику от кризиса. Именно Геращенко давал огромные «технические кредиты» странам СНГ.
История финансовой стабилизации в 90-е годы, а проще говоря, история российского рубля – тема отдельная, сложная. Однако обойти ее невозможно, ибо всё, что составляет сюжет этой книги – драмы и конфликты, взлеты и падения, – очень тесно связано с тем, как складывалась эта история. «Финансовая стабилизация, – говорил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» Евгений Ясин, один из крупнейших отечественных экономистов, – это вообще-то вещь очень скучная. Обычно ею занимаются так называемые денежные власти. Это Центральный банк, это Министерство финансов. Это всё связано с бюджетом, с цифрами, с какими-то расчетами, выкладками и т. д. и т. п. И как бы делают ее бухгалтеры, такие скучные люди. Не о чем рассказывать. На самом деле, макроэкономическая стабилизация – это одна из самых драматических страниц девяностых годов».
Образовавшееся к концу 80-х – началу 90-х гигантское количество «свободных» денег, необеспеченных товарами (так называемый «денежный навес»), невозможность что-либо купить на эти скопившиеся у населения громадные личные сбережения – продиктовали логику гайдаровской реформы. Необходимость сокращения денежной массы понимали, конечно, задолго до появления Гайдара. Но время «Ч» откладывали до последнего. Что было отчасти и понятно в стране, которая напоминала кипящий котел.
Евгений Ясин прибегает даже к такой смелой метафоре: когда командир в бою посылает людей в атаку, он знает, что не все вернутся из боя. Но если бой не выиграть, погибнет гораздо больше людей. Первые несколько месяцев гайдаровской реформы правительству удавалось держать жесткие рамки финансовой дисциплины. «Принимать какие-то популистские меры, в общем, нетрудно. А вот такие, это подвиг», – говорит Евгений Ясин. В начале 90-х президент Борис Ельцин потратил почти весь свой политический ресурс на поддержку гайдаровских реформ. Почему же они не принесли желаемого, то есть быстрого результата?
Во время либерализации цен огромную опасность для экономики представляет гиперинфляция. Запускается действие свободных цен, которые балансируют спрос и предложение. Поскольку спрос гигантский, а предложение маленькое – взмывают цены. Стандартным критерием гиперинфляции является месячная инфляция 50 процентов. Значит, в это время весь финансовый механизм страны приходит в негодность. Люди, схватив деньги, где бы они их ни заработали, немедленно бегут в магазин, потому что у них очень высокие инфляционные ожидания. В итоге очень трудно удовлетворить спрос, остановить цены. Начинает крутиться спираль гиперинфляции. Из этой ситуации очень трудно выйти.
Но в нашей стране стандартная модель (и без того невыносимо трудная) финансовой стабилизации столкнулась с еще одним, уже специфически российским явлением: сопротивлением реформе внутри самой власти, внутри существовавших тогда элит. Гигантская плановая экономика не хотела подчиняться законам стабилизации.
Рассказывает Евгений Ясин: «Цены либерализованы, и первые три-четыре месяца команда Гайдара держит деньги в ежовых рукавицах. И предприятия, которые привыкли получать деньги от государства, их не получают и никак не понимают, ну а что же дальше? Ну, хорошо, мы подождем еще месяц, еще месяц. Но мы же так не можем. Мы закроемся! Нам нужно покупать сырье, платить зарплату. Что они там себе думают? Пока они поставляли друг другу товары в долг. Но одновременно все время нарастало давление на правительство, потому что действительно это перенести было невозможно. Ну, предприятия просто останавливались. И, собственно говоря, с этого начался разлад между правительством и Ельциным, с одной стороны, и парламентом, Верховным Советом, с другой стороны, чтобы прекратить “это безобразие”. “Это безобразие” как раз и прекратил Виктор Васильевич Геращенко, когда он стал председателем Центрального банка. По совету одного из своих заместителей, они произвели зачет взаимных требований, то есть практически выпустили в оборот большое количество денег».
Это был гигантский удар по политике гайдаровского правительства. Джинн выпущен из бутылки, государство вновь запустило печатный станок.
Инфляция в 1992 году достигла такой цифры: 2600 процентов. 1993 год – годовая инфляция 930 процентов. Темпы помесячной инфляции не сокращались. Первые признаки финансовой стабилизации (после января – апреля 1992 года, когда еще работали гайдаровские «ежовые рукавицы») замаячили лишь к лету 1993 года: появилась на свет национальная валюта, российский рубль, и страны СНГ были вынуждены выйти из так называемой «рублевой зоны». В конце 93-го года, когда Гайдар вновь вернулся в правительство в качестве первого вице-премьера, на 30 процентов были сокращены бюджетные расходы, произведен так называемый секвестр.
Инфляция вроде бы вновь начала падать. «И хотя секвестр, который был проведен, – рассказывает Ясин, – оказал определенное воздействие, инфляция несколько упала к концу года, но она оплачена и самым большим падением производства за весь период 90-х годов. В начале 94-го года промышленное производство упало примерно на 20 процентов. И, конечно, это производило ужасное впечатление. И поэтому пошли опять на какие-то уступки. Опять северный завоз, опять посевная и т. д. И стали выпускать деньги в обращение, чтобы несколько смягчить ситуацию. Гром грянул 11 октября 94-го года. Когда за один день рубль упал на 30 процентов. И стало ясно, что жить государство долго так не может».
Однако и после «черного вторника», когда страна была вынуждена пойти на жесточайшую финансовую дисциплину, российский рубль продолжало лихорадить. Выискивались самые разные способы выскользнуть из финансовых норм. Только один обзор всех этих лазеек и ухищрений составил бы отдельную главу. Были, конечно, и объективные причины – неминуемое повышение зарплат и пенсий, война в Чечне. Однако в конце 1997 года помесячная инфляция составляла лишь 13 процентов, то есть снизилась практически до современного уровня.
…Казалось, что все тяжелые события этого года уже должны были кончиться, исчерпаться. Но впереди было еще одно, самое тяжелое испытание 90-х.