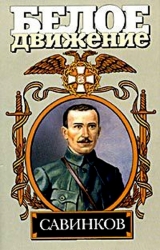
Текст книги "Генерал террора"
Автор книги: Аркадий Савеличев
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 35 страниц)
Но сказал совсем другое:
– Комиссар? Военный даже министр? Играем! Ставки сделаны, граждане-господа.
Керенский пожал ему руку, и на голой, бесперчаточной ладони проступил чужой нервный пот.
Савинков, скрестив на груди руки, на какое-то время застыл перед развороченным столом. Не такова ли и судьба?
Убийца в Божий храм ни внидет.
Его затопчет Рыжий Конь...
– Бледный! Разве вы забыли? Готовя книгу, я поправила. Рыжий – ещё только предвестие беды. Бледный – сама беда. Ах, несносный Борис Викторович! Сейчас бы я сказала: Конь Вороной. Будьте Вороным! Будьте!..
Как заклятье, как новая судьба. Разве уйдёшь от неё?
– Шпионите, милая 3. Н.?
– Что делать, что делать, Борис Викторович... – ласкающая, заигрывающая грусть. – Жить напротив Смольного, на самом острие бури, писать, описывать всё день за днём... и не прописаться в шпионы?! Да знаете ли вы...
– Гип-гип, ура, – остановил её Савинков. – Мне только что поступило предложение с того света... да, с того, запредельного, – выдержал он бешеный взгляд Керенского. – Предложение – стать дьяволом этой российской революции. И, знаете, я согласился. Дьявол – это в моём вкусе. Но! – поднял он палец, к чему-то прислушиваясь. – Поброжу-ка я по нынешним вонючим улицам и попытаю дьявольскую судьбу. Скучно на этом свете, господа.
Он не видел, как за его спиной заломила руки слишком уж экзальтированная 3. Н., но всё-таки, выходя, слышал всхлипывающий шепоток: «Ну, что с него возьмёшь? Он такой неисправимый бесёнок... да что там – революционный бес...»
Дьявол ли, бес ли – всё едино. Проходя по залу, гудевшему всякой чертовщиной, даже нижегородским рыкающим баском бывшего пекаря и нынешнего лекаря всея Руси, даже хитромудрым распевом уличного лотошника... нет, самого богатейшего издателя, даже балаганными шутками какого-то лапсердачного прихлебателя, Савинков неторопливо и ни на кого не глядя выпил кем-то услужливо поданный бокал шампанского.
– Спокойной ночи, граждане-господа.
– А говорили – литературные чтения? Говорили – Савинков? Не всё же мне отдуваться!
Красная косоворотка, скрип смазных сапог, рыкающий говорок нижегородского гения – всё раздражало Савинкова. Он бросил через плечо, уже ему одному:
– И вам спокойной ночи... товар-ршц!
Улица быстро отвела его от этого расшумевшегося дома прямиком к Таврическому дворцу.
* * *
Несмотря на поздний час, все подходы были запружены народом. Не то больше-вики, не то меньше-вики. Не то анар-хисты, не то монар-хисты. А больше всего праздных и пьяных. Скука не тётка! Побежишь не только на улицу, но и в самую растреклятую революцию...
Савинков поймал себя на мысли, что до сих пор не может всерьёз воспринимать происходящее. Фантасмагория при свете прожекторов, свечей и горящих в мягкой ночи факелов. А ведь и без того светло. Ещё не отцвели, подобно революционным бантам, белые петербургские ночи... или уже петроградские?.. Но всё равно – славные ночи! Жаль, их мутит всякий сброд... Хотя почему же? В потоке движущейся, мятущейся, ревущей толпы, не торопясь, как в лучшие времена, двигался открытый автомобиль, окружённый исключительно женской цепью. Ландо – сказал бы Савинков, знавший роскошь Парижа. Вот при виде его и ревела толпа. Думал, какой-нибудь прыщ совдеповский, а это... Ба! Неподражаемая, тоже сумасшедшая – а кто сейчас нормален? – революционно-царственная Вера Фигнер. Что делать, он уважал эту женщину. Она была сродни ему самому. У неё – не словоблудие, у неё – браунинг в руке. Право, так и виделся символ карающих народовольцев. Да что там – сам Савинков не знал ничего лучше браунинга, хотя ласкал рукояти всех мастей и всех марок.
– Фигнер!
Шлиссельбуржская узница, конечно, не слышала – что услышишь в рёве восторженной толпы... Она плыла, как рыба, в революционной реке. Савинков, само собой, встречался с ней за границей и питал своего рода симпатию, странную савинковскую симпатию, когда всё не всерьёз и всё с молчаливой усмешкой. Да и годы, годы!.. Её немолодое и отнюдь не миловидное лицо при подсветке таких уличных огнищ было даже по-женски симпатично, в чём он никогда бы не признался. Но тут что-то на него нашло, да и проезжала, вернее, проплывала она совсем близко, может, даже и видела его – не отворачиваться же. Он вежливо, сняв шляпу, раскланялся, да и вслух, кажется, добавил: «Славная бабёнка... если бы ещё лет на двадцать помоложе!..» Увлечённый зрелищем, не замечал, что к нему уже давно приглядываются, пожалуй, даже и принюхиваются. Этакий парижско-лондонский поклон и решил всё.
– Андикалон? – дохнули ему в лицо чесноком и воблой. – Буржуй? Над нашей революцьонеркой насмехается?
– Бей его, ребята, как матросского адмиралишку!..
– Нож в спину!..
Почему же не в грудь? Не в горло? Знать, грамотные! Только что красным пятном расплылась по газетам кровь несчастного адмирала Напеина – именно в спину своему адмиралу и воткнули ножище... Ах, славные балтийские матросики! То же ждёт и его?.. Ну уж дудки!
Прежде чем разнеслось и завязло в толпе это злосчастное «бей», он по-звериному вспрыгнул в раскрытое ландо, кулаком вышиб на тротуар шофёра и, рявкнув клаксоном, дал полный газ. Сопровождающих революционных амазонок железной волной раскидало на стороны. Может, кого и подавило, ибо вой и рёв усилился, но уже не мог сдержать вырвавшегося из толпы автомобиля. Улицей, переулком, снова улицей, каким-то проездом – тройка русская, выноси! И она, потаскав по городу, вынесла на Невский. Савинков спиной чувствовал, что с заднего сиденья, прямо под левое ребро, упирается прохладное, такое знакомое железо. Даже любопытно было: неужели браунинг? Но ведь не оглянешься при такой бешеной гонке, не посмотришь. Впрочем, и не выстрелишь. Кто же, не рискуя сломать себе шею, будет стрелять в несущегося на такой скорости шофёра? Савинков бесстрастно посмеивался. Нахлобученная от встречного ветра шляпа скрывала лицо, да и что увидишь со спины? Вера Фигнер, видимо, его не признала. А играть в прежние знакомства не хотелось. Надо было убираться подальше от браунинга несгибаемой народоволки. При выезде на Невский он увидел довольно большое пространство, резко высек мотор и нажал тормоза; пока в центробежном вихре раскручивалась машина и крутила в лоне своём потерявшийся браунинг, Савинков тем же звериным махом выскочил на улицу, приседая. Прогремевший выстрел даже отдалённо не коснулся его.
– Стареете, Вера. Разве так вы раньше стреляли? – не оборачиваясь, бросил он, отряхнул невидимую пыль со своего чуждого здешней толпе смокинга, поправил шляпу и неспешно пошёл вверх по Невскому.
Там, позади, ещё много пройдёт времени, пока очухается пришибленный шофёр, догонит и оседлает крутящуюся машину. Да и куда преследовать? Кого? За ним смыкался разгульный, весёлый народ. Уж истинно: гулять так гулять. Рр-революция... чёрт её дери!..
V
Военный министр хорошо узнал Главковерха Корнилова ещё в бытность свою комиссаром Юго-Западного фронта. Конечно, пришлось сменить английский смокинг на френч военного образца и, чертыхнувшись в очередной раз, всё-таки нацепить революционный бант; но всё ж и бант выглядел новомодной розочкой в этом море расхристанной солдатни. Если в Петрограде ножами, как овец, кололи адмиралов, того же славного Напеина, если полковникам плевали в лицо, если в Киеве никто и никому не отдавал чести, то что говорить про Бердичев? Зачуханный жидовский городишко волею судеб превратился в ставку необъятного российского фронта, но от того не стал ни краше, ни чище. Как лузгали все поголовно семечки, так и лузгают. Как сновали под ногами чесоточные жиденята, так и снуют. Как хлестались на залитых помоями улицах бабы мокрыми тряпками, так хлещутся и сейчас на потеху российскому воинству. Под гам и местечковый визг, под стук копыт и скрип несмазанных колёс. Из-под калиток, кое-как примотанных верёвками, потоками лились кухонные оплески; в низинах собиралась непроходимая бердическая грязь. Но что за невидаль – после загаженных-то окопов!
Целые стада серых шинелей полёживали по задичалым скверам, затоптанным садам и просто на улицах, где находилась хоть мало-мальская тень. Офицеры давно были разогнаны, воевать никто не хотел, но замызганные красные тряпки почти у каждого – у кого на фуражке, у кого на шинели, у кого и на плече, вместо содранных погон. «Ещё бы и на заднице!» – всласть посмеялся бывший комиссар, а теперь неограниченный правитель военного ведомства. Надо же, увидел и такое: какому-то спящему вахначу прямо на штаны и прицепили... Чтобы и в хмельном чаду отличался от всяких прочих господ офицеров. Даже караул из кавалергардов, по красоте и выправке не знавший себе равных, представлял теперь то же стадо всклокоченных, немытых, распахтанных дезертиров, лишь по воспоминаниям хранивших ещё недавнюю воинскую доблесть. «Под пулемёты бы всех!» – подумал военный министр, но содрать свой ажурный бантик не решился; давняя подпольная выучка: без нужды не манкировать мнением толпы. Толпа всегда права. В случае беды и спасёт, и пригреет, стоит лишь поверх крахмального белья вздеть на себя какое-нибудь отрепье и запах аткинсоновского «Шипра» и гаванских сигар притушить гарью махорки.
Он молча прошёл мимо расхристанных кавалергардов, и ещё дальше, к маячившим у входа текинцам. Вот эти – да! Для них никаких революций не существовало; был «бóяр» Корнилов – и всё. Раньше в карауле стояли парные георгиевские кавалеры, а сейчас вот они, намертво застывшие в своих стройных черкесках. Ясно, Корнилов тоже никому не доверял... кроме этих сынов Аллаха, любую жизнь вздымавших на острие кинжала. Но страшны были не они – они без приказа своего «бóяра» ни на кого не бросятся, – страх и стыд терзали душу при виде расползшихся по всему фронту серых отар...
В первые дни своего недолгого комиссарства Савинков хоть и нацепил плебейский бант, но не захотел отказываться ни от удобного английского костюма, ни от шляпы, ни от сигар, которые ведь нельзя же курить тайком, из рукава. А солдатский сброд не понимал, как это комиссар, следовательно заместитель командующего, может быть штатским человеком: не отдавать же честь, в самом-то деле, какой-то шляпе! Уж на что невозмутим Савинков, а тоже сорвался тогда на расхожие словеса: «Вы теперь свободные граждане свободной России, а я представитель вашего правительства!..» – «Временного», – как штыком под ребро, ударили ему в ответ, сразу обнажив суть всего происходящего. Но уступить он не мог. «Если так, если вы действительно свободны, вы должны защищать Россию до последней капли!..» – «Чаво? – было в ответ. – Чаво гуторит етая шляпа? Да растягай его да выбивай дурь шомполами!..» – уже похуже, чем штыки, застолбили его. И растянули бы прямо на бруствере окопа на потеху в сотне метров так же оравшей немецкой солдатне не выручи славные текинцы. Ни на кого не глядя, они как единым кинжалом разрубили солдатскую толпу и в своём строю вывели незадачливого комиссара к встречавшему на крыльце Корнилову. Тот, как положено, отдал честь, но после попенял: «Борис Викторович, я ничуть не сомневаюсь в вашей храбрости, но лезть в такую толпу с сиротливым наганишком... Ведь есть же за пазухой?» – не видя кобуры, прицелился он прищуром глаз. «Есть... за поясом», – немного обиделся Савинков за эту, тоже плебейскую пазуху, и вроде как от духоты расстегнул пиджак, с сигарой в зубах отвалился на спинку кресла. Воронёная рукоятка, торчавшая из-под ремня, не скрылась от цепких азиатских глаз Корнилова, но он, воспитанный всё же человек, бывший офицер Генерального штаба, поспешил перевести разговор надела фронтовые; тогда они, российские дела-делишки, ещё пробовали наступать, следуя прошлогоднему примеру генерала Брусилова. Теперь отступали, безвозвратно катились к развалу и анархии...
Обоюдная ли солидарность, чувство ли неизбежной беды – всё толкало локоть в локоть. Так они всегда и сидели на заседаниях Временного правительства. Так уселись и сейчас, Главковерх и военный министр... да, то ли министр, а то ли управляющий военным ведомством – кто тут кого поймёт! Истинные военные дела вершил Главнокомандующий, но ведь и гражданским хочется покомандовать, тому же Керенскому! Когда он, после недолгого комиссарства, назначал на министерство – да, сказал, полномочный министр! – но потом и сам захотел покрасоваться, как ему воспретишь? Вражда и сплетни гуляли по кабинетам... и все в клочья рвали одеяло на себя! Тот же давний эсеровский подельник и приятель – Чернов? То ли министр земледелия, то ли затрапезный «товарищ» в Совдепии, а проще говоря – отпетый прохвост; походя выбалтывает разным австрийским и немецким социалистам, вроде Отто Бауэра, все военные наисекретнейшие планы. Да хоть и Бронштейнам? Принцип у них один: чем хуже – тем лучше! Из солидарности с каким-нибудь берлинским краснобаем за полушку продадут Россию. А Корнилов не политик – Корнилов генерал; на заседания правительства, как башибузук, приезжает со своими текинцами и со своими пулемётами, но министрам-то всё-таки доверяет. Да и как совещаться, если ничего друг другу не говорить?
Фронт катится к Киеву и Петрограду, как лавина, а Совдеп до сих пор не разогнан и правит солдатским сбродом из Таврического дворца. Кажется, изменила военная выдержка даже Корнилову. Неужели прозрел? Он только что подсунул под руку записку:
«Борис Викторович, я кликну сейчас своих текинцев. Пора кончать нашу говорильню».
Ага, тоже проняло. А если уж у Корнилова кончается терпение...
Ничего хорошего это не сулило. Ну, разгонит бессмысленные посиделки, а что дальше? Горстка текинцев удержит власть? Совдепы сметут её вместе с Корниловым, Керенским... «И Савинковым – тоже», – явилась неизбежная мысль.
Он видел, что Корнилов готов сейчас сказануть нечто такое, что красной пеной поднимет весь Смольный, а Керенский по своему обычаю, перед заседанием наглотавшись кокаину, будет метать направо и налево, не отдавая себе отчёта, где сидит – в Зимнем ли, в Таврическом ли...
Вот дожили! Зная всё это, Савинков и сам написал записку:
«Лавр Георгиевич, крепитесь. И держите пока при себе как планы наступления, так и планы обороны – в такой обстановке не стоит их обсуждать. Всё это сегодня же станет известно немцам».
Записку небрежно подтолкнул с какими-то случайными бумагами. И надо было видеть скошенные от бешенства калмыцкие глаза Корнилова! На какое-то время Савинкову показалось: вот сейчас, сейчас он и кликнет своих текинцев! Долго ли. Они у самого парадного, в своих черкесках, папахах и при кинжалах. В пулемётах ленты заправлены, пока что молча обстреливают площадь. Но сюда, наверх, они и не потащат пулемёты – прямо своими кривыми клычами и кинжалами изрубят всех подряд, а Керенскому, может, и глазищи выколют. И всё будет в каменном молчании, разве что с единым словом: «Бóяр! Бóяр!»
От тревоги Савинков невольно кашлянул и вроде как нечаянно толкнул локтем Корнилова. Тот скосил левый зардевшийся глаз; но видно, что бешеный огонь уже угасает и офицерское благоразумие берёт верх. Савинкову он доверял... как своим любимым текинцам. Что-то более крепкое, чем кабинетная мясорубка, зрело в его обкатанной азиатскими ветрами, ловко посаженной голове. Ответно кивнул с благодарностью. Папку с докладом прикрыл смуглой цепкой ладонью.
Ближайшие военные планы хоть на этот раз остались непроданными, поскольку и не обсуждались...
Пустая трата времени. Единственное, что запомнилось, – паническая угроза Керенского:
– Не смотрите вы все на меня так! Я всё-таки глава России... себе же назло и разгоню Совдепию. Если хотите – так сегодня же. Чего откладывать?
Нет, он наглотался кокаину свыше всякой меры. Савинков от удивления даже присвистнул:
– Фьють, мои каурые!..
Под этот наркотический визг, под собственный свистёж и ошарашила его, как бомбой, шальная мысль: «Не ты – так я!»
Так бывало и в прежние времена, когда шли они с друзьями на «дело». Мгновение решало всё, мгновение!
VI
Он не любил оставлять дела на полдороги. «Пойду в осиное гнездо», – сказал сам себе и по окончании правительственного заседания, которое ничего, конечно, ни во внутренних, ни во внешних делах не решило, направился к Таврическому дворцу.
Путь не безопасный.
Если Корнилов, идя в правительство, прикрывался текинцами и пулемётами, то он прикрылся обыкновенной солдатской шинелью и скинул лайковые перчатки. Вот так: военный министр с поднятым воротником, руки в карманах и фуражка уже другая, с головы поручика Патина, а у Патина – с башки своего денщика, немаленькой. Так что на уши наползала. Но это, пожалуй, и хорошо: не на царском плацу. По крайней мере, всякому встречному – свой брат.
Поручик Патин праведной мыслью горел, когда собирался идти следом за своей фуражкой, мол, у него и ещё одна такая найдётся. Но Савинков сердито цыкнул: ну, без цуциков! Когда требовалось, являлся и язык прежнего экса.
Не успел и за угол к Таврическому завернуть, как наскочила возбуждённая 3. Н.:
– Не ходите... Богом прошу, Борис Викторович!..
– 3. Н.? Откуда вы взялись? Да и вам ли говорить о Боге?
– Да хоть о чёрте. Там только что стреляли. А недавно Александр Фёдорович пропылил, ко мне на парах заскочил, попросил стакан воды, прямо в прихожей, как водку, выпил и... – Она даже всхлипнула. – Выбежала вот следом, как дурная. Но пока одевалась, его машины и след простыл... Что это было? Стреляли ведь там! – ткнула она пальчиком в сторону Смольного. – Палили ведь, как осатанелые. То ли арестовывали кого-то, то ли на кого-то нападали...
Неужели Керенский, маятником качаясь между Зимним и Смольным, качнулся всё же в свою сторону? От него можно ожидать и этого. Говорит одно, делает другое, а думает третье. Грозил ведь разогнать Совдепию. Ах, если бы!..
Но, зная неукротимое, божественное, истинно поэтическое преклонение 3. Н. перед кумиром её «революционного салона», думать дальше, тем более вслух, не решился.
– Так и быть, на обратном пути заверну. Гип-гип, ура, – отрезал он всякие возражения и крупным, размеренным шагом двинулся к решётке Смольного.
Смольный!
Выпустивший из своих благородных стен столько чудных русских женщин, – лебединый взлёт великого Растрелли, – он напоминал теперь разбойничий притон. Заплёванный, загаженный. Туда свозили, в предвкушении власти, горы мучных мешков, полные кузова консервов, вина и вообще всякой жратвы. Вперемежку со снарядными ящиками и пулемётными лентами. С какими-то прихваченными на улице, закляпанно мычавшими провокаторами. Грузовики разносили за кованой решёткой смрад и вой. Бегали вооружённые до зубов солдаты и матросы – особенно балтийские матросики, ножами заколовшие, как барана, своего адмирала Напеина. Обвешаны, что азиатские шаманы, с ног до головы грохочущим железом. Выпущенные из тюрем каторжники, неприкрытые немецкие шпионы, разгулявшиеся в революции писатели и адвокаты; они призывали к себе министров Временного правительства и допрашивали их, как на пытке: «С нами – или против нас?» Поневоле и сам прибежишь. Вот только что, утирая кровь и слёзы на лице, – по пути, видно, потрепали, – прошмыгнул в спасительные ворота министр земледелия, он же и Чернов, он же и доносчик, а ко всему прочему и сукин сын. Министра, ещё недавно ораторствовавшего на правительственном заседании, провожали насмешками дегенераты с дамскими бриллиантами на грязных шеях, с золотыми кольцами на пальцах, которыми прищёлкивали по золотым же портсигарам с княжескими и графскими вензелями на крышках. Сами ворота ярко освещены, всё видно. Савинков шёл глаза в глаза, пыхтя разудалой козьей ножкой.
Прямо в воротах два пулемёта. В проходе между ними матросня. Не обойдёшь. Маузеры бьют по коленям, гранаты за отяжелевшими брючными ремнями. Гроза и опора революции, не шутка!
– У себя товарищ Троцкий? В кого стреляли? Почему так мало? Пуль жалели? – истинно революционными вопросами размёл себе путь.
Ему с запозданием, по-за спиной, отвечали:
– И-и... стрелять-то разучились! На одного лазутчика пять винтарей... и всё, мать их солдатскую... вкривь да вкось!..
Нечто подобное и говорилось, и слышалось ещё несколько раз, прежде чем Савинков рукой раздвинул последнюю пару штыков и вошёл в кабинет неукротимого Бронштейна.
Там, само собой, было столпотворение.
Савинков товарищески кивнул председателю Совдепии и молча прошёл в передний сравнительно свободный угол. Так что справа оказалось только раскрытое от духоты окно. Можно было не торопясь возжечь очередную козью ножку. Мол, дело пролетарское, подождём.
Надо отдать должное сметливому Бронштейну: одного за другим распихал по дверям своих приспешников и пошёл к нему навстречу с протянутой рукой:
– Сам Ропшин? Не дрогнув перед солдатскими штыками?
– Сам Бронштейн? Не боясь моих оплеух?
Вежливо привстал со стула, но руки за спину, чтоб отряхнуть всякую прошлую фамильярность: пощёчины пощёчинами, но когда-то, в Париже, они опускались и до приятельских рукопожатий. Правда, перед ним был уже не прошлый, безобразно расхристанный, раздерганный Бронштейн, а человек вполне упитанный, чисто выбритый по открытым частям лица и даже постриженный. К тому же в просторной кожаной куртке, которая делала его и суровее, и строже, чем позволяла плюгавенькая фигура. P-революция... браунингом её в висок!..
Но на лице ни один мускул не выразил этих мыслей. Савинков вполне вежливо сказал:
– Не друзья, но и не враги же?.. В конце концов, мы оба социалисты.
Троцкий тоже сдержанно хмыкнул:
– В большей... или меньшей... степени!
– Хорошо. Пусть я в меньшей... конечно, в меньшей степени, – согласился Савинков. – Но дело-то вот в чём: будем мы защищать Россию?
– От кого?
Вопрос был настолько провокационный, что Савинков животом ощутил жар набухшего под ремнём кольта. Пожалуй, и на бледно-каменном его лице какая-то искра порскнула, потому что Троцкий шутливо отшатнулся. Смешно, если уж говорить о дальнобойном вессоне. Да и не с тем пришёл Савинков, чтобы по-матросски трясти кобурой. Он вполне искренне повторил, уже на иной лад:
– Будем мы защищать революцию? Завоёванную свободу? Насколько я знаю, это целой строкой входит в вашу программу. Революция под кайзеровской пятой – этого вы хотите?
– Нет, – поспешил согласиться Троцкий. – Царь, кайзер, король – какая разница!
– Вот именно, – самым примирительным тоном заметил Савинков. – Но армия в последней степени разложения. Уж поверьте: я всё-таки был комиссаром Юго-Западного фронта, окопной благодати хлебнул. Дисциплину... хотя бы партийную... ваша программа признает? Вот-вот, – вытащил он руки из карманов, чтоб выказать свои мирные намерения. – Без дисциплины и к бабе не сходишь, – в душе улыбнулся давним воспоминаниям, и Троцкий это понял, уже в открытую хмыкнул. – А Россия – не баба. А кайзер – не маменькин воздыхатель, лезет на неё всем своим железным брюхом. Но солдатские комитеты, по-моему, не только нам – и вам не подчиняются. Окопное поцелуйство. Братание. Как вы думаете, к чему оно приведёт?
– К мировой революции.
– По-олноте, гражданин Троцкий! – убийственно засмеялся Савинков. – Вы и сами в это не верите. Придёт мародёрство. Всеобщая анархия. Животное скотство. Оно пожрёт и вас, и нас. Не разбирая ни правых, ни левых.
– Так что же делать... гражданин Ропшин?..
– Перед вами не стихоплёт! Перед вами министр! Человек, наконец! Давайте без псевдонимов.
– Это вам хорошо – вы Савинков, а хорошо ли мне, Бронштейну?..
– Бросьте. Среди моих бомбометателей были такие, с позволения сказать, евреи... Одна Дора Бриллиант, покалеченная собственной бомбой... ах, Дора, Дора... – вопреки характеру вздохнул он, – одна она чего стоит. С оторванными руками на каторгу пошла. Воскресни, так, право, окрестил бы... Но вот беда: я и сам двадцать лет не ходил к святому причастию. Может, вместе? Причастимся?
– А почему бы и нет, – хмыкнул Троцкий, как-то очень ловко доставая из телефонной тумбы початую бутылку «Смирновской», два стакана и два ошмётка селёдки на газете.
– Ай-яй-яй! «Правда»? – отметил Савинков характерный заголовок. – Не обидится.
– Не обидится. Она привычная... как и я, – побулькал Троцкий. – С нашим революционным причастием, гражданин министр.
– С революционным, гражданин Совдеп, – чокнулся Савинков и не поморщившись выпил, хотя водку не любил, да и от захватанного стакана несло ещё позавчерашней, наверно, селёдкой. – Вы спрашиваете – что делать? Я отвечаю – подчинить солдатские комитеты воинской дисциплине.
– То есть генералам?..
– Вот-вот, того же боится и Керенский. Но! – стукнул он о стол ненавистным стаканом. – Есть генералы – и генералы. Да и не они командуют полками – окопные страдальцы, самые простые пахари войны. По нынешним временам, выходцы из самых низов. Солдатские комитеты вполне могут положиться на них... чтобы и нынешние полковники полагались на солдатское братство. Две руки! Две руки единой общей революции, – внутренне покраснел Савинков за своё внезапное, отвратительное краснобайство, но заметил, что оно пришлось по душе Троцкому.
– Гражданин Савинков...
– Да, гражданин Бронштейн?..
– Ненавижу эту фамилию! Троцкий.
– Хорошо. Без оговорок.
– Вот так-то лучше. Не хотите второго причастия? – он без обиды плеснул одному себе. – Вы правы, пожалуй, гражданин Савинков... вы, конечно, правы, – поспешил договорить. – Армия есть армия. С анархистами нам тоже не по пути. Я поставлю об этом вопрос на заседании Совета рабочих и солдатских депутатов, я со всей откровенностью выскажу ваше мнение, мнение военного министра, которое мы на сегодняшний день признаем правомочным и с которым сотрудничаем...
– ...которому подчиняемся, как всякому правительству!..
– ...народному?..
– Разумеется. Что же это за правительство – без народа?
– Вот именно! Вот именно.
Разговор опять уходил в словесные дебри.
– А если, гражданин Троцкий, ещё проще? Ещё конкретнее? Солдатские комитеты – на правах военного совета. Полкового. Дивизионного. Армейского, наконец! Председатель совета – фактический заместитель командира. Что ещё надо?
– Выборный командир.
– Но ведь это же безумие. Представьте, завтра вы будете возглавлять правительство или военное министерство, всё равно. На вас прёт немец, со всеми своими пушками, танками и аэропланами. Что, вы будете на митингах избирать командиров? Да на это полгода ухлопаете! А немцу и недели достаточно, чтобы занять ваш революционный Питер... – Он умел, когда надо, и говорить, не только хорошо стрелял, – он сделал внушительную, убийственную паузу. – Что вы тогда скажете защитникам революции? Да и где вы вообще-то будете? В лучшем случае – за Уралом. В худшем – в немецком плену. Вместе со мной, конечно, поскольку я, подчиняясь вам, как военному министру, с фронта не побегу и разделю весь позор русской армии. Этого вы хотите?
Троцкий, явно смущённый, отбежал к другому, огромному, заседательскому столу и начал копаться в ворохе бумаг. Что искали его скрытые стёклышками бесовские глаза? Какие бумаги? Савинков не сегодня на свет явился, понимал: тянет время, раздумывает. Но у него-то времени не было.
– Так что мне сказать правительству? Видел я вас или не видел? Да и вообще, сам-то разговор был ли?
Савинков повернулся, чтобы уходить.
– Погодите... Борис Викторович, – вдруг по имени назвал его неукротимый революционер. – Разговор, само собой, был, но по нынешним временам мы пожалуй что и не виделись. Так, что-то через кого-то передавалось... Думаете, поймут вас в правительстве, что вы так вот, тайком, приходите в Советы?..
Савинков покачал головой.
– Вот видите. Мы поговорили... для обоюдной пользы... а дальше – как революционная ситуация сложится. Минутку! – схватил он со стола ручку. – Сейчас я дам вам обратный пропуск, чтобы не случилось чего...
– Савинков отовсюду выходит без пропусков. Даже из севастопольских военных тюрем. Даже из камер смертников!
Он небрежно распахнул шинель и, засунув руки в карманы, решительно двинулся к двери. Замолкший на полуслове Троцкий, конечно, не знал, что карманы-то были распороты и обе руки лежали на привычных, по-домашнему пригревшихся рукоятках.
Всё же возвращаться прежними коридорами Савинков не рискнул. Смольный он знал распрекрасно, ещё по прежним студенческим временам. Лабиринты переходов, смежных и перекрёстных коридоров, зал и рекреаций, разных подсобных, обслуживающих лестниц выводили ведь не только к парадному подъезду; ими пользовались и великодушные девицы Смольного, и ихние ночные дружки-революционеры... Вся и разница, что сейчас ещё нужно покруче цигарку в зубы, – было, было приготовлено с пяток козьих ножек. Савинков шёл вразвалку, никому не уступая дороги. Это здесь любили.
– Вот даёт пехота!
– А морячок за него в карауле сопи?
– Ла-адно! Что, браток, не сильно ли перебрал?..
Отвечать надо было не думая:
– В-вполне р-революционно, братишки! Только что сменился с поста – имею право?
– Имеешь... вот счастливец!..
Но надо было выйти ещё и за ограду.
У боковой малоприметной калитки – по давним воспоминаниям, ах, какой счастливой! – торчали часовые. Тоже кто-то пользовался потайным ходом... Савинков пошёл с разудалым присвистом, конечно, покачнулся и сунулся всей козьей ножкой прямо в чью-то бороду:
– Бр-раток... э-э, браток?.. Погасла, з-зараза. Зажжём р-революционную?..
Козья ножка, сверху, как патрон, прикрытая ватным пыжом, вспыхнула так, что и бороду чуть не обожгла.
– О, чёртушко!.. – одобряюще проводил его часовой. – Сразу видно, наш паря!
Напарник ответил более подозрительно:
– А ты забыл, что только один человек может пользоваться этой калиткой?..
Кто кому отвечал – уже не имело значения. Темнота Улица. Родная стихия. Савинков достал из потайного кармана сигару, откусил родимо пахнувший кончик, прикурил от ненавистной козьей ножки, а саму её отшвырнул назад, к ворчавшей солдатскими языками калитке.
Так, с сигарой в зубах, и 3. Н. на перекрёстке встретил.
– С ума сойти, мадам! Неужели вы всё это время торчали здесь?
– Да как же не торчать, когда вы, Борис Викторович, торчали в самой пасти!..
– ...Да-да, милейшая 3. Н. В пасти революции. Нашей революции! Ради которой мы десять с лишком лет метали бомбы и палили из браунингов. Гип-гип, ура!
Он был в прекрасном настроении.
– Как говорят товарищи, я надрался... надрался в компании с товарищем Троцким. Да! Тьфу, – невежливо сплюнул под ноги. – Терпеть не могу водку, но пришлось – пришлось, дражайшая 3. Н. Так что самое время запить её чайком. Угостите?








