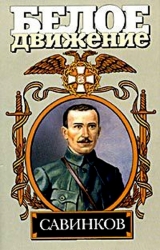
Текст книги "Генерал террора"
Автор книги: Аркадий Савеличев
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 35 страниц)
Его простой тон поднял на ноги Савинкова.
– В безоружных солдат я никогда не стрелял. Говоришь, у Корнилова видел? Может быть, всё может быть... Но в самом-то деле – что же делать?
От мужиков вперёд выступил Тишуня:
– А вот что. Первое: похоронить мёртвых, ихних и наших, тоже двоих, царство им небесное, Парфёну да Николаю... Второе: крепко запереть в амбаре весь оружейный инвентарь, потому как он денег стоит, на первое время и сторожу поставить, чтоб зря не стреляло. А третье – сообча выпить... покрепче, и за поминки, и за победу, как я понимаю. Дальше всякий сам решает. Мы же не будем добивать этих несчастненьких.
Так ясно высказался тихий Тишуня, что нечего было к добавить. Но всё-таки взводный, Иван усатый, низко поклонясь, добавил:
– Спаси вас Бог, мужики. Я-то псковской, из деревни Избяны...
– Тоже Избишино?
– Как у нас?..
Мужикам было удивительно слышать такую новость.
– Да мы не знали названия деревни. Нам приказ был по карте: ткнули пальцем – вот здесь раздавить контру!..
Савинков вытащил из внутреннего кармана новую сигару и, помахивая ею, остановил дальнейшие суесловия:
– Приступаем к первому пункту нашего соглашения... чтоб поскорее перейти к третьему! И-и... чтоб без всяких фокусов, – наказал он взводному, поднимавшему с травы своих воспрянувших продотрядовцев.
Тот согласно кивнул головой.
* * *
Ах, что за вечеря была!..
Савинков давно отвык от простых человеческих посиделок. Да, собственно, и не знал их: то Парижи, то Петербург, то великосветские салоны, то конспиративный бедлам. Конечно, и он поминал боевых друзей, и немало, но ведь под шампанское, под хрустальные бокалы. Здесь ни того ни другого не было. Да и к чему хрусталь? Тут же на теплом и ввечеру июньском кладбище расставляли столы, кто какой притащил. Повыше, пониже – камушки, пулемётами ощипанные с часовни, приносили и под ножки подсовывали, равняли. Скатерти отыскали, иные и свадебные, каёмчатые. Словно жалеть было уже нечего. На пристань нарочного сгоняли, вина в складчину привезли, да и самогонки кой у кого оказалось, у Тишуни так и предостаточно: говорил, на всякий революционный случай... Началось не с песен – с поминального плача; его по праву многодетной теперь вдовы завела Парфениха, баба ещё хоть куда. Бывало, похвалялась своим рыбарём Парфёном: уж дюжину-то, это точно, наласкаем! Слишком рано похвалялась... Теперь вот в изнеможенье припала к плечу этого пулемётчика, Савинкова; еле притащили за стол, ни мертву ни живу. Пленники глаз не могли поднять – ведь они же и убивцы; свои тоже не знали, что делать. Сироты – мал мала меньше – от свежей могилы к столам беспрестанно набегали, хватали что ни попадя.
Деревенская атаманша Капа тоже чудной стала: всё про «ундера» да про «ундера». Даже Савинков приглядывался: что за дурь такая? Он знал про увлечение поручика Патина. Да и не очередная любовь, и не дурная бабья кровь – просто сумасшествие. Взводный Иван как мог отбивался, но Капа раз за разом наскакивала на него и при всех целовала с жутковатым криком: «У-ундер!..» Может, и зацеловала бы и стыдобушку, не заведи Парфениха, откуда что и взялось, упокойный и успокаивающий плач:
Это чья в поле айва
Стоит без огорожи?
Это чей новый срубец
Стоит без верху строен?
Это чьи новы сени
Стоят без подволоку?
Это чья жарка шуба
Лежит без поволоки?
Это чьё злат-колечко
Сыр-слезой орошает?
Это чья бедна вдовка
Молода овдовела?
Это чьи бедны детки
Малы без батюшки осталися?..
Даже давно замерзшую душу террориста холод пробрал, когда они в восемь голосишек, по малости без особой и тревоги, закричали:
– А твои, мам, твои!..
Один из пленных вскочил из-за стола:
– Простите, люди добрые, больше не могу!.. – бухнулся ей в ноги и заревел.
Парфениха, как бы очнувшись, сама его усадила обратно, села рядом и подала полный стакан, а потом и себе такой же. Кто-то сказал запоздало:
– Пусть земля им... всем... будет пухом...
И вроде как не делилось на тех, что легли в братской могиле, и на тех двоих, приткнувшихся к семейным огорожам, и даже Ваня-Ундер, оплаканный двумя неделями раньше, тут как тут пребывал, под обезумевшим шепотком Капы:
– Вот так и живём, Ванечка, так и стараемся...
Душный июньский вечер незаметно переходил в короткую, тихую ночь, но благостной тишины за столами не было. Поплакали да и заговорили, поговорили да и попеть попытались, не то про царя-батюшку, не то про Шексну-матушку. Расходиться не хотелось, хоть и надо было, пора. Никто не поминал о главном: что теперь, после потери и второго продотряда, будет с деревней? Да и куда девать пленников? Савинков и Патин наутро же собирались обратно в Рыбинск, а ведь здесь десятеро оставалось! И хоть взводный Иван сказал: «До могилы вас не выдадим!» – как было верить? Оружие попрятали надёжно, но кто поручится, что в чёрный день чёрные же руки не найдут?
Чувствуя такое настроение, Иван-взводный предложил:
– Здесь леса и болота необозримые, – свяжите нас, завяжите глаза и отвезите в какой-нибудь дальний угол. В Питер возврата нет, всё равно расстреляют... Единственное, оставьте только пилу да несколько топоров и лопат.
Посовещавшись наедине с Тишуней и другими мужиками, Савинков и Патин согласились: верно говорит Иван. Доверие – не яйцо куриное, в одно утро не снесётся. Надо дать пленникам время, а деревне – спокойствие. И чтоб уж наверняка, они с поручиком Патиным сами и отведут их на Гиблую Гать; к ней только один проход, да и то по колено в воде. Нужны две подводы и два обратных возчика, хоть самых несмышлёных. С завязанными глазами пешедралом не погонишь.
Когда объявили пленникам это решение, они на удивление легко согласились и попросили только немного муки да картошки, мол, после чем-нибудь рассчитаются.
Но поутру не кто иной, как Тишуня, прибавил охотничье ружье со всем необходимым, а Капа, когда по росному берегу отмахали уже вёрст пять, сама просительно и навязчиво приладилась. Мол, что ей, бездетной и безмужней, в деревне-то теперь делать? Был Ваня-Ундер – и есть Ваня-Ундер, чего такого. Взводный качал головой, Патин, как последний солдафон, матерился, Савинков понимающе помалкивал. Что оставалось делать? Ясно, любовью ни от неё, ни от него и не пахло. От чёрной немочи блажит – и пусть себе блажит баба!
В сердцах и ей собственной же косынкой Патин завязал глаза, хлопнул по заду: полезай в телегу к своему лешьему «ундеру»!
У самого унтера ни он, ни Савинков ничего не спросили, поскольку надо было торопиться. Вёрст двадцать было до Гиблой Гати, не меньше.
Савинков, когда пересели на своих коней и поотстали, предупредил:
– Завтра же и пришли сюда первую партию наших боевиков. Пусть обживаются и за пленниками присматривают.
– Может, их по другим взводам рассовать?
Савинков некоторое время раздумывал.
– Нет, лучше им остаться под началом своего взводного. По крайней мере, он их из рук не выпустит, а если сам что надумает...
Не стоило договаривать. Фронтовой поручик прекрасно понимал, что делают в этих случаях.
– Я подожду поезда в усадьбе Крандиевских, пока барский управляющий и старый приятель, то бишь директор советского детдома, превратит меня в воспитателя красных бесенят и отвезёт на вокзал. Нужна бесенятам московская помощь? Нужна. Советскому воспитателю – красная улица. Подорожную мне с настоящей печатью сделает.
Патин, привыкший к неожиданностям, согласно кивнул.
– Я уеду в Москву ночным. Вы меня не провожайте. Занимайтесь своими делами. Заодно проверьте, не привязался ли какой провокатор. Что-то мне показалось – был хвост.
И тут нечего было отвечать, всё ясно.
– Видимо, это моё последнее возвращение в Москву. Мой штаб теперь будет в Рыбинске. Как вы понимаете, на нашего генерала Рычкова надежды мало. Сами будем генеральствовать – с помощью таких отличных полковников, как Бреде и Перхуров.
Когда прибыли на Гиблую Гать и пленники увидели понастроенные балаганы, взводный унтер не мог скрыть своего удивления:
– Да-а... А мы-то думали, что с одними бабами воюем!
Савинков не стал ему ничего объяснять, просто велел занять один балаган и обживаться. Унтер с пониманием заверил:
– Не сомневайтесь. Без вашего приказа мы отсюда не уйдём.
– Не уйдёте, – посмотрел ему прямо в глаза Савинков.
Настроение у него было прекрасное.
Когда уже около полудня распрощались и с пленниками, и с провожатыми и сели окончательно на своих отдохнувших лошадей – до этого большей частью ехали в телегах или брели пешком, – он всю обратную дорогу нет-нет да и вспоминал:
– Ну, поручик Патин! Я бы не додумался так удачно с бабой развязаться.
Патин не сердился. Было ему не то что обидно, а как-то тошно.
Видно, это стало слишком частым явлением, если день спустя, уже в Москве, Савинков говорил:
– Вы слышали? Мальчишку-корнета, и при такой-то младости уже георгиевского кавалера, на глазах всего Казанского вокзала бросили под поезд только за то, что он отказался снять боевые погоны. В наши планы сейчас не входит мелочными эксами заявлять о себе, но простить нельзя. Главный убийца известен. Кто берёт его на себя?
Как в старые времена, руки подняли все присутствующие. Но Савинков остановился глазами на самом молодом подпоручике:
– Вы.
– Благодарю за честь! – вскинул тот кудрявую мальчишескую голову, прикрытую бутафорской пролетарской кепчонкой.
«Ещё один», – подумал Савинков, холодно и рассудочно; чутьё его не обманывало: мальчику этому обратно не вернуться, потому что варвара-судию искать следовало в Чека...
Он внимательно, хотя и отстранённо, выслушал доклады об отправке своих полков из опасной и уже переполненной офицерами Москвы. После Мирбаха, невольно помогавшего им, надеяться больше нечего – нетерпеливые и тупоголовые спасители России грохнули посла... как когда-то он грохал великих князей... Но – время, господа?! Время совсем другое. В бытность свою парижанином-журналистом, он чёрной печатной краской мазал ненавистных бошей, в Москве же – не возражал, чтобы везде вхожий латыш-полковник Бреде пил с Мирбахом вино дореволюционных погребов. Во имя... да, во имя великой России! Не смейтесь, господа, над сентиментальностью писателя Ропшина.
Он, оказывается, уже который раз спрашивал одно и то же:
– Ярославль? Ярославль!
Может, и ему не первый раз отвечали:
– ...да, повторяю: шестьсот на месте, пятьдесят на подходе, остальные...
Остальные – это и есть тот самый, потерявшийся в дороге остаток. Чего доброго, славные гвардейские господа офицеры по купеческим запечьям поприжились! Он вызвал следующий город:
– Рыбинск!
– Четыреста с лишком...
– Лишку не бывает. Дальше.
– ...четыреста сосредоточены в окрестных пригородах. Принимая во внимание, что город небольшой, всех собрать в центре нельзя, и потому...
По тому или по этому пути – лишь бы «путём», как любит говаривать полугосподский-полукрестьянский поручик Патин. Как-то он там поживает?..
– Муром! Доктор Григорьев?
Да, такие дела: всем муромским офицерским отрядом командует земский доктор. Славный командующий! Он прибыл на совещание, как и положено, с докторским саквояжиком. Отчасти в целях конспирации, отчасти и по надобности: мало ли что на войне случается...
– Немного, – протёр он пенсне. – Семь десятков. Но люди надёжные и беспрекословно преданные, поскольку им...
Поскольку им – по семнадцать, восемнадцать, как тому лихому корнету, и перед лицом смерти не захотевшему сбросить царские ещё погоны?..
– Владимир!
– Тут близко от Москвы, следовательно, всё будет по расписанию...
По какому расписанию хочет жить неповоротливый Владимир, знать не хотелось. Чуяла уставшая от всех этих конспираций душа, что там не прочухаются до второго пришествия...
– Кострома?
– Кострома – как строма! Туда уже отбыл драгунский полк, один пехотный, половина артиллерийского...
И этот доклад, слишком уж бодренький, не мог ввести в заблуждение. «Полк», а чего доброго и «дивизия»! И докладчик не хуже Савинкова знал, что это всего лишь офицерский состав, в лучшем случае восемьдесят шесть человек, получающих положенное офицерское жалованье и мнящих себя уже во главе полков. Но где взять не только артиллерию для беспушечных артиллеристов, не только гвардейцев – обыкновенных волонтёров, каким был он, петербургский дворянин Савинков, во французской строевой форме, ещё при первом натиске немцев на злополучной Марне? Савинков сердился уже и на собственные воспоминания. Эк нашёл время! Жить приходилось не прошлым – сегодняшним, гнусным, опошленным днём. Пошлость была уже в том, что сидят они, такие распрекрасные гвардейцы и гренадеры, в вонючем подвале близ Таганки, куда в былые, кажущиеся уже фантастическими, дни не всякий карманник и не всякая проститутка решались зайти, «брезговали», честь свою берегли. А им вот, людям голубой крови, брезговать не приходится, они торчат на заплёванных ещё в прошлом веке стульях, вытирают шеи, а кто и лысины, давно не стиранными платками и разглагольствуют, что будет лучше после победы – республика или монархия, а если монархия – так конституционная или самодержавная, а если республика – так президентская или парламентская?.. С ума сойти можно! Савинков смотрел на своё ближайшее, самое светлое, окружение, но чистоты в душе не чувствовал. Была она, как и стулья этого воровского вертепа, заплёвана и загажена всеми прошлыми наслоениями. Генерал! Ба-тюшки... «Генерал террора»!.. Это звание он носил на своих плечах давно, носил вполне гласно и самодовольно... хотя какое к чёрту довольство? Обманывать себя не приходилось. Уже два десятка лет он скитается по конспиративным квартирам и мается наполеоновской дурью. Но Наполеон потому и стал Наполеоном, что интеллигентской гнилью не был заражён; он просто сказал: «Французский солдат считает за честь умереть во имя меня». А русский?.. Умрёт, конечно... как этот мальчишка-подпоручик; умрёт в своём пошехонском Рыбинске Патин; умрёт, как бокал шампанского выпьет, полулатыш-полурусак Бреде... ну, десятки, даже сотни других, включая и его самого, Савинкова... но много ли их на такую великую Россию? Почему она, позабыв и стыд, и честь, идёт за каким-то безродным Бронштейном, за каким-то Ульяновым?!
Едва ли кто догадывался, какой гремучей смесью заряжалась сейчас его грудь. Да едва ли кто и знал об этой смеси.
Он знал. Не одна Дора Бриллиант гремуче жизнь покончила – и Мария Беневская без рук осталась, возясь в гостинице с этой смертельной смесью. Когда на звук взрыва в её номер прянули служащие гостиницы и полицейские, не только стены, но и потолок был в крови. Ошмотья мяса, голая ободранная грудь прекрасной Марии – что может быть хуже? Помнится, он её, как и Дору, уговаривал: «Маша, ради всего святого – осторожнее. Хотя бы ради меня?..» Беневская, в отличие от Доры, даже застрелиться не могла – пошла на каторгу с культяшками, не в силах собственные трусишки натянуть... Красавица аристократка Татьяна Леонтьева, не успев подорвать себя, во французскую тюрьму, а потом и в дурдом угодила... Вот что такое гремучая смесь! Вот что было сейчас у него в груди. Ничего не выражало бесстрастное лицо, но душа ехидничала: «Браво всеобщей забывчивости – брависсимо! Не изволите ли откушать? Варево прямо-таки мефистофельское, но с сахарком, что по нынешним временам не так уж и плохо».
Да, прежде чем рванёт динамит и разнесёт в клочья местечкового выскочку или волжского неудачника-адвокатишку, надо сварганить адский котёл из соляной кислоты, бертолетовой соли и сахарку того же, да поосторожнее, поосторожнее, господа, потому что соляная кислота наливается в тонюсенькую стеклянную колбочку, в которую запаивается, кроме того, ещё свинцовое грузило, чтоб при ударе уж разбилась наверняка. Вы держали такую семифунтовую бомбочку в руках, положим, упакованную в коробку из-под конфект, с дамской аленькой ленточкой на перевязи? О, подержите, подержите!.. И не забудьте при этом, что вы спешите на свидание... пускай не с Бронштейном, а с великим князем Сергеем... вы лавируете в толпе при полном, безукоризненном фраке и безбрежной милой улыбке встречь каждой даме... но ведь это на людной московской улице, где даже господа, не говоря уже о купчиках, локтями по-медвежьи пыряются, не ведая того, что при малейшей неловкости от этой конфетной коробки половина улицы взлетит на воздух вместе с ошмотьями рук и ног?..
Ах, жалко того времени, господа! Какой нынче фрак, какие конфекты... Дни апокалипсические, дни неподвластные человеческому разуму. Разве человек разумный, никогда не носивший даже унтерских погон, возьмёт на себя смелость командовать такой армией – армией без солдат, с одними полковниками и генералами, и мальчиками, ещё не целовавшими девочек и возмечтавшими в честь победы разбить выпитый бокал шампанского о кирпич благословенной кремлёвской стены?!
Ах, господа, господа! Для кого мать родна, а для кого родна игра... Уж он-то, старый террорист-бомбометатель, цену себе знает... в том числе и цену потайную, шулерскую, если хотите, господа. Ну, разве не шулерство – так передёргивать, как в пошло-азартной игре, исторические карты России? Передёрнули адвокатишки-временщики, скинулся и тоже дёрнул у них же другой, уже волжский адвокатишка, сам-то не выигравший ни одного судебного процесса, а теперь кто прежний бомбометатель, прежний военный министр, без погон и с красной мочалкой на груди... или прежний парижский бонвиан, запросто раздававший пощёчины нынешним властителям России?..
Как хотите, господа, но всё это шулерская игра. Плохая игра. Опасная. И главное, заранее уже проигранная... Да-да, господа. Не вздумайте обвинять в измене. Савинков – не Азеф; Савинков пойдёт до конца, потому что он же и есть первый игрок, банкомёт. Помните, как бывало после оперной ложи, где внизу, в полутьме, в немыслимом экстазе пел умопомрачительный тенор: «Вся жизнь – игра!» – не так ли пелось и не так ли думалось? А потом начиналась игра и настоящая, без опер и без бутафории, иногда и в русскую рулетку... Да, господа. Кто не ощущал у виска револьверное дуло! Неужели, думаете, сейчас мир стал умнее? Неужели человеческая душа просветлела?!
Мысль раскручивалась, как пружина смертельного браунинга...
– Вы что-то крепко задумались, мой женераль?
Добрый и милый Саша Деренталь. Он потихоньку спровадил всех надравшихся самогонки полковников и нецелованных мальчиков и уж истинно по-французски метнул на стол бутылку шампанского, настоящей шампани, ещё той достославной, докеренской и добронштейновской поры...
– Нас ждёт, не забывайте, Любовь Ефимовна.
А раз Любовь Ефимовна ждёт, так самое время на этом заплёванном столе – без скатерти и без хрусталя, но истинно по-мужски – хлопнуть запылённой пробкой.
Даже из вонючего стакана – хорошо. Вроде как парижский фрак или лондонский смокинг на плечи возвратился, и белые лайковые перчатки взделись на хорошо отмытые, надушенные руки...
За игру, которая зовётся жизнью.
За игру, господа!
Но для этого им из прокисшего таганского подвала предстояло перебраться на замоскворецкую, вполне приличную квартиру, которая была не по зубам большевикам, потому что существовала под личной опекой французского консула Гренара. А бывший петербургский студент теперь вполне прилично и открыто, как французский подданный, служил в посольстве, с которым большевикам никак не стоило ссориться, хоть и кричали они об «интервенции» в Архангельске или в той же Одессе. Крики криками, а политика политикой. Игра!
Вот только бы не сцапали дорогой отнюдь не французского подданного, а вполне российского террориста!..
Ну, это дело техники, как говорится.
VII
Так уж в эту июньскую неделю складывалось – бывал больше у Деренталей да у Деренталей. Собственно, делать было нечего: всё делалось теперь само собой, если, конечно, подпольную глухую возню и подготовку к грядущим битвам считать настоящим делом. Савинков, размышляя об этом, себя не переоценивал. Некоторая самоирония только прибавляла энергии. Не становиться же теперь, когда и силы ещё не собраны по волжским городам, в позу Керенского-Наполеона. Всему свой черёд – и московским арестам, и крови по берегам великой реки... и этим вот игриво-салонным разговорам при хорошем самоваре и при хорошем, под чаек, французском коньячке. Франция – далеко, и Франция – близко... Не столько сам Деренталь – Любовь Ефимовна при содействии того же галантного консула Гренара всё достаёт и совсем по-парижски, хоть и петербургская танцовщица, путает хмельное вино с хмельной беседой...
– ...вы слышите меня, Борис Викторович, вы слышите?..
– Я слышу вас, Любовь Ефимовна, я слышу.
– А если слышите, так почему не поцелуете?
– А потому, что уважаю мужскую дружбу Александра Аркадьевича, слишком уважаю...
Деренталь есть Деренталь. Выпивоха, увалень... и полнейшее равнодушие к своей скучающей жене. Всё парижское быстро заквасилось у него на русских ленивых дрожжах.
– Не надо церемоний, друзья мои, – весь его сказ. – Не надо, дорогой Борис Викторович. Ради бога, целуйтесь. Мы ж с вами социалисты. Общественная собственность, социальное братство... ведь так?
– Так, Саша, так, – ответила за Савинкова Любовь Ефимовна, ответила, может быть, слишком звучно и открыто, но вполне искренне.
Дуплетом было не менее звучное эхо за окном.
– Опять маузеры?.. – отпрянула в сторону мужа Любовь Ефимовна.
– Винтовка. Хоть и женского рода, а ого-го!..
Деренталь коньячок по-свойски потягивал, ему-то что. Значит, опять в обратную сторону, к Савинкову.
– Женщина от страха... млеет, слышите, мужланы?!
Постреливали где-то за окном, но не очень часто. Видно, у большевиков кончались патроны...
– Как и у нас, дорогая Любовь Ефимовна, как и у нас, – едва ли она заметила улыбку на его губах.
Деренталь по-прежнему коньячком занимался. А Любовь Ефимовна что могла сказать? Только одно:
– Всё-таки вы несносный человек, Борис Викторович.
– Вас-то не снести, Любовь Ефимовна? Помилуйте, вполне снесу, на ручках, если хотите.
– Хочу! Хочу!
Она уже сидела у него на коленях, ожидая, когда ещё выше поднимут. Она была неподражаема в своей милой искренности, эта полупевица, полутанцовщица, полужена, полуэмансипе.
– Что же вы меня не несёте? Неподъёмна?
– В полном подъёме. Куда ж изволите?
– В кровать! В тёплую кроватку, разумеется.
Деренталь попивал из каких-то глухих дебрей ею же добытый коньяк и, в отличие от гостя и сожителя, посмеивался вполне открыто и благодушно. Всё это его не касалось. Жена? Любовница? Какая разница. Ведь жизнь – игра, не так ли, милые-хорошие?
– Не так... – вроде как его мысли читали, но совсем о другом: – Не так вы меня берёте!
– А как же, позвольте вас спросить?
– Женщин не спрашивают. Женщин берут и...
– ...и?..
– Люляют!
Деренталю после нескольких отличнейших рюмочек весело:
– Ну и язык у тебя, Любаша!
– А что – язык? Что, Сашенька?..
Она спрыгнула с одних коленей и перескочила на другие.
– Разве плох язычок? Разве не вкусен, мой гадкий, совсем не ревнивый Сашенька?..
– Люба-аша! Не кусайся. Хищница!
– Да, хищная... потому что жить мне осталось... – она замялась. – Всего лет восемьдесят.
– Восемь-десят?.. – уже и Савинкову захотелось улыбнуться, а заодно и размять затёкшие было колени. Он встал и походил вокруг кусающейся хищницы.
Она обиделась:
– А что, много? Что, жалко?
– Жалко, Любовь Ефимовна... вашей молодости! Зачем вам стареть?
– В самом деле, зачем? – отпрянула она от мужа и с лету, как истинная танцовщица, перекинулась на другие руки, верно и сильно подхватившие её.
Вечерняя игра, называвшаяся московской конспиративной жизнью, явно затягивалась. Савинкова подмывало позлить её:
– А не поговорить ли нам... всем троим... с другом морфеем?
Она, видимо, перебирала в своей бесшабашной головке какие-то цветные камушки. Бывала на французских приморских пляжах, как не бывать. Даже в войну мода на пляжи не остывала. Но стоило ли так вот разбрасываться? Что-то застыли в немом раздумье руки...
– прямо так вот... святой троицей?.. А может, вы толкаться будете под бока!
Уже на два голоса мужчины посмеивались. Савинков опустил свою капризную ношу на диван, прямо на недовольно мяукнувшую сибирскую кошку, и подошёл к столу.
– За мужскую дружбу, Александр Аркадьевич.
– За мужскую!
Но она и тут подоспела:
– А за женскую?
Выпили и за женскую. А делать было нечего – не говорить же о Рыбинске, куда опять уехал полковник Бреде, или о Ярославле, где снова кружили полковник Перхуров и юнкер Клепиков. Нет, такие серьёзности не для Любови Ефимовны, жены социалиста и самой почти что социалистки. Она была необыкновенно хороша в этот вечер – впрочем, помилуй Бог, когда же бывала плоха? Савинков даже одёрнул себя за такую оговорку. Но что дальше? Как ни усмехайся, а это пресловутый литературный треугольник – он вдруг почувствовал себя прежним Ропшиным, который в роскошном прокуренном салоне своей крестной 3. Н. мог вполне серьёзно читать стихи – о любви без дружбы, о дружбе без любви, как и должно быть с состарившейся, отдавшей словесам все свои жизненные соки, болезненной женщиной. Но здесь-то не крестная – здесь молодая и взбалмошная танцовщица, полужена-полубаловница этого добрейшего полуфранцуза. Следует добавить: с истинно русской душой. Для друга, для старшего друга, помилуйте, не только рубашку – жену свою ненаглядную отдаст этот славный социалист, не видевший особой разницы между парижским коньячком и кронштадтским морячком. Что тут такого? А ничего, господа, ничего. В Париже, в Москве – не всё ли равно? Хоть революция, хоть холера какая – не всё едино? Потому что – игра; потому что – жизнь. А жизнь вечна и неизменна. Жизни не изменяют, она не женщина.
Вечер выдался чудный. Можно пить за дружбу, а потом за любовь; можно и наоборот. Только бы не началось, как Савинков ехидно сам себе сказал, несносное стихочтение...
Вот, накаркал.
– Борис Викторович... Ропшин!.. Читайте. Я приказываю.
Он знал, что не отвязаться. Он понимал, что чем скорее, тем лучше.
– Извольте в таком случае, господа! Вот только рюмочку для самочувствия...
Нет родины – и всё кругом неверно,
Нет родины – и всё кругом ничтожно,
Нет родины – и вера невозможна,
Нет родины – и слово лицемерно,
Нет родины – и радость без улыбки,
Нет родины – и горе без названья,
Нет родины – и жизнь как призрак зыбкий,
Нет родины – и смерть как увяданье...
Нет родины. Замок висит острожный,
И всё кругом ненужно или ложно...
– Да, всё так!
Савинков не хотел быть Ропшиным; Ропшин не принимал Савинкова. Хмельной Деренталь покачал головой; Любовь Ефимовна истерично вскрикнула:
– Да разве таких стихов ждала женщина?! Да разве вы... за всеми этими... бомбами, революциями, конспирациями!.. позабыли, что нужно женщине?!
– Позабыл, – просто ответил Савинков, даже не улыбнулся, не разжал плотно сжатых губ.
Он ничего больше не добавил, муженёк прилёг на диване – как можно было в одиночку рыдать? Слёзы осушило горячим ветром:
– Танцевать! Я танцевать теперь хочу. Вы слышите, Борис Викторович? Вы слышите?!
– Слышу, – встал он от стола. – Слышу и... уже танцую...
Он всё умел... да, кажется, всё. Не только же стрелять и кидать бомбы, писать стихи и драть за шиворот Бронштейнов, любить затерявшуюся где-то в Европе первую жену свою – Веру Глебовну, и вторую – Евгению Ивановну, и вот эту, чужую... уж если придётся... Под танец, под танец, моя хорошая!
Любо-дорого было посмотреть на это каменно-безулыбчивое лицо, вопреки которому ноги выделывали такие выкрутасы, руки так свободно обвивались вкруг чужой, но покорной талии, что даже задремавший было муженёк приподнял голову и не без зависти прошептал:
– Танец маленьких... блядушечек...
Но шёпот был услышан, поддержан:
– Маленьких! Совсем малю-юсеньких, любу-усеньких!..
Высказав своё восхищение, Деренталь уже окончательно посапывал. Савинков предостерёг:
– Любовь Ефимовна! Лебёдушек, как мне помнится, вчетвером танцуют? Нас же только трое, включая и совсем захмелевшего главного Лебедя.
– Главного? Я главная. Четвёртый? Я четвёртая!
Может, первая – кто проверял? – возлежала всё на том же диване, в ногах у Деренталя. Истинно московская лохматая кошка, приблудница революционная; то ли у графов прежде жила, то ли у каких-то извозчиков. Она быстро, вполне в духе времени, освоилась на новом месте и права свои отстаивала такими когтищами, какие и Троцкому не снились. Любовь Ефимовна закружилась с ней – или всё-таки с ним? – и Савинкову оставалось лишь придерживать их, чтобы не налетели на стол или, чего доброго, на орущий благим матом граммофон. Интересно, не долетало ли и до Кремля это лебединое беснование? Всё-таки Гагаринский переулок, где вполне открыто жили Дерентали, – это тебе не Коломенское и не Сокольники; на каменной, вполне приличной лестнице встречались и советские служащие, и командиры доблестной Красной Армии. Добропорядочный почтарь, прижимаясь к стенке, вполне услужливо пропускал их вперёд, потому что у них, может быть, и дело было срочное; может, они кого-то ловили, даже ясно однажды послышалось: «Не найдём этого перевёртыша – сами в Чека перевернёмся вверх тормашками!» Рука чесалась в кармане, но жалко было безусых красных командиров, да и потом – такая прекрасная квартира, такие прекрасные Дерентали, а уж Любовь-то Ефимовна, Любовь!.. Ну, истинно с большой буквы и говорилось, и думалось. Не с котярой же танцевать! Но когда Савинков попытался отодрать котяру от танцующей, огнём пылавшей груди, когти полоснули его железом по руке...
– Брысь...
Котяра вместе со всеми своими когтищами плюхнулась обратно на диван, на спящего Деренталя. Ор и переполох! Но до него ли? И пальчиками дрожащими, и платочком, и даже губами – по руке, по следам непотребных, наверно, уж истинно пролетарских когтей, но с парижскими слезами:
– Боренька?.. Больно?
Ну какая там боль. Слезами окропив, облизав эту одной России принадлежавшую кровушку, Любовь Ефимовна опять забылась, забегала, закружилась по комнате, захлопала дверками платяного шкафа, выбрасывая оттуда своё самое сокровенное. Тут и Деренталь с помощью свалившейся на него кошки процарапал маленько глаза – кажется, тоже понял, что добром всё это не кончится...
И верно, пяти минут не прошло, как все они вчетвером, включая прощёную Василису, были обряжены в какие-то тряпки, снова заведён граммофон, и... понеслось!..
Четверо так четверо. Василиса, поддерживаемая за переднюю лапу хозяйкой, тоже скакала от стены до стены, может, и в прошлой своей, отнюдь не барской, жизни вот так же плясывала под музыку каких-нибудь подгулявших купчиков...








