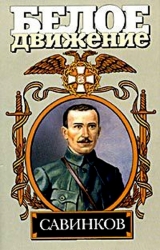
Текст книги "Генерал террора"
Автор книги: Аркадий Савеличев
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 35 страниц)
II
Полковник Бреде мог бы отговорить волонтёров Гиблой Гати – гиблой?! – от безумной затеи – штурмом взять блиндированный, ощерившийся пушками и пулемётами поезд... как ещё недавно и Савинков – Патина. Но ни тот ни другой не вольны были в своих желаниях. Бой продолжался со всё нарастающей силой. Гиблая Гать выслала на помощь Рыбинску всех до единого. Сзади пришлёпали на подводах даже больные; их сопровождал старый Тишуня, о котором Патин... неужели покойный?.. рассказывал не иначе как со смешком: воитель русско-японской!.. Но три подводы, которые он на маленьком паромчике пригнал в город, оказались как нельзя кстати. Раненые! У них не было ни лазарета, ни доктора... даже хоть и венерического! Обожаемого Кира Кирилловича и след простыл... Азеф, опять новоявленный Евно Азеф?!
Сейчас было не до воспоминаний. Наступавшим волонтёрам требовался хотя бы примитивный лазарет. Мало Савинков, Бреде, военный, организованный человек, не мог без раздражения смотреть на собственную бесхозяйственность. Намеревались единым махом взять Рыбинск! Не вышло... И сейчас шло, как само собой разумелось. Поредевшие цепи, ещё не просохшие от волжской воды, то наступали, то отступали – когда давал залпы недостижимый для винтовок бронепоезд. Судя по всему, туда перебрался и штаб земляка Геккера; с тыльной, непростреливаемой стороны то и дело уносились верхами связные. У Бреде связных не было; посылать через заградительный огонь мальчишек-юнкеров – это – верная смерть. А его любимые, огрузшие от прожитых лет полковники и майоры могли лишь полёживать за камушками да сквозь кашель и одышку щёлкать по наступавшим от центра города красным. Но и щёлкать было нечем: патроны кончались. На артиллерийских складах винтовочных не было, а те, что Савинков со своими юнкерами вынес с биржи, сами же на подходе и расстреляли.
Полковник Бреде травил свою душу: где же они опростоволосились?! По всем предположениям, здесь должны быть и ружейные отсеки... да в той же сутолоке не смогли отыскать! Ещё в предутренней замятие, не достигнув и ограды складов, нарвались на пулемётную засаду, брать склады пришлось, что называется, в штыки. Расположения арсеналов не знали, слишком долго провозились с пушками, так и не найдя вывезенных куда-то в другое место замков. По собственной ли их оплошности, под залпами ли с бронепоезда – оружейные отсеки начали рваться; когда разобрались, где патроны, туда было не подойти. Проклятый землячок! Надо отдать ему должное – перехитрил. Штабеля гаубичных снарядов ни к наганам, ни к винтовкам, конечно, не подходили; сами гаубицы насмешливо и пусто глазели бесполезными стволами. Пока сообразили заняться более простым оружием, хотя бы пулемётами, пришлось залечь под огнём очнувшихся красных. Чувствовалось, не голь перекатная противостоит – те же солдаты мировой войны, поверившие не белым, а красным. Полковник Бреде мог сколько угодно проклинать полковника Геккера, но отказать ему в воинском умении не мог.
Носившийся с фланга на фланг эскадрон поручика Ягужина таял на глазах. Он ещё мог наводить панику, пока не было бронепоезда; сейчас же, стоило конникам выскочить из-под защиты пригородных домишек, они сразу же попадали в перекрестия орудийных прицелов. Били осколочные; била секущая шрапнель. По нагорному полю, отделявшему склады от железнодорожной ветки, носились ошалелые, частью тоже раненые лошади; раненые люди, кто мог, ползли под укрытие длинной каменной конторы. Старик, назвавшийся Тишуней, груши их навалом в телеги и гнал к реке. Там, сказали полковнику, наладилась переправа на безопасный берег; там бегал по прибрежному песку в одних сандалиях и коломянковом пиджаке высокий, совершенно наивный барин и взмахом игривой тросточки всех направлял уже к своим, высланным навстречу подводам. Полковник Бреде хотя с ним и не встречался, но секрета не было: шлиссельбуржец Морозов! Прослышав это, раненые ковыляли прямо туда, к паромной переправе. Подумать было страшно, во что втянули не погибшего и в Шлиссельбурге цареубийцу!..
Тут ещё один наивный крутился, Деренталь. Этого полковник Бреде знал хорошо и потому отмахивался матросским маузером:
– Александр Аркадьевич, сгиньте... или поищите патронов!..
И кто бы мог предположить, что он их найдёт на пристрелянных с бронепоезда складах, одну телегу старика Тишуни завернёт и загрузит ящиками и винтовками. Патроны – прекрасно, но винтовки, ещё и раньше захваченные на складах, уже некому было держать...
В последний раз промелькнул вдрызг распушённый эскадрон Ягужина – десяток загнанных лошадей и сплошь раненных конников; больше о них ни слуху ни духу... Только прибавилось на дымном нагорье обезумевших лошадей. Ярко выделялся чалый окровавленный жеребец самого Ягужина – призывно, душераздирающе ржал... Лошади были более живучи, чем люди: если не подшибало снарядом, и с пулями в крупе бегали. Собственно, и последнюю пользу приносили: мешали наступать из города красным, то и дело врываясь в их боевые порядки. Пулемёты сейчас били уже прямо по лошадям. Красные расчищали путь для атаки.
Она внезапно захлебнулась от совершенно нежданной подмоги: в тыл ударил заречный отряд Вани-Унтера. Напрасно вчера смеялся Бреде над продотрядовцами-перебежчиками: они сумели захватить где-то пулемёт и сейчас с тыла подметали ряды наступающих.
– В атаку! – подал свою команду полковник, выбрасываясь с маузером из окна конторы навстречу прижатым к земле красным.
С двух сторон их удалось вымести из городского предместья, но полковник Бреде видел: за ним пошло в атаку не больше сотни... У встреченного за пулемётом Вани-Унтера и десятка не набиралось... Полковник молча пожал ему дрожавшее за щитком плечо, разворачивая своих в сторону города. Оттуда, уже не боясь задеть собственные скошенные цепи, опять наступали красные. Поредевшие ряды защитников бесполезного арсенала насквозь прожигало...
– Отходим, – увлёк он за собой спасителя-пулемётчика.
Опять стены арсенальской конторы. Наспех укреплённые амбразуры. По ним уже пристрелянно бил бронепоезд – даже метровый кирпич прошибало... Сколько тут можно было держаться? В разгар заслонивших всю видимость разрывов из пыльного марева вынырнул с десятком юнкеров Савинков:
– Нашего милого шлиссельбуржца ещё пришлось спасать. В своём белом пиджачке – прекрасная мишень! С бронепоезда засекли и ударили по переправе. Они бьют, а шлиссельбуржец стоит, тросточкой гневно грозит. Мои приказы, посылаемые с этого берега кулаком, игнорирует. Что делать, вместе с ранеными отправился к старику. Я его гоню, а он совершенно наивно вопрошает: «Револьвер мне дадите? Я ещё не разучился стрелять». Видите револьверы против бронепоездов! Хорошо, прибежала бесподобная Ксана, жена его, пальчиком повелела бесстрашного шлиссельбуржца грузить в телегу. Меня – ослушался, её – не мог. Хоть это с плеч долой.
Савинков как ни в чём не бывало достал из внутреннего кармана френча неизменную сигару и закурил. Странно, но френч у него был чистый – неужели так ни разу и не залёг на земле?..
– К бронепоезду сейчас не подступиться. Наших полегло – страшно подумать. Поистине, Гиблая Гать! Тишуне всех на тот берег не перевезти... Выпить есть?
Бреде от усталости и сам только за счёт фляжки держался – протянул Савинкову, удивляясь: тому и в дымном аду удалось сохранить спокойный, а главное, чистый вид. Не хватало только белого платочка в кармане френча! Из горлышка фляжки, как привык полковник, он пить не стал – наливал в крохотный колпачок, несколько раз махнул в бледно-зажатый рот и аккуратно завинтил.
^ – Ещё попьём... помылим, я хочу сказать, полковник?
– Чего-чего, а пыли, Борис Викторович, хватает.
– За пылью мы и проскользнём обратно в город, – покурив, не стал по обычаю выбрасывать сигару, притушил о приклад винтовки и спрятал в карман.
– Самое лучшее – берегом. Там много догнивающих барж, барок и катере» – как-никак укрытие. У нас единственное спасение – брать и держать город. Здесь нас всех перещёлкают. А там – дома, защита. Бронепоезд дальше вокзала не пройдёт, а вокзал на окраине. Как, господин унтер? – напрямую спросил своего курившего за щитком пулемёта недавнего пленника.
– Само собой, город, – ответил Ваня-Унтер, тоже пряча недокурево.
– И ты, Деренталь, с нами, – кивнул Савинков своему метавшемуся из комнаты в комнату беспечному очкарику. – Клепикова не видел?
Тому нечего было отвечать, пожал плечами.
– Значит, за мной. Обнимемся, полковник, – сказал никогда не опускавшийся до сантиментов Савинков, распахивая руки.
Полковнику Бреде тоже был непривычен этот жест. Да и стрелять после малой передышки начали, снаряд разорвался буквально за стеной. Даже в обложенную кирпичом амбразуру бросило вихрь щебёнки. Бреде поторопил:
– Если так – побыстрее. Постарайтесь в городе вызвать панику...
– Единственное, что мы можем... Но! – подстегнул себя Савинков. – Сказано – мы ещё попылим!
Савинков со своей небольшой командой исчез в дыму, а Бреде подумал: «Нет, мой землячок не отдаст Рыбинск. Не дурак ведь. Иначе – самому в Чека».
– Слу-ушать мою команду! – привычно прокричал он припавшим к амбразурам последним защитникам арсенала.
Но что – командовать?
Какой смысл – командовать?
С нагорья от бронепоезда в подкрепление рыбинским красным армейцам спускались цепи питерских матросов…
III
Но Савинков этого уже не видел.
Всего с несколькими юнкерами добежав до утлой паромной переправы, он крикнул слишком долго копавшемуся Тишуне:
– Забирай всех последних раненых! На тот берег! Немедленно!
Здесь уже рвались снаряды. Вода в реке бурлила. На берегу тучи поднятого взрывами песка, слава богу, закрывали видимость. Бронепоезд бил по первым прицелам, а ветер сносил песок немного в сторону. Старый солдат Тишуня догадался – напрочь отвязал от канатов паром и пустил его самотёком, подгребая вёслами. У Волги здесь был заворот, должно прибить к противоположному плёсу. Вовремя убрался с пристрелянной переправы: очередной снаряд бухнул как раз на прежнее место, паром тряхнуло набежавшей волной, но он устоял.
К Савинкову ещё подбегали юнкера, но будь их хоть и батальон – чем они могли помочь? Тишуня с последними ранеными, лошадью и телегой, вместе с сыновьями подгребал помаленьку к левому берегу.
– Отгони старика прочь!
Но куда там... Николай Александрович Морозов, вырвавшись из-под опеки плачущей Ксаны, опять командовал на том берегу – ну, прямо превосходная чесучово-белая мишень!
Савинков велел двум юнкерам прыгать за ним в лодку, а остальным – укрепляться на берегу за старыми баржами.
Волга здесь в сушь неширока. На двух парах весел в несколько минут перемахнули. Николай Александрович принялся было радостно размахивать руками:
– Вот хорошо-то. Вот молодцы.
А что – хорошо, кто – молодцы, едва ли понимал. Объяснять и нежничать было некогда. Савинков просто схватил наивного шлиссельбуржца в охапку, один из юнкеров подхватил длинные ноги, и они скорой пробежкой унесли его под дубки, куда впереди бежала Ксана. Там пряталась телега. Без всякой вежливости шлиссельбуржца швырнули в тележное корыто, и Савинков уже зло наказал самой Ксане:
– Гоните отсюда! Будет выскакивать – примотайте вожжами.
Стрелки с бронепоезда, видя незащищённость смешной переправы, начали садить снаряды уже и на их берег. Хорошо, что лошадь испугалась – вскачь понеслась к лесу, так что чесучовый пиджак дальше облучка телеги не мог выметнуться.
Обратным ходом они нарочно прошли мимо парома, который всё ещё барахтался на стремнине.
– Держитесь пыли! Сокройтесь! – прокричал Савинков, но, конечно, напрасно.
На пароме гребли кто чем мог, даже лопатами, даже руками раненые помогали.
Его юнкера тоже выдохлись, заменил на вёслах одного из них, проскочили очередной шумный фонтан. Оглядываться было некогда – юнкера уже отстреливались от спускавшихся с нагорья матросов.
Савинков махнул рукой:
– За мной!
Он повёл юнкеров в сторону города, зная, что тут недалеко до дома сволочного запропавшего доктора.
Оглянувшись в последний раз на всплеск очередного жуткого фонтана, он увидел вместо парома зависшие над рекой чёрно-дымные обломки...
Но сетовать на судьбу несчастных не приходилась: матросы бежали по пятам. Хорошо, что на этом берегу чёрт ногу ломал – гниющие на песке баржи, лодки, неубранные штабеля леса, какие-то будки, сторожки, заросли разного лозняка. Под таким прикрытием вырвались в пригород, уже под защиту настоящих домов.
По рассказам Патина выходило – здесь где-то задворками и выпирала усадьба доктора. Приметно описанный дровяник, проход между старых теплиц и поленниц – вполне понятный чёрный ход. Савинков первым ринулся туда. Двери везде распахнуты настежь. Ни души, кричи не кричи. В одной из первых же комнатёнок он признал вещи Патина, прежде всего его приметные австрийские сапоги и рабочую робу – в последний свой путь поручик вышел в полной воинской амуниции. Только глянув на всё это – дальше, дальше! Не дом, а какой-то лабиринт запутанных комнат и комнатёнок.
В зале, на окровавленном полу...
Да, он признал её, докторскую прислужницу. Она была пристрелена, как негодная уже хозяину собачонка, но, видимо, второпях, – какое-то время ещё жила, потому что блокнот, который по немости всегда таскала с собой, был смертно распахнут на крупных, едва разборчивых словах:
«Андрюша, не приходи сюда больше... Кир всех вас предал... с ним комиссары... а я тебя и мёртвая любить буду...»
Савинков закрыл ей глаза и, сдёрнув со стола загремевшую посудой скатерть, набросил на несчастную прислужницу.
Ему опять почудился лик толстого Евно Азефа.
Рыбинский Азеф?!
При каждом несчастье – Азеф?..
– К парадным дверям! – отгоняя наваждение, приказал он своим выбившимся из сил юнкерам.
На берег возвращаться не имело смысла: там шастали, ища потерянный след, преследователи-матросики.
В той стороне, где остался полковник Бреде, ещё стреляли, упорно и кучно. Савинков понимал, что это – круговая оборона. Круговая, последняя...
Но стреляли и где-то здесь, ближе к бирже. Тоже кто-то из своих отбивался. Он велел одному из юнкеров переодеться во что-нибудь докторское и, бросив винтовку, разве что с револьвером пробираться к полковнику Бреде с приказом: отступать вниз по Волге, прихватывая по пути всех отставших... В приказ мало верил, но это был последний долг перед защитниками Рыбинска.
Когда он остальным крикнул привычное: «За мной!» – он ещё не знал, что биржу во второй раз удержать им уже не удастся и что отставших наберётся немного, – совсем немного доберётся до Ярославля... Это будет уже на третий день беспрерывных боев.
Такие выходили дела... будь он проклят! злосчастный рыбинский Азеф!
IV
У полковника Перхурова дела шли лучше.
Савинков добрался до Ярославля с одним нашедшимся по пути Деренталей – тот ковылял, опираясь на винтовку. Ничего страшного, ногу подвернул. Савинков уже распустил свой потрёпанный отряд, велел разрозненными парами выходить из окружения. Пробиваться дальше более или менее крупными группами стало невозможно. Все выходы на ярославскую дорогу были заблокированы. Красный полковник Геккер знал своё ремесло.
Разбитые, рассеянные по лесам волонтёры Рыбинска всё ещё представляли грозную силу, сдаваться на милость виселицы не хотели. Они могли умереть, как умер в подвалах биржи поручик Патин; они и вздёрнутые на штыки, как другой поручик, Ягужин, рубивший саблей эти штыки, за здорово живёшь головы свои не склоняли. Савинков редко опускался до объятий – обнял-таки Ваню-Унтера, когда тот вынес из подвалов биржи изуродованное тело корнета Заборовского. У него были отрублены кисти рук, выколоты глаза; видимо, добивались от корнета – где, сука, штаб Савинкова?! При первом штурме Заборовского второпях не нашли, а сейчас, и всего-то на полчаса заняв биржу, наткнулись вот в глухом боковом подвале; что-то вроде застенка было, потому что и другие трупы валялись. Ах, корнет, корнет!..
Несмотря на предательство любимого доктора Кира Кирилловича, – а это уже не вызывало сомнения, – рыбинская Чека знала далеко не всё. Только день и час выступления, но понятия не имела о резерве Гиблой Гати; догадывалась, но тоже толком не ведала, о смертниках Вани-Унтера. Рыбинск им дался большой ценой. Бронепоезд мог разметать боевые порядки полковника Бреде – не мог уничтожить всю силу, разбившуюся на отдельные группы. Именно так, партизанским наплывом, и заняли вторично Рыбинск. Здесь, за домами, снаряды бронепоезда были уже не страшны, а храбрые матросики, постреляв на открытом месте, в город вступать не решались. За каждым углом их ждала засада. У матросов нашлись более интересные дела: женский ор даже в центр города заносило. Наберись-ка на каждого сине-полосатого рыбинских баб! С трудом, да и то под прикрытием конвойных латышей, удалось красному полковнику Геккеру поднять их из лежачего положения в строй. Всё это время Савинков, потеряв в дыму полковника Бреде, держал Рыбинск и даже вторично побывал в подвалах биржи, где вначале наткнулись на истерзанное тело Капы-связной, а потом и корнета Заборовского. Проходили гуськом через тот же подземный ход, через собор; старый батюшка даже не удивился очередному мирскому вторжению, благословил: «Вопию к небесам! Господи, проведи путями неисповедимыми мучеников!..» Господь услышал и заступился за рабов Божьих, которые давно не бывали у святого причастия; они прошли, вторично ворвались в биржу... но что с того?..
Невелика удача – вновь перебитая охрана. Изуродованный труп корнета Заборовского, закопанный штыками в волжском песке. Вынесенный на берег и упокоившийся вместе с Капой в том же песке поручик Патин. Капу долго насильничали, прежде чем штыками распороли живот. И Заборовский, и Капа попали в подвалы ещё до роковой ночи. Господи, даже баба смерть позорную приняла, а не выдала. На руках, на руках её, голую и растерзанную, вынес Ваня-Унтер и не случайно же захоронил рядом с Патиным. Смерть всё уравняла.
– Так, Капа. Твоя кровушка им отольётся!
Но лилась пока их, волонтёрская кровь. Оставаться в мышеловке подвалов было бессмысленно. Не зная о судьбе полковника Бреде, Савинков своей властью приказал:
– Все – на левый берег. Лодки, плоты, вплавь – как угодно. Рассыпаться там попарно и пробираться к Ярославлю.
Как ни умён был полковник Геккер, он не учёл такой возможности. Уцелевшие защитники Рыбинска успели перебраться к Слипу. Сам Савинков – к усадьбе Крандиевских. Близко тут было, слышал, видел с бережка бывший управляющий – заранее вынес крестьянскую одежду. Вполне для эсера, жизнь сломавшего за крестьян! Но Савинков, ещё не снимая боевого френча, успел попрощаться:
– Обнимаю живых... и особенно павших! Немедленно – уходить. Видите?..
Через реку уже шпарила целая флотилия, посланная вдогонку.
Двое суток они с Сашей Деренталей добирались до Ярославля, потому что Геккер, поняв свой промах, переправил конные разъезды и на левый берег. Нечего и думать было спуститься в лодке до Ярославля. Пешком по лесным тропам, как в достославные времена первой революции... Только не вверх, а вниз по течению.
Теперь под гром пушечной канонады Савинков отлёживался в бывшем губернаторском дворце. В соседней комнате у полевых телефонов бессонно торчал полковник Перхуров. Первое, что услышал проснувшийся Савинков, было:
– Не изволите кофе, Борис Викторович?
– Если – с коньяком, – оценил Савинков выдержку боевого полковника.
В городе было пока сравнительно тихо. Бронепоезд, несущий на переднем щите красное имя: «Ленин», был остановлен ещё на створе города Романова. Разобрали пути с добрую версту. Несколько суток пройдёт, пока под дулами пушек восстановят. Переправившиеся на левый берег из Рыбинска и Романова красные армейцы пока только накапливали силы. Главная московская дорога чуть ли не до Ростова Великого была заблокирована диверсионными группами. Озабоченность – только со стороны Вологды. Иностранные послы могли сидеть там сколько угодно, но воинские эшелоны вкруговую, через Тихвин и Череповец, следовали без особых остановок. Сбить их ход не хватало сил. Нельзя было распыляться. Пока – Ярославль. Только сам город, перерезавший все пути по Волге и по железной дороге. Следовательно, оружейный Урал ничем не мог помочь большевикам.
– Но – Казань? – выпив кофе и выкурив неизменную сигару, спросил неизбежное Савинков.
– Казань – нож нам в спину, – согласился полковник Перхуров. – Через неё можно везти с Урала всё, что угодно. Южной округой. Тем более что Кострома, Владимир, Муром не оправдали наших надежд.
– Принимаю упрёк – с единственной поправкой. Муром наши офицеры взяли. Знаете, кто ими руководит? Доктор Григорьев. Обычный земский доктор... не чета предателю Киру!..
– Да, знаю. Но разочарую. Сегодня получено сообщение: Муром удержать не удалось. Отряды доктора Григорьева отходят к Казани...
– Намёк на то, что военным делом руководят дилетанты... вроде меня?
– Ну какой вы дилетант, Борис Викторович. Побойтесь Бога! И потом, рядом с вами был полковник Бреде.
– Простить себе не могу – не знаю, не ведаю, что с ним!
– Зато я знаю: он уже в московской Чека. Всё-таки из Ярославля прямая связь с Москвой, получаем известия. Да, Борис Викторович: его, оглушённого взрывом, сумели захватить матросики с бронепоезда. Само собой, он умрёт, но наших планов не выдаст.
– Сколько крови на мне...
– А на мне?.. Одевайтесь, сейчас будут вешать красного градоначальника Ярославля. Самого Нахимсона! Чрезвычайного правителя всего этого края. Он, правда, властвовал всего четыре дня, пока его не выбили из губернаторского дворца, в котором изволите почивать вы, Борис Викторович.
– Я уже встаю. Я уже встал! Может, правитель спал на той же кровати, что и я?
– Бори-ис Викторович! Неужели вы не оценили, после рыбинской грязи, чистоту ваших простыней?
– Простите, я, кажется, стал нервничать.
– Немудрено. Столько пережить! Но я – артиллерийский офицер, мне нервничать не положено, иначе снаряды лягут не в тот квадрат...
– Да, снаряды. Они остались в Рыбинске... вместе с пушками. Как говорится, гладко было на бумаге, да забыли про овраги... Сколько у вас?
– Всего пяток орудий разного калибра. В губернском городе больше не нашлось. Могут они выдержать натиск бронепоезда?
– Не могут.
– Ошибаетесь, Борис Викторович. Двое-трое суток его задержат наши диверсионные отряды. Дальше – мои милые пушечки. Они вкопаны в землю на подходах к Ярославлю. Худо-бедно, снарядов к ним насобирали. Будут бить в боковые блинды. Когда настанет срок, я сам возьму прицел в руки. А пока... Не закусить ли, прежде чем мы повесим красного губернатора?
Савинков не уставал восхищаться артиллерийской выдержкой полковника Перхурова. Если генерал-лейтенант Рычков ещё до начала всех этих событий наклал в штаны и благоразумно отбыл в тыловую Казань – спасибо, что хоть не запродал никого, – если могли пойти в безумную атаку поручики Патин и Ягужин... царствие им небесное!., если полковник Бреде платит своей жизнью за воинское упрямство, то у артиллериста Перхурова и упрямства вроде бы не было. Воинская работа. Её исполнял он, как всякую другую, без спешки и самонадеянности. Закусив вместе с умывшимся, побрившимся и накурившимся Савинковым, он спокойно, как через артиллерийский дальномер, посчитал:
– Две недели я могу продержаться в Ярославле.
– Две недели?.. Это много или мало?
– Много – по моим возможностям. Мало – по нашим имперским планам.
– Ну какая империя! Я всю жизнь гонялся за царём-батюшкой.
– А я, как вы изволите знать, монархист. И что из этого следует?
– Только то, что вы до конца выполните свой воинский долг.
– Благодарю за доверие. Но не пора ли посмотреть, как болтаются на верёвках красные губернаторы?
– Но он за четыре дня не успел и обжить губернаторский дворец.
– Ошибаетесь, Борис Викторович, ошибаетесь. И за четыре дня больше трёх десятков наших офицеров расстреляно и повешено. Сейчас, вероятно, гадает, что лучше... Допрашивать его нечего, силы большевиков мы знаем, убеждать – слишком много чести, а стрелять – у нас мало патронов. И потом, с воспитательной точки зрения виселица полезнее. Пусть ярославский люд посмотрит, пусть народ прочувствует.
– Меня в Севастополе тоже ждала виселица...
– Извините, не знал, Борис Викторович...
– Чего там, идемте.
Они встали из-за стола и в сопровождении Деренталя вышли на губернскую площадь.
Виселица сооружалась основательно, в расчёте и на приспешников красного губернатора. Сам он стоял сейчас на помосте, закиданный крапивой и лебедой. Рыдали женщины – вдовы расстрелянных ярославских офицеров. Кто-то в толпе яростно матерился. Дай волю – разорвут на части ещё до виселицы.
Маленький, чёрно-кудрявенький, местечково-плюгавенький, Семён Нахимсон предрекал древнему городу Ярославлю:
– Стреляйте! Вы убьёте меня, комиссара и председателя губисполкома, но революцию вам не убить. Вы все погибнете под развалинами вашего Ярославля. Да сгинет этот паршивый город! За мою красную кровь!
Табурет из-под его ног не спешили выбивать. Так решили помощники полковника Перхурова, склонные больше к политике, чем к военному делу. Но он вполне разделял их мысли. Верно, пусть послушают православные горожане, что несёт этот уроженец местечковых Житковичей! Неужели русский офицер, вставший под красной виселицей в Москве ли, в Смоленске ли, в далёком ли отсюда, причём под немецкой пятой, Минске, – неужели он мог в последнюю свою минуту кричать: «Да сгинет Минск... Смоленск, Москва, наконец?» А этот, в окружении ждущих той же участи приспешников – мадьяр, литовцев, чехов, немцев, – витийствовал:
– Проклятая Россия! Проклятый город! Проклятый народ!..
Он до последней минуты надеялся, что его хоть с честью расстреляют, – перед помостом стоял взвод с винтовками наизготовку. Да и полковник Перхуров терпеть не мог показных казней. Другой полковник, Гоппер, убедил: что толку – дать ему пулю в подвале? Лучше – на площади, публично. Он же офицеров, попавших в застенок, самолично вешал, предварительно ещё поиздевавшись. Значит, собаке – собачья смерть!
Савинков молча слушал споры двух полковников. Было ведь ясно, что Гоппер, тоже земляк и сослуживец полковника Бреде, прав. Война – грязное дело, а уж Гражданская война и подавно.
Савинков был сейчас в военном френче, в фуражке со знаком Добровольческой армии – он считал себя прежним военным министром времён бесстрашного Корнилова. Он мог единолично вершить суд. Политика политикой, а орать уроженцу каких-то Житковичей на площади Ярославля непозволительно. Савинков закурил свою любимую сигару. Он был сейчас, после Рыбинска, при перчатках и белом платке в нагрудном кармане френча; брезгливо, не глядя, вышиб носком начищенного сапога табурет из-под ног кричащего горла и сказал Перхурову:
– Нас ждут, полковник, более важные дела. Обсудим.
Пострекивали пулемёты на мосту через Волгу. Повжикивали залетавшие даже сюда винтовочные дальнобойные пули. Но Перхуров не обращал на это внимания. Пока что ничего не решающая пограничная перестрелка. Какому-то подвернувшемуся адъютанту он даже сказал:
– Прикажи экономить боеприпасы. Пусть окапываются у моста и ставят заграждения. Стрелять попусту нечего.
В губернаторском дворце, уже без посторонних, высказался более определённо:
– Мы должны с вами, Борис Викторович, понять: больше двух недель здесь тоже не продержаться. В конце концов красные бронепоезда прорвутся к Ярославлю. Не со стороны Рыбинска, так со стороны Вологды. Мои диверсанты, залёгшие на откосах главного пути, сметают восстанавливающих дорогу рабочих, но... – Он тягостно помолчал. – Но бронепоезд сам их метёт головными пулемётами и помаленьку отжимает назад, даже не пуская в дело пушки. Сколько мои смертники могут продержаться? Я отвожу три дня. Конечно, на окраине уже самого Ярославля разбираются пути и валится на рельсы всё, что угодно, в том числе и целые вагоны. Но мы же должны понимать: тут, на подходе к Ярославлю, Геккер не ограничится пулемётами. В дело пойдут орудия, защищённые непроницаемой для наших винтовок броней. Пять моих пушечек навстречу?.. Они погибнут, сдерживая бронепоезд, ещё под Романовом...
– Да, не могу себе простить, что не сумел привезти из Рыбинска артиллерию...
– Не казните себя, Борис Викторович. Вы сделали что смогли. И я сделаю что смогу. Но – в пределах двух недель. Дальше?..
Савинков знал, что делать дальше. Но это походило на дезертирство. Полковник Перхуров, видя его колебания, сам высказал очевидную мысль:
– Вам, Борис Викторович, надо отправляться в Кострому... в Нижний... в Казань... Самару... Может, даже в Уфу. Там создаётся какая-то Директория – что мы о ней стаем? Там все наши политиканы – они будут без нас решать судьбу России? Группируются в некий правительственный орган члены разогнанного Учредительного собрания. Ваш друг Чернов, ваш министр Авксентьев не наломают, по обычаю, дровишек? Что думают делать ваши любимые эсеры?..
– Вы разве забыли, полковник, что ещё в августе семнадцатого года ЦК партии социалистов-революционеров исключил меня из своих рядов... вернее, я на их приглашение не откликнулся?..
– А, оставим эти партийные штучки-дрючки! Я военный человек. Меня интересует только одно: кто окажет нам реальную помощь? Нам – следовательно, и России. Ваш громадный авторитет... не морщитесь, Борис Викторович... подтолкнёт беспечных краснобаев хоть к каким-то военным действиям. Вы – председатель «Союза защиты Родины и Свободы»?
– Да, я. Как-никак социалист. Монархист Рычков позорно бросил нас...
– Приказывайте мне, полковнику, тоже монархисту... коль наш Главнокомандующий генерал Рычков не соизволит... Прикажите именем «Союза» держаться в Ярославле до последнего, а сами... сами готовьте запасные позиции. Резервы. Власть! Безвластие погубит Россию. Вы мне доверяете?
– Доверяю, полковник... и приказываю: держитесь! Вы правы: я сегодня же ночью отправляюсь вниз по Волге. Сами понимаете, через красные города, включая и Кострому. Тоже не удержались там наши.
Время шло уже к вечеру. Он велел Деренталю срочно собираться. Других адъютантов у него сейчас не было. Патин спит в прибрежном песке у рыбинской биржи, а Клепиков...
От юнкера не было никаких известий.
Как, впрочем, и от Любови Ефимовны...
– Вы не проклинаете меня за пропавшую жену?
– Люба? Она из любой передряги сухой выберется, – беспечно отмахнулся Деренталь, наливая себе на дорожку. – Бьюсь об заклад: она из Рыбинска ринулась охмурять послов, в Вологду. Что ей оставалось? Даже под охраной вашего юнкера в Москву не пробраться. Вологда, только Вологда.








