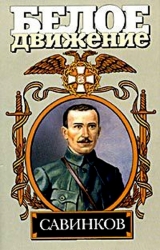
Текст книги "Генерал террора"
Автор книги: Аркадий Савеличев
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 35 страниц)
III
Нет, сам Савинков никогда не пользовался услугами Кира Кирилловича, но понимал, насколько обречены фронтовые офицеры, приезжающие в Питер на побывку. Будучи комиссаром Керенского, а потом и военным министром, он насмотрелся на юдоль офицерскую; без кола, без двора, без семьи, а последнее время и без Отечества – что они могли хранить в душе своей? Дешёвый кабак да публичный дом – вот и вся их святая святых. Легко было обвинять – нелегко утешать. По примеру некоторых западных армий Савинков в своё время пытался узаконить прифронтовые бардачки, чтоб не развозить заразу по всей России, особенно по Москве и Питеру, но, Боже правый, как на него зашикали в правительстве!.. А зараза-то оставалась, не хуже гнойных нарывов назревавшей новой революции. Вот тогда-то, прослышав про чудачества военного министра, и заявился к нему этот странный человек, отрекомендовался:
– Кир Кириллович, Бобровников. С вашего разрешения, лучший специалист по сифилису и трипперу.
Патин при том не присутствовал, но, хорошо усвоив скупые, точные рассказы Савинкова, да в последний раз и сам познакомившись с доктором, тоже посмеивался. Что заставило его из Петрограда удрать в Рыбинск? Ещё не было случая, чтоб тайное, совершавшееся в укромном докторском доме, становилось явным. Значит, не доносили, не изгоняли. Кто погряз во грехе – уважай эти грехи; заботы доктора не афишировали, но ценили. Солдатне и матросне чего шляться по таким дорогим венерологам? Им и глупых коновалов довольно. К любезнейшему Киру Кирилловичу ходили при больших погонах, а сейчас при больших звёздах. Он подозрительно и насмешливо глянул на заросшего бородой посетителя, к тому же в замызганной солдатской шинельке:
– Вы не ошиблись... молодой-бородатый?..
– Нет, Кир Кириллович, – выдержал Патин его секущий взгляд. – Вы что, забыли меня? Прочитайте.
Была короткая записка от Савинкова: «Кир Кириллович, для этого человека сделайте всё возможное и невозможное». Ни подписи, ни адреса, ни числа, но доктор сразу вскинул другие, пытливые глаза:
Даже невозможное?..
– Как видите.
– Пока не вижу... ни-че-го! Скидывайте штаны. Ложитесь.
Ещё в Питере наслушавшись Савинкова, да потом и переночевав у доктора, Патин и сейчас нечто такое ожидал, но не думал, что так уж простодушно и прямолинейно. Или память разлюбезному доктору отшибло, или совесть всякую. Патин всё же надеялся на некий окольный разговор, который и привёл бы его к цели позднего вечернего визита, – нарочно ведь глухой темноты дожидался, заранее высмотрев и улицу, и дом, и даже, при затворенных тесовых воротах, малоприметную боковую Калитку, предусмотрительно не запертую. Шёл по наитию да по зову натоптанной тропинки. Отыскать питерского доктора, а там видно будет. Коль речь шла о главной конспиративной квартире – тут и себе не доверяй, не только что докторам. Для начала покрутимся, мол, вокруг сифилиса да триппера, а уж после пооткровенничаем – каков он сейчас? В такое время люди за шесть дней продают душу, не только что за шесть месяцев. При всём доверии к Савинкову, Патин не прочь был перед доктором-то повалять дурака.
Но этот несообразный доктор, вальяжный и до невозможности циничный, записку прочитал по-своему: «Скидывайте штаны». Патин хотел сказать тоже что-нибудь этакое, голоштанное, но вспомнил строгий наказ Савинкова: «Держитесь за него. На придурь внимания не обращайте. Лучшей квартиры нам не сыскать». И вместо секундного гнева явился такой же секундный, мгновенный смешок:
– Штанцы, говорите? С превеликим моим удовольствием.
Раздевался не торопясь, выигрывая время и осматриваясь. Доктору уже под сорок, а он всё ещё, пожалуй, холост – дом о том говорил. Большой и просторный, но запущенный. Немудрено, если и сам доктор неделю как приехал из Питера. В соседних комнатах явно кто-то шебаршит ногами, но некая мужская запущенность лежит на всём: и на дорогой старинной мебели, и на коврах, и на крышке поседевшего фортепиано, и даже на самом хозяине, при всей его белой рубашке и атласном жилете. С декабрьской питерской встречи что-то неуловимо сдвинулось в облике доктора, стёрлось, слиняло. Думая об этом, Патин покряхтывал:
– Ох, грехи, грехи наши!..
– Дамские, смею заметить. Настоящие мужчины выше греха. Вы – настоящий?
– Да как вам сказать... Фронтовой поручик.
– Ну, это уже кое-что... хотя Борис Викторович полковников ко мне обычно присылал... Не удосужились?
– Не успел. Сами понимаете, р-революция!
Патин с очень рискованным нажимом произнёс это слово, но Кир Кириллович воспринял его по-домашнему:
– Да, революция. Она меня из Питера прогнала на рыбинские хлеба, а вам погончики подмазала. За год-то, да на фронте, до подполковника, поди, дослужились бы...
– ...если бы немецким штыком мудя не распороли!
– Ух, поручик... Из нашенских? Из пошехонских?
– А что, заметно?
– Да как же – по мудям-то! Ну кто другой так выражается?
– А Лука-то? Лука Мудищев? Бессмертное песнопение греховодника Баркова! Лучшая окопная музыка. В каждой роте под первым номером числился.
– У-у, поручик, да вы и сами грамотнейший греховодник. Считайте, что я ваш неизменный лекарь. На всю оставшуюся жизнь.
– Кто знает, Кир Кириллович, кто знает... Жизнь нынешняя в девять граммов и всего-то, а?
– Предпочитаю – в сто, – не принял его тона доктор и привычно задёргал дверцами буфета. – Штанцы-то пока подтяните, мы её, заразу, пока с наружности погоняем, так, поручик?.. Как вас прикажете называть? Мы ведь в Питере и не познакомились как следует.
– Приказывать уже отвык, а потому прошу: Андрей Тимофеевич. Опять спрашиваю: не узнаете?
– Ну, как не узнать, хоть и при бороде, – дёрнул он е такой силой, что не только эту бородёнку, но и собственные запущенные и отвисшие, бакенбарды мог оторвать. – С приездом в славный град Рыбинск, купеческий, а сейчас и беженский. Но – вопросов не задаю... под трезвую-то руку, без настроеньица.
Слава богу, настроеньице быстро звоном по столу раскатилось. В две минуты «Смирновочка» с шекснинской обновочкой. Наголодавшись в Питере и в Москве, Патин в горенке у Капы успел, конечно, и стерлядочки, наловленной ещё Ваней-Ундером, вкусить, но здесь-то. К копчёной стерлядке и судачок, и балычок, и чёрная икорочка. Ещё и с извинительной усмешечкой:
– Уж пока так... Как подзакусим, можно и горяченького чего. Жены, как изволите сообразить, и здесь не держу пока, но прислужница имеется, – как без услуженьица? Ваша питерская знакомая. Не оставлять же комиссарам на съедение!
Он и сейчас ещё ваньку валял, но добродушно и необидно. При такой негласной профессии – как же иначе? Патин начинал понимать его, радуясь, что штанцы-то пока на ремне держались. Доктор вроде как и позабыл про свои прямые обязанности, самозабвенно правил закуску:
– Что, получше, чем в Москве? Уж про Питер и не говорю! Даже я, при моей-то богатейшей клиентуре, стал селёдочкой ржавой пробавляться, как вам это нравится? – Он незаметно и вторым звоном прошёлся. – Нет, думаю, трипперы трипперами, а я покорнейший слуга настоящей закусочки. Что делать, поизбаловался. Когда человек перед тобой без штанов, изволите понимать, он уже и не полковник, и не генерал, и не граф, и не министр, и не комиссар нынешний – просто задрипанный греховодник, который всей мужской сущностью как хлыст осиновый трясётся. Ну-ка, проговорись! Но – не бывало такого случая. Все знали, и всё это ценили. Когда уж там было скупиться? Я ничего лишнего не запрашивал – мне в полной мере от графских и министерских, да и от нынешних комиссарских щедрот со спасибочком отваливали. Да, поручик... виноват, Андрей Тимофеевич, так-то лучше? Лучше, конечно. Какие в наше время чины! Вот и я сбежал, от нынешних-то голодных чинов, от ржавой селёдочки – к родимой шекснинской стерлядочке. Что, хороша? – с пониманием осмотрел он вздетый на вилку кусок.
– Хороша, – Патин отозвался. – Тут ведь у вас всё красное да с белым помешалось. Поди, наперебой несут?
Он опять одёрнул себя, мол, не зарывайся так далеко-то, но Кир Кириллович и это не стал скрывать.
– Ну, хоть и не совсем наперебой, а, бывает, сходятся на порожке... и красное с белым, и тайное с явным... Денежки, особенно злотенькие царские, все на один цвет, живительный. Под балычок, Андрей Тимофеевич?
– Под балычок, Кир Кириллович!
Так у них ладно и складно пошло, что про штаны вконец позабыли. Какие штаны, если вскоре и прислужница явилась. Патин вполне оценил вкус доктора:
– Ба! Та самая?..
– Самая... самая лучшая. Плохих не держим, – со свойской простотой прошёлся по спине поглядывавшей на Патина прислужницы. – Но... милая Авдюша! – в шутливом ужасе воскликнул он. – Кому ты глазки строишь?
– Мью... Ан-рю... – не дрогнув, раздельно и старательно промычала она и запросто, как к давнему знакомому, присела ему на колени.
Доктор хотел что-то сказать, но послышался негромкий, явно условный бой старинного бронзового молоточка, – теперь-то и Патин заметил его над входными дверями гостиной, – этот мелодичный бой сорвал доктора со стула и увёл куда-то на выход, а потом и ещё дальше.
На коленях сидела совершенно, собственно, незнакомая докторская прислужница, перебирала пальцами неряшливо отпущенную бороду и твердила своё, непонятное:
– Мью, мью?..
Патин кое-что повидал во фронтовых австрийских и жидовских местечках, но тут уж было чёрт знает что!..
– Слышать-то ты слышишь?
Она охотно, радостно закивала подвитой, аккуратной Головкой, всем своим видом подтверждая.
– Да, но откуда ты моё имя узнала? – догадался Патин, что «Ан-рю» – это он сам и есть.
– Мью... тью! – рассмеялась она и указала хорошо ухоженным пальчиком на странную картину, которая изображала не то Полтавскую битву, не то осаду какой-то турецкой крепости, – одним словом, было много пушек, много огня и всяких летящих ядер.
Патин смотрел на пушки, ничего не понимая.
– Мью... мьёй, мьёй! – вскочила она и потащила его под ободряющий смешок к дверям, из которых недавно вышла.
Патин слыл не робкого десятка, но засомневался: куда его, чёрт возьми, заносит?! И она это заметила:
– Бьишь, бьишь?..
Делать нечего, сопровождаемый всё тем же странным смешком, он потащился к боковой укромной двери, не много зашторенной и от того ещё более таинственной.
Атам ничего таинственного и не оказалось. Просто была чистая, просторная спаленка с широкой и ухоженной кроватью, с буфетом, туалетным столиком и странного назначения высоким пуфиком, на который взбираться, приди такая блажь, пришлось бы по четырём ступенькам. Патин грешным делом подумал, что не медицинские ли это какие причиндалы, но она взглядом, улыбкой ободряющей послала его наверх. И он взбежал как истинно уж на турецкую крепость... и тут-то сразу ему и открылось с десяток пушечных жерл, в которые заряжай любой глаз, хоть левый, хоть правый, а то и оба сразу: пушки расставлены были на ширину средней переносицы... «Ну, дела безгрешные... Чего подсматривать?»
– Мьё... чьё?.. – Она с удовольствием закатила хорошо подведённые, но и без того красивые васильковые глазки, тоже вскочив к нему на ступеньку, перецеловала раз за разом все жерла лукавых пушек.
До Патина наконец дошёл смысл всех этих простодушных, глупых и по-детски безгрешных жестов.
– Так ты сослуживица Кира Кирилловича?
Она опять радостно, охотно закивала кудрявой головкой, всякий раз заглядывая ему в глаза: понимает ли? Но куда уж понятнее...
– Значит, сестра милосердная? По доброте своей или уж истинно по милости?..
Она вроде как опечалилась и шумно, с притопом спрыгнула вниз. В ответ на всё это сквозь пушечные жерла послышался отчётливый, приказной голос Кира Кирилловича:
– Авдюша, перестань голову морочить. Ещё время не пришло.
Хохоча, Патин уже один вышел в гостиную, где всё в той же вальяжной позе посасывал балычок, будто никуда и не уходил, этот невозможный Кир Кириллович.
– Министр? Граф?
– Ни то ни другое. Комиссарище... но какой!.. И сказать-то страшно.
– И-и, не говорите, мил доктор! И без того распотешили вы меня!
– Я лечу, а потешает Авдюша, – на этот раз строго, истинно по-докторски заметил он. – На посошок разве, да и вас за штанцы?..
Патин понял, что ходить дальше кругом да около нечего, и ответил:
– Сифилиса не имеется. Триппера тоже. Пришёл к вам по совету Бориса Викторовича, а зачем – потом узнается... Мне нужен дом надёжный... и надёжный человек, как вы, Кир Кириллович. Не возражаете?
На этот раз доктор задумчиво уставился на жерла вовсе не страшных, как выяснилось, пушек, но повернулся с ясным и решительным лицом:
– Нужно так нужно. Места хватит. Авдюша! – крикнул он. – Укажи Андрею Тимофеевичу комнату... да, ту, что имеет выход...
Авдюша тоже явилась как бы с другим лицом, строгим и непроницаемым. Патин смущённо поклонился остающемуся в зале Киру Кирилловичу и пошёл за своей провожатой, смутно ожидая какого-нибудь очередного подвоха.
Но подвоха никакого не было. Она провела его через несколько пересекающихся и смежающихся комнат и вывела в просторный, уютный зальчик, в котором, как сразу же приметил Патин, при всех немалых размерах, не было ни единого оконца. Только кровать, тумбочка, умывальник, десяток ненужных здесь стульев и небольшой круглый стол с графинчиком воды и вздетым на него стаканом.
– Нью... тью... – силилась Авдюша ещё что-то подсказать, указывая на узенькую, всего в пол-аршина, дверцу с заранее приготовленным ключом.
Больше она ничего объяснять не стала и смущённо вышла прежним запутанным ходом.
Патин постоял немного в нерешительности, походил по своей то ли больничной, то ли арестантской камере и решительно повернул назойливый ключ.
Хотя была уже глухая ночь, но где-то над головой промелькнули звёзды. Он думал, улица или дворик, но бок сейчас же шорканул по стене, он прянул в другую сторону – та же история, стена. Стало ясно, что это или дровяник, или путеводник потайной...
Решив отложить свои розыски до утра, он вернулся обратно, повернул ключ в другую сторону, быстро разделся и завалился на кровать. Дневная возня с продотрядами, с розысками этого странного доктора брала своё... ну оно всё к чёрту пошехонскому!..
IV
Купеческий Рыбинск жил странной, невидимой жизнью. Никто сейчас, конечно, по-серьезному не торговал, но деньжата у здешних людишек водились. Это было видно не столько по одёжке – с одёжкой каждый ловчил на свой лад, то ли на рабочий, то ли на солдатский, – сколько по лицам затаённым, сытым и вовсе не пугливым, как их ни прикрывали козырьками засаленных картузов. Патин и сам лабазным картузиком обзавёлся, поддёвочкой, решив не мозолить глаза солдатской шинелькой. Да и жарковато в ней было. Ситцевая косоворотка, старенькая поддёвка, пиджачишко – это больше шло к пропылённому рыбному городу. Всё легло на его плечи с толкучки. Он думал, последним барахлом трясут на бесчисленных городских толчеях, возникающих в какие-нибудь пять минут, а при налёте красноармейского отряда разбегающихся за единую минутку, но как присмотрелся повнимательнее – ба, да тут серебришко-золотишко, опалики-хрусталики, зачастую и неподдельные! Расторопный народ, ещё не забывший купеческих замашек, скупал и перекупал всё это до лучших времён. Здесь, как нигде, верили в эти будущие времена. Если человек человеку приглянулся, да если доверился, можно было услышать и такое: «Гниё-ёт властишка! Попомни моё слово, до осени не дотянет...» Москва была не столь откровенна, а Питер и подавно. Патин быстро сошёлся с базарной улицей и уже безошибочно вылавливал из уличного отребья бывших офицеров и бывших держателей каменной рыбинской биржи, купцов зачастую первостатейных. Поговори-ка в других городах!
Кстати ли, некстати, и Кир Кириллович помогал, напоминая по утрам: сходи туда-то, спроси о здоровье того-то... Вроде как докторские невинные поручения, а во многом помогали: не голь же перекатная паслась у такого доктора. Так, после пустячного поручения – отнести лекарство – он сошёлся и с капитаном Гордием; оба воевали на австрийском фронте, оба хорошо знали Корнилова и сокрушались о его незадачливой судьбе. Гордий после второй или третьей встречи уже открыто спросил:
– Вы – поручик Патин? Мне приказано познакомиться с вами. Сегодня в полночь. Только не обессудьте: и по тёмному времени придётся завязать глаза.
Патин кивнул, хотя и посмеялся над такой провинциальной конспирацией. В полночь он был на условленном месте, возле каменной затемнённой биржи, возле которой был и собственный, купленный ещё отцом, дом Патиных; сейчас стоял с вывороченными окнами и расхристанными дверями – всё, что осталось от постоя какого-то революционного отряда. А сама биржа высоким гранёным выступом, всем своим трёхсаженным несокрушимым цоколем далеко вдавалась в Волгу, образуя в былые годы просторную, открытую ресторацию и площадку для оркестра и танцев. В нынешнее время было, конечно, глухо, а на обоих выходах стояли счетверенные патрули; не то штаб, не то склад большевиков. Не простое любопытство разбирало Патина, поэтому и спросил О бирже тихо подошедшего Гордия.
– То и другое, – ответил капитан. – Подвалы у биржи несокрушимые, выдержат любую осадную артиллерию.
– Осаждать? С дробовиками? – нарочито посмеялся Патин.
– Не смейтесь, поручик, а давайте-ка ваши очи карие... Так – так, – ловко повязал он заранее припасённую повязку. – Берите меня под руку.
Они порядочно покружили по городу и спустились к реке Черёме – Патин это ногами чувствовал, по глинистому, осклизлому скату; прошли ещё немного, ещё спустились, уже в какое-то подземелье, прежде чем с него сдёрнули повязку.
Патин протёр усталые от темноты глаза и немного опешил. В просторном и довольно приличном подвале со следами хорошей росписи на стенах и потолке, с настенными дутыми лампами и даже с раскрытым фортепиано – нечто вроде московского ночного клуба – сидело, ходило и полёживало с папиросами на диванах, как было и в Москве при первой встрече, с полсотни офицеров, начиная от полковников и кончая юнкерами, в приличной, даже подчёркнуто парадной форме. Ордена, знаки различий. Побогаче, чем в переулке на Мясницкой. Савинков при отъезде предупреждал: «Вас, Патин, сами найдут, кому нужно». Выходит, уже нашли? Смешно, но он прищёлкнул стоптанными рабочими каблуками и вытянулся:
– Поручик Патин. Честь имею!
– Знаем, поручик, – ответил за всех, выходя из соседней комнаты, полковник Бреде. – Что делать, проверяю, как вы находите друг друга.
– Я не знал, что вы здесь. Мне не говорил Борис Викторович...
– Верно, не говорил.
Следом за его спиной широко откинулась штора – Савинков!
Патин невольно заулыбался:
– Весело живём, ничего не скажешь.
– Вот и прекрасно. Пусть не обижаются господа, – повернулся Бреде к примолкшим офицерам, – но нас здесь слишком много. Если из двенадцати христовых апостолов один... Ещё раз прошу: выше обид. Слишком серьёзны наши игры. Я через два часа... – он прищёлкнул крышкой карманных часов, – уезжаю в Москву. Поручик Патин будет выполнять роль доверенного связного... и моего заместителя, не обращайте внимания на чины. У Корнилова полковники шли в общем строю с юнкерами. Мы – тоже общий строй. Прошу любить и жаловать поручика Патина. Надеюсь, больше того, что ему положено, не проговорится. У нас первое такое общее собрание здесь, господа. Мы должны посмотреть друг другу в глаза... и немного вспомнить офицерскую форму. – Он тряхнул Георгиевским крестом. – Думаю, форма скоро пригодится... Помните: за спиной у каждого из вас должен быть, по крайней мере, порядочный, боеспособный взвод. Без этого не стоит и начинать игру... смертельную игру, господа. Вы не привыкли к конспирации, но – придётся. Распишитесь, не соблюдая старшинства. Кровь за Отечество!..
– Кровь за кровь!.. – глухо, тихо, но властно выдохнули все почти одновременно и потянулись к пропечатанному лощёному листу, в оголовке которого значилось: «СОЮЗ ЗАЩИТЫ РОДИНЫ И СВОБОДЫ».
Для Патина это не было, конечно, новостью, но многие из собравшихся воспринимали всё, как радостную весть. Прежде чем поставить подпись, крестились молча, а иногда и вслух роняли:
– Вот и привёл Господь послужить!..
– С Богом!
– Под наше знамя!..
Савинков стоял чуть-чуть в сторонке. В полувоенном френче времён Керенского, в военной фуражке, подтянутый. Руки за спину, молчаливый, наблюдающий. Вольно или невольно – под растянутым на стене, им же самим установленным знаменем: черно-красное полотнище, под древний цвет, меч, вздетый на белый терновый венец.
Патин проходил уже, ещё в Москве, через этот потайной церемониал, но после всех тоже подошёл, спрашивая глазами полковника Бреде: надо ли вторично?
– Вторично не помешает, – скупо и осведомлённо улыбнулся латышский полковник. – Вам должны и здешние доверять.
Когда все успокоились и подтянулись, не садясь, к столу подошёл Савинков.
– Мне нечего скрывать, господа. В правительстве Керенского я управлял военным министерством – собственно, военный министр. Сейчас времена похуже – нет министров, нет министерств. Но цель всё та же: власть. Не думайте, что моя личная. Наша! Общая. Без власти мы – сброд, теряющий честь и достоинство. Подумайте каждый, на что идёте. После победы... нашей победы!.. мы многих недосчитаемся. Но... выше голову, господа офицеры! – Он вдруг широко улыбнулся, чего никогда не замечал за ним Патин.
Было ли это заранее подстроено, или уж так вышло: в руке у него оказалась хрустальная рюмка. Из дверей с подносами спешно вышло с пяток юнкеров и окружило стол. Зазвенело, празднично раскатилось:
– За Россию!..
– ...Родину!..
– ...Свободу!..
Право, полковники утирали глаза. Савинков, как недавно и Бреде, щёлкнул крышкой часов:
– Я не буду вас, господа офицеры, учить, как воевать. Вы лучше меня это знаете. Я только ещё раз... возможно, в последний раз... хотел удостовериться: готов ли Рыбинск?!
– Готов!
– Рыбинск не подведёт.
– Надейтесь!..
Савинков на какую-то минуту задумался:
– Говорите, Рыбинск не подведёт?.. Но пока – подводит. Что есть война? Знамя, пушка и хлеб. Да, хлеб. Без него, как без знамени, пушки стрелять не будут. Голодный солдат – уже не солдат. Все южные губернии – в огне белой, доблестной армии. Москва и Петроград кормятся только с Волги. Что есть в этом случае Рыбинск? Хлебный склад и перевалочная база. Собираясь воевать с большевиками, можем мы, обязаны мы кормить их?
Вопрос был поставлен яснее ясного. Многие уже обжились здесь, местную обстановку знали. Капитан Гордий выступил вперёд и сказал как отрезал:
– Хлеб не пойдёт в Питер. Хлеб не пойдёт в Москву.
В ответ был удовлетворённый кивок:
– Верно, капитан. Работа грязная, работа не для господ офицеров, но другой пока нет. Как покормите большевичков – так и повоюете с ними! Я сам готов поголодать, но только с условием – чтобы и Троцкие ворон начали жрать!
Патин никогда не замечал такого ожесточения на невозмутимом, по крайней мере внешне, лице Савинкова. Он и сам, видимо, это почувствовал, поправил себя же:
– Я такой же белоручка, как и вы. Признаюсь, противно заниматься всем этим... диверсией, хлебом, войной с дураками, но в открытой штыковой атаке мы большевиков не победим. Их много, их гораздо больше нас, не утешайте себя наивными иллюзиями. Война в тылу – это война в тылу. Без хлеба большевики воевать не смогут.
– И мы не сможем, – заметил Патин. – Для себя хлеб уже запасли, всё тот же – отнятый у продотрядов. Остальное?..
Савинков не любил, когда его перебивали, беспокойно переступил с ноги на ногу, но тут капитан Гордий опять вклинился:
– Остальное – в огонь. Дело ясное и простое. Это я беру на себя.
Пришлось Савинкову усмирить свой внутренний гнев, хотя далось это ему нелегко. Он достал из внутреннего кармана сигару и закурил, словно дразня: ну-ну, кто ещё?
Но говорить-то, собственно, было не о чем. Не на австрийском и не на германском фронте они так долго окапывались – на самом что ни есть волжском берегу. И сами вольно или невольно обращались в волжан... как Стенька Разин, как Емелька Пугачёв, что ли?.. Право, и такая брезгливая мысль колыхнулась в мозгу Патина. Он же видел, как нахмурились лица полковников, и особенно молодых, излишне горячих поручиков. Поэтому некую общую обиду пришлось гасить:
– Борис Викторович, господа офицеры к этому ещё не привыкли. Я служил в разведке, был в плену, всего насмотрелся. Грязную работу возьму на себя.
– Ия возьму, – поддакнул капитан Гордий. – Это дело решённое.
Видно было, как оттаивала закаменелая душа Савинкова. Он с не свойственной ему мягкостью вроде даже как повинился:
– Все мы понемногу в любимейших мужичков обращаемся, что делать. По-мужицки и поступайте – тут я вам не советчик. Но... с радостью дам знать, когда большие дела наступят!
Он явно торопился.
– Мне надо в Ярославль, посмотреть, как они там живут, и снова – в Москву. Честь имею откланяться! Поручик Патин, не провожайте, – кивнул он, заметив готовно вздёрнутый подбородок и возвращаясь к закрытой портьере.
Вышел через пять минут из тех же дверей совершенно другим человеком: в городском стареньком летнем пальто и кепке, во всём чистеньком, но бедном, отдающем провинциальным земством. Даже клинышек бородки пристал совсем кстати. Даже роговые очёшки!
– К сожалению, – уже открыто извинился он, – товарища рабочего из меня не получается. Бывший земский статистик – ещё куда ни шло. До встречи, господа, до главной встречи... теперь уж скорой! – приподнял кепчонку и вышел по гулким каменным ступеням наверх в сопровождении полковника Бреде, которого тоже трудно было узнать: лесоруб ли, рыбак ли, в длинном, по своему росту, брезентовом балахоне.
Прошёл невольный смешок. Офицеры не были приучены к таким переодеваниям. Патин резко остановил шумок:
– Привыкайте, господа!
– Да... – совсем по другому поводу прислушался капитан Гордий. – Здесь ведь, собственно, центр города. Я нарочно водил поручика Патин взад-вперёд – пусть извинит. Хоть и подвал, а место людное. О, слышно даже, как матросы свой марш орут! Верховые фрамуги в подвале заколочены, но наши-то голоса не вылетают навстречу матросикам? Надо менять явку. Предложения?
Народ был непривычный к конспирации. Патин недолго раздумывал:
– Доктора знаете? Мужского?
Все оживились, припоминая, а кто и переживая заново своё достославное прошлое. Всё-таки хорошо, когда серьёзное дело мешалось с прежним бездельем.
– Так вот. Вход к нему от реки, от старых, заброшенных рыбацких складов. Да и потом – профессия! Кто заподозрит мужика в таком, пардон, глупейшем несчастье?
Предложение понравилось, но капитан Гордий некоторое время размышлял, почёсывая верхнюю губу, где наверняка были когда-то – теперь сбритые – усы, а может, и кавалерийские усищи.
– В чём сомнение?.. – догадался Патин.
– Доходило до меня в Петрограде дальним слухом... Нет, ничего определённого!
– А всё же? – настаивал Патин.
– Видите ли, такие доктора, как ваш Бобровников, всегда были на примете у полиции. Согласитесь, лучшего осведомителя просто невозможно отыскать... Подозрение нелепое, согласен. Но всё же, поговаривали, один беглый поручик, в порыве ревности пристреливший своего батальонного подполковника и в Питере пользовавшийся услугами нашего доктора, был выдан полиции и угодил прямо под военный трибунал, на его несчастье созданный Керенским. Случай? Совпадение? Очень может быть... Сомнение я оставлю при себе. Тем более что не обязательно полицию менять на большевистскую Чека. Я соглашаюсь с предложением Патина, если нет других возражений.
Возражений больше не было. И Патин, подавив к недоверчивому капитану минутную злость, рассказал, как проходить путями неисповедимыми.
Прямой договорённости с доктором не было, но тот уже не раз предлагал, если что, не стесняться и пользоваться пристанищем, отданным в полное распоряжение гостя. Вход и выход со стороны реки такой удобный, что грешно было не вспомнить об этом.
Чего же он, подходя к дому, задумался?..
И сам не знал.








