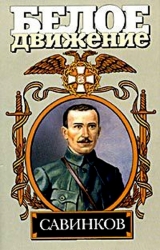
Текст книги "Генерал террора"
Автор книги: Аркадий Савеличев
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 35 страниц)
III
Савинков застыл у окна. Из писем, парижских и лондонских встреч, да и из своих въевшихся в кровь предощущений он знал: в огонь лезут дураки, а умники попросту жар ручищами загребают. Хоть и в приснопамятном 905-м, петербургско-московском; хоть и в 71-м, парижском – везде и всегда. Что же, нынешний Петроград – исключение?
В соседнем вагоне везли «балалайку без главной струны», как называли Чернова, может, самого важнейшего российского эсера, а может, и наиважнейшего дурака, – в зависимости как посмотреть на бывшего своего учителя, двадцатилетней наивной младости. Ручищи действительно российские, хоть и постаревшие; под них-то и поддерживали, подсаживая в вагон, именитого бомбометателя... который и дамского пистолетика никогда не держал, а вот поди ж ты – слава! Савинков поймал себя на мысли: уж не зависть ли? Целая толпа орущих сподвижников и сподвижниц, как всегда, сопровождала Чернова, а вот он, Савинков, тоже по всегдашней привычке ехал бирюком. Как хотите, граждане-господа, как хотите! Славная вещь – одиночество.
Кажется, он ехидничал; кажется, не разжимая губ посмеивался. Да и как было не смеяться? Революционный поезд, напичканный восторженными эсерами, угрюмыми социалистами, вечно голодными стукачами, хлынувшими на запах крови громилами, состарившимися гимназистками и ещё не видевшими России парижскими молокососами, – этот гельсингфорский поезд входил под родимые чугунные колонны. Но как-то неуверенно, нервно, словно ему то и дело перекрывали путь на стрелках. Как кричали в коридоре проводники, так оно и было: железнодорожники не понимали, с какими флагами идёт этот поезд. На подходах то останавливали, то переводили куда-то, пока не сунули наконец-то к парадному подъезду. И то благодаря расторопным финским проводникам, которые вертели в расхристанном окне своим фанерным щитом: то одной, то другой стороной. То Советы, то Временное правительство. То красное, то синее, в зависимости от флагов на обочинах и толп встречающих. Наконец, и вот они – знакомые, милые, встречающие лица...
– Синий, синий! – кричал возбуждённый поручик, а сам прицеплял на английский лацкан подсунутый проводниками красный российский бант. – Что же вы, Борис Викторович?.. – и ему с рук проводников сунул прямо в руки роскошный, какой-то завитой букет шёлковой ленты.
Первым и сбежал поручик со ступенек, своим криком как бы распахивая объятия:
– Революционному герою... нашему дорогому... Борису Викторовичу... Савинкову, Савинкову!..
Напрочь забыл о всяких предостережениях захмелевший не только от коньяку, но и от воздуха родины поручик.
– Но ведь договаривались – без фамилий? – хоть и с запозданием, но пытался остановить его Савинков.
Не остановил, конечно.
– Гип-гип, ура!
3. Н. могла и не понять его, всегдашнего твёрдокаменного молчальника. Впрочем, где ж она?..
Её приметной роскошной шляпки не было видно в толпе встречающих. Савинков в сердцах бросил под ноги свой бутафорский красный бант.
В ответ прогремели два спаренных выстрела. Хоть по нынешним временам – эко диво, но ведь щёку-то прямо калёным воздухом обожгло!
Глядь – поручик широкой грудью заслоняет его от чего-то смешного и непонятного, навострив в толпу свой зрячий вальтер.
– Бросьте... шалость! Разве так стреляют? – имел он полное право сказать какому-то обидчивому размазне, вырывая вальтер и с левого разворота сшибая двух рассевшихся на фонарях ворон. – Мелочи жизни, поручик, – возвратил ему вальтер. – Хуже, что нас не встречают...
Её не было.
Ведь если бы была, перрон перевернулся бы не от выстрелов – от её восторженного, песнопенистого крика. А перрон, вдруг очистившись от каких-то двух плюгавых выстрелов, молчал. Словно прибывшие гости с какой-нибудь Малой Невки на какой-нибудь Васильевский Остров переезжали. Не из Англии! Не из Германии! Даже у соседнего вагона, где толпа орала здравицы в честь рыже-седовласого Чернова, установилась ошарашенная тишина. Небось и штаны подмочили? Так и хотелось сказать им: «Граждане-господа, не удивляйтесь, в революциях принято стрелять, и даже очень хорошо. Иногда и убивают... господа хорошие!»
Разумеется, ничего такого не сказал, а только передёрнул затвердевшим, как и само лицо, плечом.
– Пойдёмте, поручик, – направился к выходу. – Видно, так: в «Асторию».
Но сзади, опомнившись, опять загремело:
– Герою революции, нашему неукротимому Чернову – ура!
– Авксентьеву!
– Моисеенко!..
Это было уже интересно. Савинков остановился, поглядывая через плечо; и свою восторженную 3. Н. всё-таки поджидал... Вовремя она никогда не приходила, будь то Петербург, Париж или похороны наилучших друзей.
– Да-да, поручик, – сказал он, постороннему было и не понять.
– Да, встречают, – тот воспринял всё на свой лад. – Слышите?..
А что другое можно было услышать? Всё то же:
– Чернов!..
– Моисеенко!..
Все при огромных алых бантах. Все в обнимку с петербургской восторженной революцией. Вечно вертлявый, друг забугорный Чернов уже и на руках студенческих, как кукла, над толпой взлетает. За эти годы заметно отяжелевший, всегда профессорски невозмутимый Авксентьев и тот дланью помахивает, как бы дирижируя захмелевшей толпой. А уж про медоточивого Моисеенко и говорить нечего – прямо на глазах у всех разрыдался. Что делать, они ведь «настоящие эсеры», свои, родимые, во всех газетах прописанные. Несмотря на всю свою невозмутимость, Савинков, кажется, немного и ревновал: всё-таки для себя-то не такой он ожидал встречи... Слаб человек, даже твёрдокаменный.
Но, на секунду какую-то раскиснув, тут же взял себя в руки: стыдись! Встречают-то ведь эсеров, а кто ты им?..
Да, по визитке – тоже! Но в душе? Но в сущности?..
Додумать эту простую мысль он всё-таки не успел: пока последним глазом высматривал своеобразную, неповторимо симпатичную чету – профессорски знаменитого романиста и незаменимо знаменитую поэтессу – оказался в истинно русских, по-русски бесцеремонных объятиях:
– С приездом, Борис Викторович! С прибытием на родину! В наш революционный Петроград!
Вот же матушка-Россия... Стрелять на перроне стреляет, а без словес и без объятий обойтись всё-таки не может. Чего ж иного? Друг давнишний и добрейший, Павел Макарович. Не думая о настроении европейского пришельца, он тут же с ходу объявил:
– Мережковские отбыли в Кисловодск. Представьте, час назад. Зинаида Николаевна, как водится, рыдала, Дима её успокаивал, вдрызг разругались из-за вас, но сквозь вагонное окно улыбались мне уже вполне благополучно. Не обижайтесь. Чахотка – дело нешуточное, а мокрая весна и подавно. Обещали пересидеть в тёплых горах наше межсезонье и через месячишко вернуться в твои дружеские объятия. Ключи от квартиры и соответствующую меморацию, естественно, оставили. Я не слишком припоздал? Ведь прямо от них на извозчике – и сюда. А извозчики-то сейчас каковы? Р-революционные, не шуточки. Кулачиной в морду не ткнёшь. Впрочем, чего я? Всё-таки – Родина и Свобода?.. – неслось как бы в укор зардевшемуся поручику, не удостоенному, конечно, дружеских объятий. – Вы-то, вы-то – как? Ведь всё-таки, и прежде всего, для вас эта Свобода! Родина! Петербург!..
Словеса, словеса. Боже ты наш! Всё как в давние времена... Савинкову удалось наконец вырваться из дружеских объятий, и он по-дружески напомнил:
...Слова – как пена.
Невозвратимы – и ничтожны...
Слова – измена,
Когда деянья невозможны.
Так наша бесподобная 3. Н. говаривала?
– Сейчас поменьше говорит. Кашляет...
– Что делать, что делать, дорогой Павел Макарович... Старь и пыль жизни.
Он щелчком сбил какую-то невидимую пылинку с рукава отлично сшитого английского смокинга, к которому никак, уж никак бы ничто постороннее не пристало... в том числе и аляповатый красный бант, который прикрывал запавшую грудину давнишнего студенческого дружка. Под кого он рядится? Впрочем, и на себя посетовал за голые, пролетарски беззащитные руки: эк их, какие сиротливые без перчаток-то!..
– Значит, Гип-Гип покашляла на прощанье и укатила? Ура! А я, представьте, хотел огорошить её же собственными стихами. Она Париж и Лондон моими именными бандеролями завалила. Вот, пока сюда добирался – назубок вызубрил. Ещё хотите? Ведь через всю воюющую Европу слала мне – через всю обезумевшую... Ладно. Довольно стихов. В «Асторию»? Или в «Националь»?
– На первое время – ко мне, – безоговорочно отрезал Павел Макарович, поправляя уже порядочно полинялый бант. – В городе неспокойно. Вам было мало двух выстрелов?.. Ещё слезая с извозчика, я слышал. А в кого же другого могли стрелять? Ко мне. Сейчас подойдёт наш министерский автомобиль – я уже телефонировал с полдороги, а здесь недалеко. Тряхнём у меня стариной! Так 3. Н. решила. Вы не хотите подчиниться ей?..
– Подчиняюсь, подчиняюсь, – очнулся от раздумий Савинков. – Представляю моего попутчика: поручик Патин, – жестом притянул его к руке Павла Макаровича. – Ладно, взаимные объятия – потом. Едемте, коли так... с этого всесветного базара!
На перроне студенты всё ещё раскачивали, как нелепую, разлохматившуюся куклу, разомлевшего от всеобщего внимания, добрым десятком бантов увешанного Чернова, и даже грузному, породистому Авксентьеву, тоже при двух-трёх пришлепнутых бантах, порядочно доставалось, – и целой толпой не могли как следует подкинуть, а только вякали от натуги.
Что-то нехорошее, вроде как завистливое, опять шевельнулось в душе Савинкова, но на пути к поджидавшему их министерскому автомобилю утихло, умиротворилось и растворилось в дружеских россказнях Павла Макаровича, и по фамилии-то – Макарова, а по нынешней должности – почти настоящего министра... ну, скажем, председателя какого-то никому не нужного комитета. Он и сам-то посмеивался над своей должностью, истинно не понимая, чем занимается. Савинков узнавал своих друзей, делавших такую распрекрасную... и вроде как безродную революцию. От всего этого у него не явилось ни грусти, ни раскаяния. Жизнь как жизнь. Уличные парижские деяния научили ничему не удивляться.
А за обедом, где и пришлого революционного народу понабралось, душа эмигрантская, немного завистливая, немного и оскорблённая – вот, мол, опять опоздали, к шапочному разбору только и поспели, – всё же встала на своё место, покойное, уверенное и никому не подвластное. Эту душу было не раскачать и не подкинуть на хлипких студенческих руках...
– Такие мы с вами... гражданин поручик, – приобнял он никому здесь не знакомого Патина, этим как бы вводя его в круг своих давних друзей.
– Такие... гражданин бомбометатель, – после петербургского шампанского улыбнулся доверчиво поручик.
Встреча после десятилетней разлуки удалась на славу. Во всяком случае, многих и на второй, и на третий день сельтерской отпаивали... Что поделаешь, расходилась русская душа.
Савинков только через неделю переехал на квартиру Мережковских, заваленную книгами, рукописями, нотами, иссохшими цветами... и пылью давних воспоминаний...
Поручик Патин вырвался из дружеских петербургских объятий раньше его: надо было к себе, на Волгу. Савинков не удерживал. Дел-то никаких пока не находилось. Истинно пророчила пророчица 3. Н.: словеса, словеса!
Его звала живая жизнь. Улица столичного города.
Истинно он говорил на севастопольском смертном суде: «Потомственный дворянин Петербургской губернии». Дворянин не мог оставаться в стороне от своей родины. Он думал сейчас об этом без насмешки и горечи. Воздух Родины настраивал на спокойный и решительный лад.
IV
Салон всесокрушающей Зинаиды Гиппиус, дочери обер-прокурора Синода, не имел ничего общего с салонной жизнью её отца. В жилах отца текла древняя скандинавская кровь – у дочери кипела славянская брага. Трын-трава... с хмельным стихом пополам!
Неподражаемо наивный Дмитрий Мережковский ничего с этим поделать не мог. Салон так салон – развороченный, никем не управляемый муравейник... Впрочем, как же без управления? А неподражаемая 3. Н. для чего? Она царила – она и властвовала. Можно было ослушаться царя, губернатора, обер-прокурора – но только то её. При её появлении все, включая и отставленных от жизни камергеров, заискивающе восклицали:
– Гип-гип, ура!
Это было незыблемым паролем. Это было истинной правдой. Всё являло привычные приличия, и даже многое сверх того, утончённо интимное и завораживающе интеллигентное, но при всём при этом незримо затоптанное и захватанное чужими руками. Нет-нет, ни пылинки, ни соринки при появлении самой хозяйки – для чего же и горничные существуют? – однако общее впечатление пригородной, со всех сторон обтоптанной муравьиной кучи не проходило. Здесь представало всё, что подобает большой профессорской квартире: и два не сообщающихся между собой рабочих кабинета, и спальни, и прихожие, и полуприхожие, и необъятная общая гостиная, и непонятного назначения какие-то полугостиные... и комнаты, и комнатушки, и двери, двери, двери, – а их, дверей-то, вовсе и не замечалось. То есть они открывались и закрывались на хорошо смазанных петлях, да кто с ними считался? Входили и выходили. Звонили и не звонили, просто так, мимоходом с улицы. Неслышно ступали по коврам лакированными туфлями и топали смазными сапожищами. Раздевались вроде бы в прихожей, вдоль целого ряда вешалок, но могли и так, в драной солдатской шинели, прямиком к общему столу. Хозяйка не только не возражала – хозяйка радостно всплёскивала болезненными, призрачно-прозрачными руками:
– Ах, мой дорогой... ведь революция, революция... правда?..
Она всегда торопилась, всегда немного покашливала, то ли от наигранной, уже устоявшейся нервности, то ли от болезности своей, которой несказанно дорожила.
А под руку ей сейчас попался не кто иной, как сам нижегородский гений – немного с иронией, немного и с опаской называла она так российского буревестника. В красной косоворотке, в смазных, скрипящих сапогах, окающий и топающий одновременно, он был неотразим, он даже в этом непререкаемом царстве царствовал всем наперекор. Рука его, когда бесцеремонно и хозяйку брала под локоток, казалась железным обручем, а окающий голосок и того туже стягивал мысль:
– Открою вам, Зинаида Николаевна, откровение отнюдь не святого Олексия. Да. Всё отдам. Славу – отраду жизни, отменное трудолюбие, святой озноб творчества, ночной прибой на Капри – верните мне только молодость. Мо-ло-дость, Зинаида Николаевна!
– Ах вы, бури вестник! – попробовала она высвободить занемевшую руку. – Буря и революция – что лучше!
– Разве что женщина... да ещё стопка водки. Не обессудьте.
Стопка явилась по одному взгляду хозяйки, но такой избалованный гость уже не мог остановиться:
– Опосля, опосля. Я про молодость! Ведь страшно стареть, дорогая Зинаида Николаевна. Вот – буря. Вот и она – революция. А человек?
– Человек – это звучит гордо, – вспомнилось и ей что-то такое, всем известное.
Такому гостю нельзя было возражать, да и кому она возражала? Всяк сюда входящий...
– Правда, что не человек, а революция... ну, признайтесь, признайтесь?
– Правда, – в тон ей отвечал всем знакомый эстет, может, и нарочно не снимая белых перчаток.
А через минуту и шинель какая-то особенно затрапезная то же самое, на те же самые слова отвечала:
– Правда ваша, Зинаида Николаевна. Революция.
Было в этих однообразных ответах-приветах вдоволь и скуки, и наглости, и всякой вспучившейся петербургской пены; но былой нечто подобострастное, заискивающее перед такой обворожительно революционной хозяйкой. Здесь раздавались аттестации, здесь прописью писались дипломы общественной значимости. Попробуй-ка не угоди! Ниц – и только ниц, под шелестящее: «Гип-гип, ура!» Вот ведь дела: и не особенно красива, и не слишком, может быть, умна, а люди бежали, ползли, вышагивали и прорывались к милому их сердцу муравейнику. Здесь все свои, здесь судьбоносные. На перекрёстке путей и перепутий. Квартиру эту словно и создавали для российских бестолковых революций. Все на виду, на самом уличном юру. Известно, революция начиналась около Думы, то есть около Таврического дворца; прямые улицы, словно переполненные кипучей кровью артерии, неудержимо сюда и стягивались. Широко раскинувшийся дворец екатерининских времён задумчиво и гордо поднимал свой неповторимый купол, и кто-то вечный, недосягаемый взирал оттуда на бешено текущую уличную толпу, а бельэтаж последнего перед воротами дома – как пост наблюдательный всей разворошённой российской интеллигенции. Стоило из орущей, музицирующей, декламирующей профессорской квартиры выйти на балкон – и вот она, решётка старинного парка, липы, ясени, дерева по весне трогательно обнажённые, как плечи курящих и спорящих молодых дам, а сейчас в густой, завьюженной листве – как отучневшие плечи дам постарше, ещё старше... и совсем уж неприлично неприкрытого возраста. На это, конечно, не обращали внимания. Время-то, время какое! Даже оробевший поначалу поручик Патин, только что вернувшийся со своей Шексны, скоро разошёлся и только что не потрясал засунутым во внутренний карман Вальтером, – прямо-таки всем своим взъерошенным видом шёл на решётку Таврического дворца:
– На таких ветрах, на таких кострах возжечь такую невиданную революцию... и трусливо ходить на поводке у каких-то немытых Советов!..
– Почему же?.. – в спину ему из дальнего угла. – Они и бани хотят обобществить. Лейся-залейся из единой шайки с какой-нибудь чухонкой тол... толсто... Молчу, молчу, – смирился голос перед гневным взглядом хозяйки.
Едва ли и слышал возражение распалившийся поручик Патин, а уж другие и подавно. Речи – как свечи, вздувались, и гасли, и снова возгорались:
– Нет, мы не будем молчать!
– Мы вопрошаем, мы говорим...
– ...о чём думает наш незабвенный Александр Фёдорович, что он от нас скрывает?
– А вот мы его сейчас и спросим... – милый, всё покоряющий голос хозяйки, устремившейся в прихожую. – Наш неподражаемый, шип революционный... к слову ли, к закуске ли нагрянувший!.. Добрейший Александр Фёдорович, просим. Что вначале?..
– Известно, – входя, двумя пальцами провёл он по борту чёрной, грубой, прочной тужурки, как бы пересчитывая пуговицы. – Вначале было Слово...
– ...и Слово было – Керенский, ура! – выскочил из другого угла кто-то уж совсем в своей преданности неуправляемый.
От такого неприкрытого лакейства каменный пойдёт вспять, но вошедший не отступил, а только ещё круче вскинул бескровное, болезненно матовое лицо и поискал кого-то ошалелыми, ничего не видящими глазами. Гости расхаживали, как в его министерской приёмной, шумели, размахивали руками, суетились незнамо с чего – попробуй-ка останови на чём-нибудь взгляд! Но вот ведь остановился, выискал, выхватил нужное и любезно склонился, так что и бант красным веничком опахнул пуговицы тужурки:
– Борис Викторович? Мы, кажется, сегодня не виделись... извините, запамятовал... Когда страсти египетские поулягутся, мне нужно с вами поговорить.
Савинков, не вставая с дивана, утвердительно кивнул, а Керенский сейчас же дальше прошёл. Можно было подумать – и здесь конспирация! Кто в неё только не играл... Но от всевидящих глаз хозяйки ничего не укрылось. Она следом подошла:
– Если нужно – не стесняйтесь, в мой кабинет.
И ей так же безлично кивнул Савинков, так что она даже обиделась, прошептав: «Господи! Да есть ли хоть у него какие-то привязанности?» Конечно, нагоняла на себя парок, кокетничала, а как же без этого. Дамская доля – трудная, а уж салонной долюшке не позавидуешь. Все так и едят взглядом хозяйку, иногда и про закуску забывая. Что она, сёмушка? Плечико вниз, плечико вверх, да если ещё вздохнуть обречённо, а если уж фыркнуть немножко – и несокрушимого Бориса Викторовича можно свалить. Ан нет! Верно, для него что плечико, что рукояточка револьверная – одинаково ловко и цепко обнимет, уж непременно. И если б она его не знала, самым ближайшим знанием, пятнадцать последних лет, особенно десять парижских-то, – назвала бы слонокожим, стоеросовым, дубосердечным, а то и новое словцо бы придумала. Стоит того невозмутимейший из невозмутимых! Но ведь это, как говорится, до первой спички. Не очень-то и нужна была ему парижская гризетка, прошёл бы мимо с полнейшим равнодушием, но вздумалось Леве Бронштейну показушно приревновать, из плюгавых политических целей смехотком подкольнуть – и что же? Тут же мгновенно как пулю всадил, да нет, хуже – публично, не снимая перчатки, коротким, но крепким размахом так съездил по ухмыляющейся физиономии, что бедный Лева, падая, и гризетку под себя подмял. Что ему оставалось? Дуэль? Кулачный поединок? Обычная потасовка? Но ведь он, сверхмудрый прохиндей, знал: правый Боже... или Маркс там... упаси связываться! Ничего, утёрся и лишь бумажную злобу затаил – в газетёнках на него поплёвывал. На такие мелкие плевки Савинков не отвечал – гордыня не позволяла. Керенский-то не дурак, чтоб взглядом поднимать его с дивана, как прочих других. Савинков – не прочий, он, он... «Личник. Личник!» – вспомнила хозяйка своё же тайное прозвище. Не от робости – от невольной сдержанности перед ним в глаза так не высказывалась, разве что дневнику доверялась. Вот ведь: ближайшие друзья и, можно сказать – фу! – со-ратники, а тайное всё-таки остаётся. «Нельзя же... как эта любвеобильная Матрёна!» – пронзительным ехидным взглядом окинула она одну из своих подруг, которую звали, конечно, не Матрёной и которая декольтировалась – уж дальше некуда, и это при её-то почтенном возрасте! О своём возрасте она в эту минуту как-то и позабыла.
Слава богу, развеселил этот новенький, поручик, кажется, которого привёл с собой Борис. Он, как свечка, с двух концов зажжённая, – так и пылал праведным гневом, Керенского, видимо, не узнавая, а может, и не зная в лицо. Убеждал, как самый правоверный:
– Советы – гнать надо из Смольного. Бронштейна – на виселицу. Ульяшова этого... как его, Ульянова... драной метлой обратно в Германию: на чьи деньги приехал – на те пусть и убирается. Нас почему-то через Германию не пустили, не только тех шикарных вагонов, но и телячьих теплушек немцы не дали. Наши пленные солдаты гниют в грязи... о боши, боши!.. Знайте же: мы за войну до победного конца. Россия – не шлюха европейская, чтобы перед всяким там кайзером половичком стелиться. Дума – этого не знает? Керенский – не понимает? А раз понимает... и его метлой драной!.. Нечего делить власть с этими Советами немытыми!..
– Да ведь бани?.. – опять перебил его какой-то заугольный голос. – Бани они тоже собираются обобществить. Понимать надо.
Новичок не собирался этого понимать.
– Так что ж Керенский – из одной шайки-лейки с толстопятой чухонкой, раз одной ногой в правительстве, а другой – в Советах?!
Нет, приятель Бориса Викторовича был неподражаем в своей наивности. Керенский, не называя себя, – ещё бы унижаться до называния, – совершенно скоропалительно:
– Да именно потому, что у меня две ноги. Две. Правая и левая... левая и правая. Не так ли, молодой человек?
А «молодой человек» не так уж и молод, почти того же возраста, что и сам Керенский, но ничегошеньки не понимает. Стоило немалого труда очнуться:
– Разве вы... вы?..
– Я, молодой человек.
Бешеные искорки запрыгали в глазах ушедшего было в себя Бориса Савинкова. Будь это с ним, он давно бы поменялся местами не только с министром юстиции, но и с самим Господом Богом. Но смелый пред штыками поручик – здесь всего лишь отставший от поезда пассажир. Смешно и горько? Спасает разве, что не он один такой. Здесь много топталось таких, приехавших откуда-то и зачем-то при дальних раскатах красного словца – революция. Не понимают, что поезд давно ушёл, и кто успел прыгнуть на подножку – тот вспрыгнул, а остальным нудно и мерзко плестись по шпалам. Савинков и себя вдруг ощутил едва-едва зависшим на подножке; бывало это в его ранней молодости, при всех свершившихся и не свершившихся терактах. Там уж раздумывать некогда: дёру! Но сейчас-то, сейчас?.. Облапили единый поезд все они... и Бронштейны, и Ульяновы... и Керенские с Черновыми... висят, кто вниз головой, кто вверх ногами, а дальше что? Выбора-то, собственно, нет, как нет и батюшки-царя, против которого они с такой рьяностью метали бомбы. Право, жалко стало. Там хоть охранка, городовые те же, железнодорожные и всякие другие стукачи, а нынче что? Смешно воевать с тем же Керенским, и не только потому, что в роде как «со-ратники» на каком-то загаженном поле, – не получится ведь при его полнейшей беззащитности, дрогнет разомлевшая от безделья рука. Министр с блуждающими, какими-то наркотическими глазами? Лицо узкое, бледно-белое, полуприкрытые, как бы зашторенные щёлки глаз, и эта надутая, по-ребячьи оттопыренная верхняя губа – нечто клоунское, наигранное, несерьёзное, да и вечное нервическое непостоянство. Положим, на публику всё это действует поистине каким-то наркотиком – но на тех, кто провёл с ним вместе целую череду предреволюционных, потерянных лет? Савинков не замечал, как непроизвольно выплёскивается его холодная, внешне незаметная ирония. А над чем, над кем иронизировать? Люди не ангелы, ангелов и теперь, когда свалили ненавистную охранку, что-то не замечается. Значит, губа, хоть верхняя, хоть нижняя, не дура?.. Выбирай! И хоть выходило, что выбирать-то особо нечего, дух противоречия подзуживал и крутил остановившиеся мысли. Савинкову было скучно. И если бы не первое обещание – в узком приятельском кругу провести поэтическую полночь, если бы не вторая обещанка – в «дамском» кабинете решать судьбы России, он давно бы надвинул на глаза отличную английскую шляпу – котелок в революционном Петрограде пришлось всё-таки сменить, – тотчас же вышел бы на свежий воздух. По крайней мере, в подворотне можно нарваться на какого-нибудь уцелевшего городового и маленько поразмяться. Он непроизвольно и как-то лихо двинул плечом, стиснутым всё тем же отменным английским сукном.
– Бьюсь об заклад – Борис Викторович даже сейчас мечет бомбы... не обижайтесь, ради бога! – выскочив высокой нотой, на тихий чахоточный лепет сошёл голосок неподражаемой хозяйки.
– Нет, божественная 3. Н., – поднялся Савинков с дивана, и при невысоком росте став сразу и выше, и заметнее многих. – Скучаю. Просто скучаю...
–...от безделья? Борис Викторович, согласитесь?
– Да. Безделье, – без всяких увёрток и тоже с полнейшей открытостью согласился он.
При этом Керенский, тихо и вяло закусывавший в полном одиночестве, вскинул заметавшиеся глаза и, как гончая, насторожил оттопыренные уши. Чтобы на своём отрезанном слове и покончить, Савинков прошёлся по гостиной, перемешивая и смущая взгляды, и бесцеремонно, как это он умел делать, направился в кабинет 3. Н. Не сомневался, что Керенский последует за ним. Но не так же шустро, будто нагоняя на длиннющем Невском проспекте! Савинков не успел и осмотреться в сегодняшнем дамском пристанище. Тут каждый Божий день что-нибудь ломалось, переставлялось, разбрасывалось и чинилось – даже завсегдатаю разобраться было нелегко. Немудрено, что насмешливо остановился при пороге. Сейчас же нетерпеливая рука и легла ему на плечо:
– Безделье? В революцию? В такую великую революцию?!
«Без аффектации он не может», – с молчаливой ухмылкой подумал Савинков, который уже больше десяти лет распрекрасно знал этого человека и по России, и по Парижу, и по другим всемирным градам и весям. Хоть и социалист, и революционер, под ручку ходивший с Плехановым, и даже с Бронштейном, но внешнего «демократизма» никогда не допускал, был по-своему элегантен, а сейчас... Эта черно-суконная, чуть ли не матросская, тужурка с отцветшим затасканным бантом, пепел и крошки на коленях, какая-то неуловимая неряшливость во всём!.. Отвечать ему не хотелось. Но надо.
– Мы революционеры... без нас свершившейся революции! Кому мы нужны?
– Революционной совести. Свободе!
Савинков знал, что последует дальше: равенство, братство... этакий плебейский брудершафт! Истинно говорит эта сумасшедшая, слишком уж эмансипированная 3. Н.: слова – как пена... Чтобы не смотреть в блуждающие, поджаренные глаза давнего «соратника», он свои-то насмешливые, колюче-ледяные – по столу, по всем этим грудам дамских бумаг, разворошённых неподражаемо дамской революцией. То ли слышалось ему уже где-то, то ли в Париж через все европейские фронты залетало? Какой эсер всуе не вспоминает про крестьянскую землицу? Даже и большевики карасей на эту приманку ловят. Как раз кстати! Он только огласил, да и то чуть-чуть небрежно:
– Мне – о земле – болтали сказки: «Есть человек. Есть любовь». А есть – лишь злость. Личины. Маски. Ложь и грязь. Ложь и кровь.
Керенский едва ли уловил здесь что-то поэтическое и ухватился за самое внешнее:
– Кровь? Борис Савинков убоялся крови? С каких это пор?
– С тех пор, как вижу: целыми сотнями, гуртом, будто овец, убивают русских офицеров!
– Так не давайте это самое... убивать! Поезжайте комиссаром Временного правительства – полномочным комиссаром... ну, скажем, на Юго-Западный фронт. Там, кажется, Брусилов... или Корнилов?.. – запутался в командующих. – Всё равно. Славные воители! Наши. Будущие революционеры. А вы?.. Вы – комиссар правительства. Второе лицо после командующего, вы...
– Но – дальше? Дальше – что?
– Дальше?.. – на какую-то секунду задумался Керенский. – Военный министр... да, военный! В моём революционном правительстве. Вы слышали, конечно?
Это уже не походило на словесный абсурд. Да, Савинков слышал: бывший адвокат, бывший министр юстиции сегодня выбран... или назначен... чёрт их там разберёт!.. да, председателем Совета министров, премьером, как для солидности, на европейский лад, судачили вокруг вездесущей хозяйки. До этого Савинков участия в досужей болтовне не принимал – тут, в роскошнейшем салоне, каждый день кого-нибудь снимали... или назначали, согласно случаю. Но не столь же круто? Дело было посерьёзнее. Как ни относиться к бывшему адвокату, не станет же он набирать несуществующую команду.
– Да, я вас слушаю, Александр Фёдорович.
– Я намерен коренным образом преобразовать Совет министров. Не буду вдаваться сейчас в подробности. Скажу только: уже сегодня утром на вас глаз положил. Хватит вам, Борис Викторович, без дела шататься. Не такой вы человек. Идите работать в моё правительство. Моё! – с удовольствием повторил ещё непривычное и для него самого слово.
Видимо, так: ещё до прихода сюда думал о своём предложении. Уж не 3. Н. ли постаралась? Дай ей волю, она не только засевшую в Смольном Совдепию, но и суматошное правительство расшвыряет милой дамской ручкой... как вот эти необозримые бумаги на этом необозримо-революционном столе! Статуэтка Робеспьера на книге неистовой воительницы Дашковой; матросская бескозырка и казацкая нагайка; гипсовый Стенька Разин и черно-стальной «Броненосец Потёмкин»; листовки, воззвания, свои и чужие стихи, лапотки детские, гроздья ярчайших бантов, склянки из-под лекарств, вниз головой брошенный Бальмонт, письма, конверты, записки, писульки и просто клочья разодранных бумаг... Чего тут только не было! Мужчине следовало бы отвести взгляд, чтобы не наткнуться на нечто и дамски-интимное. Но Савинков привык к этой беспардонной революции и думал о своём: «Она? Лукавая 3. Н.?» Пожалуй, именно она и порешила, а судьбоносный министр не мог ей отказать в такой малости... Бедная, ослепшая Россия!








