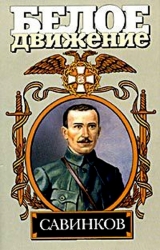
Текст книги "Генерал террора"
Автор книги: Аркадий Савеличев
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 35 страниц)
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
МИНИСТР-БОМБОМЕТАТЕЛЬ
I

 осле двух лет немецкого плена поручик Патин возвращался на родину. Разумеется, он не стал дожидаться официальных бумаг и паспортов, а попросту при первой же возможности сбежал из лагеря, который и находился-то фактически на польской земле, близ Лигницы. Пробираться через немецкие кордоны было сущим безумием; он предпочёл окольные пути, вплоть до Англии, благо что Европа велика, а добрых людей в ней и за войну не убавилось. В России революция... р-революция, чёрт её дери! Как может служивый поручик сидеть в немецкой дыре?!
осле двух лет немецкого плена поручик Патин возвращался на родину. Разумеется, он не стал дожидаться официальных бумаг и паспортов, а попросту при первой же возможности сбежал из лагеря, который и находился-то фактически на польской земле, близ Лигницы. Пробираться через немецкие кордоны было сущим безумием; он предпочёл окольные пути, вплоть до Англии, благо что Европа велика, а добрых людей в ней и за войну не убавилось. В России революция... р-революция, чёрт её дери! Как может служивый поручик сидеть в немецкой дыре?!
Но даже и такая большая земля, как Европа, полнилась нехорошими слухами. Оказывается, можно и прямиком, через немецкие кордоны, и даже за немецкие денежки. Не зря, пожалуй, поговаривали, что Ленин и весь его христопродажный синклит не искали окольных путей, а катили в Россию прямиком через Германию. В это не верилось, но это повторялось при каждой солдатской встрече и во Франции, и в Англии, и в Швеции, так что Патин в конце концов сказал себе: «Чёрт их всех дери! Я вот раньше в Швеции не бывал, да и в Финляндии только наскоком. Гляну и на эту пуговицу с императорского вицмундира». Не очень вежливо называли дачный закраек Российской империи, но что делать. И об Англии с солдатским смешком: «Надутая жаба», – хотя именно оттуда и начинался его путь в Россию. Не случайно и по одежде он был истый англичанин: в кепи восьмиклинном, отличнейших крагах, под цвет кепи светло-клетчатом полусмокинге-полупиджаке, с сигарой в нагрудном кармане и, разумеется, с тростью на левой руке. Правда, по мере продвижения к Финляндии, через всё военное море и через всю слишком уж растянувшуюся Швецию, стал ехидно примечать: что-то больно уж много таких вот англичан едет в российскую сторону!.. Но границы открывались и закрывались, таможни пропускали – чего роптать? Документы у него были как у истого англичанина, не придерёшься. Сэр Брайтон Месгрейв, владелец фирмы с Черч-стрит... антиквариат там и прочее, изволите видеть! Как и всегда при пересадках в очередное купе, он небрежно разбросал по столу рекламные проспекты, а сам листал английское издание Шерлока Холмса, чтоб уточнить детали своей наспех писаной биографии. Хоть таможенники и полицейские во всех странах истые дураки, но ведь могли же и они что-нибудь читать. Нет, и под хорошие английские фунты назваться самим Шерлоком Холмсом он всё-таки не рискнул. Более скромно: Брайтон Месгрейв, желающий в разорённой и нищей России поживиться этим самым... антиквариатом... Славно вспоминались гимназические годы; славно и язык булыжником ворочался во рту. Лагерь не прошёл даром, сидел он вместе с англичанами и мог вполне усовершенствовать и без того неплохой университетский курс, хотя и незаконченный: война помешала. Зато и обкатала – под вполне приличного англичанина.
Больше беспокоил немецкий язык. Разумеется, он говорил и на нём, но как?.. Из какого-то лагерного презрения ведь мало обращал внимания, а жаль. Боши на финской земле были в большом почёте и, кажется, чувствовали себя хозяевами. Они расхаживали со своими винтарями наперевес, а зачастую и с примкнутыми мясницкими штыками, особенно по рынкам и мелким финским фермам. Штык – удобная штука, вроде длиннющего ножа, а против такой мелочи, как подсвинок или барашек, финны не возражали. Попробуй возрази! Любопытная иногда открывалась картина: идёт целый взвод, а на заплечных штыках – что твоей душеньке угодно!..
Правда, чем дальше продвигались от Гельсингфорса, тем меньше становилось бошей, а за Выборгом их и вовсе не стало. Патин понимающими глазами провожал мрачную каменную громаду старинного шведского замка; на пятидесятиметровую семиярусную сторожевую башню он лазил ещё в студенческие годы, ради дури, конечно, но война научила смотреть на всё посерьёзнее. И с нынешней артиллерией взойти туда было нелегко, но ведь Пётр-то взошёл! Что-то теплело в груди от студенческих библиотек; как раз на первом курсе, в 1910 году, и праздновали двухсотлетие русского Выборга. На башне развевался финский флаг... и слава богу, что пока не немецкий!
Ах, финны, финны!
Они как с цепи сорвались; везде полувоенные-полупартизанские патрули и целые, маршем проходящие отряды. Патин знал, что здесь, в бывшей Финляндской губернии, а того раньше и в Финляндском наместничестве, теперь никто никому не верит. Ни губернатору, ни наместнику, ни батюшке-царю... ни немцам, ни русским... ни самим себе, пожалуй. Поезд-то шёл к Петрограду, а там что?.. Там – полная неизвестность. Все «англичане» их единственного люксовского вагона стали молчаливы и подозрительны. Патин ещё раньше, до Выборга, переложил под руку свой безотказный вальтер – сунул на голое тело, под рубашку хорошего английского покроя. Хотя и пуговка на рубашке как-то небрежно расстегнулась, но всё же было неспокойно. Революции революциями, а доживала свой век ещё не растерявшая свой царский пыл охранка, да и новая под новые порядки подлаживалась. Тут стой и замри, не смей возражать! Ну, а кто возражал...
Не было того придорожного столба, где бы не висел русский офицер, а то и простой солдатишко... Об этом Патин ещё в Швеции наслушался, а теперь и насмотрелся; финны ошалели от прихваченной в переполохе свободы. Им всё время мерещилось, что новая власть только и думает о том, как бы прикарманить отбившуюся от Российской империи, страхом вздыбленную Финляндию. А власть, как хорошо знал Патин, и с ближайшим Петроградом не могла разобраться – куда уж ей до финской окраины!
Но поезда, тем не менее, хоть и без прежней регулярности, ходили. На последние лондонские фунты, которыми снабдили его друзья, Патин взял двухместный люкс – для пущей безопасности, а вовсе не для удобств. Немецкий лагерь приучил обходиться самым малым, чего было барствовать.
Странным образом, до Выборга он ехал в одиночку, и только там уже подсел к нему неразговорчивый и явно ко всему недоверчивый господин... разумеется, всё того же английского покроя, только более респектабельного и ухоженного: в чёрном смокинге и котелке, который теперь с небрежной осторожностью застыл на краешке стола под брошенными на него опойковыми перчатками. Внезапный выборгский попутчик раскланялся с молчаливым достоинством, взглядом спросил разрешения и закурил свою сигару. Патин кивнул, не зная, на каком языке с ним говорить. Па всякий случай представился по-английски:
– Брайтон Месгрейв, владелец фирмы с Черч-стрит... антиквариат и всё такое прочее. С кем имею честь, сэр?
Попутчик некоторое время молчал. Несмотря на внешнее спокойствие, держала и его какая-то настороженная пружина...
– Вам следовало бы назвать себя Шерлоком Холмсом, – прищёлкнул он пальцем по раскрытой книге.
Не отвечал и Патин, поражённый совпадением в мыслях. Давно ли и сам-то он думал над этим? Кто присел на противоположный диван, упорно и назойливо его изучает?
О себе Патин как бы и позабыл, хотя смотрел через стол, наверно, точно так же.
Кто?!
Был попутчик плотен и внушителен, когда сидел, но Патин при входе успел заметить, что росточком так себе, разве что на высоких каблуках. Но смокинг на нём сидел бесподобно! Может, Патин поэтому и засмотрелся, а уж потом приметил: и у него вовсе не по небрежности слегка расстёгнута нижняя пуговица, разумеется, не на рубашке, а на самом смокинге. Чуть-чуть, невидимо. Но толк в таких тонкостях поручик Патин понимал: как-никак до плена он служил не где-нибудь, а в армейской разведке. Добрый знак или злой подвох?
Так они сидели друг против друга на разных диванах, покуривали сигары, каждый свою, и разделял их всего лишь столик, застланный безупречной крахмальной скатёркой, совершенно беззащитной для того и другого. Патин прикидывал, что в случае чего ему сподручнее выхватить из-под ремня свой вальтер, чем закованному в английское сукно соседу – продраться сквозь дебри своего одеяния.
Эта самонадеянность и вызвала очередную реплику попутчика – на вполне приличном немецком:
– Прошу прощения, у вас пуговка на рубашке расстегнулась.
Патин не растерялся и тут же отпарировал по-английски:
– Тоже прошу прощения: у вас со смокингом что-то неладно... внизу...
Спутник слегка улыбнулся сухими, негнущимися губами, застегнул нижнюю пуговицу и повинился:
– Я понял смысл вашего замечания, хотя не силён в английском.
– Опасная неосторожность... при такой-то аглицкой экипировке!
– Что делать! Я русский.
Патин некоторое время колебался, прежде чем ответить:
– Я тоже.
Они уже порядочно отъехали от Выборга, где оставались ещё кое-какие, держащиеся под дулами своего флота российские гарнизоны. Здесь опять начиналась ничейная земля; корабли оказались в стороне, а сухопутные части то ли разбежались, то ли повымерли. Скорее, последнее... Картины за окном открывались всё безрадостнее и безнадёжнее. Уже не только столбы, но и заборы были утыканы иссохшими армейскими фуражками. Какие-то уж истинные мясники, вооружённые топорами и прикольными мясницкими ножищами, гнали на убой вовсе не лошадок и коровок – целую колонну русских пленных. Об их дальнейшей судьбе можно было и не загадывать: не на курортное взморье вели...
– Это уже подлые мясники!.. – нарочно ли, нет ли сорвалось с задрожавших губ Патина, и даже рука дёрнулась с совершенно очевидной целью.
– Вы слишком громко... и вовсе уж напрасно.
– Вот именно: напрасно! Прошу прощения.
– За что?! – в упор вперились на него два остекленелых, холодных глаза.
Патин не успел ничего ответить – за дверью послышался какой-то подозрительный шорох. Попутчик презрительно прислушивался. Он явно ушёл в себя и едва ли понимал сейчас Патина. Он тоже возвращался в Россию.
II
После смертного приговора, дерзкого, даже безумного бегства из севастопольской комендантской тюрьмы... и десяти лет беспечально-нудной эмиграции, где он числился то немецким шпионом, то французским архипатриотом и журналистом, то лондонским контрабандистом... Во всяком случае, любая из этих полиций с удовольствием поставила бы его к стенке. Не говоря уже о российских заплечниках. Так что терять ему было, собственно, нечего... даже при таком странном соседе, одетом тоже на английский манер, но с неистребимой русской сущностью... Он не без умысла бросил ему откровенный вызов – до Петрограда оставалось часа полтора, не больше, – уж лучше разобраться во всем в дороге, не тащить же за собой малопонятную подозрительность.
За окном проблескивали серенькие финские скалы. Даже и зимой со многих ветрами сдувало снега, а сейчас уже грянул апрель, с водой, солнцем и первыми грачами. Право, что-то ошалело-чёрное и милое кружилось сбоку поезда, на станциях жирными гроздьями увешивало несокрушимые здешние берёзы, голыми плечами своими подпиравшие тяжёлые свесы скал. Вроде как уже Россией пахнуло?.. Повешенных стало меньше, а потом они и вовсе отшатнулись вглубь Финляндии. И уже никакой местной полиции, никаких мясников с прикольными ножами... Даже крестьян не виделось. Голая, попрятавшаяся, примолкшая земля.
Значит, сюда уже не суются? Россия!
Он никогда не впадал в сентиментальность, но приметил, что его попутчик тоже смотрит в окно оплывшими, незрячими глазами.
– Что, друг дорожный, не перебрали мы вчера?
Его милый, наивный спутник покорно тряхнул закружившейся головой и как-то по-свойски крякнул:
– О-го-о... было дело!
– Странно, у меня никогда не бывает перебора...
– У меня – бывает. Русский!
Знал он этот грешок за всеми своими русскими друзьями. Особенно той достославной десятилетней поры... Когда метаешь бомбы в министров и великих князей, невольно рюмкой упокоишь нервы; на том и сгорали, как самодельные запалы, расхристанные други-студяши. Он – не сгорал; нервы – те же вожжи, держи покрепче в руках. «В чистых руках», – мысленно добавил он, от нечего делать шлифуя карманной пилкой и без того безупречные ногти.
Однако ему стало жалко своего приунывшего спутника. Даже некое подобие улыбки скользнуло.
– Не обращайте на меня внимания. Правьте свою голову... как гусарскую саблю! Час и всего-то до России...
Спутник не заставил себя упрашивать, тем более что у него ничего и не убиралось со вчерашнего: видно, не хотелось чужих, прислужничьих глаз...
Хоть люкс и международный, но ведь не прежний; «ни ехали в нынешнюю Россию, пора было привыкать.
Уже Выборг с его живописно ниспадающими к морю домами, с его старой и даже сейчас грозной крепостью, с наивно вколотыми в весеннее небо остриями кирх, с незримой границей, где опадало всё финское и начинало проступать своё, русское, – даже и этот перевалочный город давно остался позади. На подступах маячил Сестрорецк; река Сестра окончательно перенесла их на свой, петроградский берег. Дальше маленькие курортные станции, сейчас совершенно пустые и голые – от весеннего межсезонья и полнейшего безлюдья. Они подъезжали к Петер... бургу... граду... чёрт их, нынешних, разберёт. Немца и свинцовым градом не остановишь – куда уж там словесным! Словеса он никогда не любил, хотя и пописывал, как сам ехидничал, глупые стишки. Нет, словеса губили самое живое революционное дело. Это – Нахамкиным и Бронштейнам, хота... «Хотя ехали-то все они на немецкие деньги, в немецких запломбированных вагонах», – подумал он как бы вслед за своим попутчиком, но в отличие от него не тратя дальнейшей мысли на то, что любой чухонке-молочнице было ясно. Слава богу, он едет, как и положено сейчас русскому человеку, через Англию, Швецию и эту вот... придворцовую пуговицу с бывшего царского вицмундира! Он, конечно же, не знал, что мысли его опять перекрещиваются с мыслями загрустившего спутника. Видения за окном, что ли, морщинили их? Ничего он раньше против добрейших финнов не имел, наоборот, на их же явочных квартирах и бомбы для великих князей да министров изготовлялись. Вроде как вместе начинали? Чего же они нынче на всё русское взбесились?
Ведь, право, нравились неподкупные финские други-приятели. Уж если сказали – так не продадут и не выдадут. Да и Европой маленько попахивало. В Гельсингфорсе всегда – чистота и порядок, за каждой соринкой – с метлой; про станции, про первоклассные вагоны и говорить нечего: не всегда так бывало и в Царском Селе. Может, он после десяти-то лет эмиграции не тем глазом на всё нынешнее смотрит? Может, и не бывало никаких р-революций... и всяких там застрявших на запасных путях стукачей?..
Но неужели?!
Он ещё внимательнее прислушался. За дверью похмельно и чесночно посапывали, поскрёбывали, пробуя её на ноготок. Чего ж, пора! Часа не пройдёт – и Петро... бург... град... а там ищи-свищи ветра в городском закаменелом поле. Он посочувствовал этому запоздалому стукачу: привязался ещё на Гельсингфорском вокзале, всячески набиваясь в прислужники и целя именно в него, ехавшего под именем англичанина Роберта Сент-Саймона, – как и спутник, прикрывшегося Шерлоком Холмсом. Надо бы только уточнить: кажется, этот Сент-Саймон был лордом? Да велика ль беда – он тоже «потомственный дворянин Петербургской губернии», как не без гордости заявлял презренному суду ещё на первом университетском курсе, а стукачам до лордов и потомственных дворян далеко, пусть скребутся за дверью. Вот каналья! Куда ему тягаться со старым конспиратором? Он несколько раз перетасовывал шляпы, котелки, кепи в привокзальной толпе, да и в поезд, когда понял, в чём дело, сел с третьеклассного, многолюдного вагона, постепенно перебираясь во второй, а потом уж в первый. Но всё равно ещё перед Выборгом, выйдя для страховки в коридор к туалету, наткнулся на этого замызганного субъекта. На всей его затёртой полицейской харе было написано, что вход в такие вагоны ему запрещён, а он вот, тем не менее, крутится, и цель у него совершенно ясная, собачья. Он ведь ещё и не просыпался с царских времён – когда ему думать о революциях и всяких там переменах! Его дело чисто иудино: за тридцать сребреников... ну, положим, теперь побольше... сдать означенного на фотографии «риволюць-онера» и всласть покутить с такими же, как сам, сыскными заграничными харями. Значит, жив курилка! В предыдущем вагоне, когда ночью выходил в коридор, его даже позабавило немного: стукач дрожащими руками листал пачку затёртых фотографий и от смущения и спешки выронил одну – пришлось вежливенько поднять и, взглянув на себя, давней десятилетней молодости, подать со словами: «Смотри не перепутай, харя!»
Над этим и посмеяться было не грешно. Сколько их, сыскных заграничных шавок, до сих пор шляется по белу свету! Ведь и царя-то уже нет, и деньги небось никто не платит, а они всё снуют и снуют по вокзалам... по Парижем, Лондонам, Стокгольмам... и никак своей вонючей сворой не скатятся в новую Россию. Может, за вечной хмелью и не слыхивали про неё! Ночью он только посмеялся над незадачливым стукачом, а сейчас сам себе сказал посерьёзнее: «Но у них ведь всегда был приказ: стрелять... при попытке к бегству!..»
Но куда бежать? Одна-единственная дверь, за которой и торчит этот поскрёбыш...
Хорошо, что его спутник побрякивает утренней рюмкой, всякой мелочью на столе. Он приложил палец к губам и поощрительно улыбнулся: продолжай, мил-друг, продолжай. А сам взял с донышка котелка лондонские податливые перчатки и жестом хирурга мигом натянул их на руки. Собственно, он и не раздевался, и сейчас недоставало лишь этой малости – перчаток. С Богом!
Толстый пружинящий ковёр не издал ни единого звука под ногами. Жаль только, что дверь просто откатывается, лучше, если б нараспашку в коридор... Хотя и тут чего же лучшего желать, если голова на плечах?
Мягко отшлифованная задвижка отошла беззвучно. А уж про подшипниковые салазки и говорить нечего: доброго финна стыдом заест, если в его хозяйстве что-то пикнет-скрипнет. Всё в порядке.
Он выждал секунду-другую – и левой рукой резко отмахнул дверь.
– Ага, упойная харя!
Ночной стукач так и повалился ему на правую руку, подставляя затрапезный загривок. И понять-то ничего не успел, как эта вот лощёная, затянутая в перчатку рука вознесла его к холодной дубовой притолоке, какое-то мгновение подержала мордой у качающегося коридорного окна – и вдруг резко и безостановочно сунула в это разлетевшееся вдребезги окно, в обливное утреннее солнце и ветер, в откос, в какой-то каменисто бурлящий поток, прямо в пенистую сорную изволочь, так что даже последнего крика не послышалось, разве что шум железного моста диссонансом ворвался в расхристанное окно.
Перчатки брезгливой парой полетели следом – на память, что ли, от шумного мира сего?..
– Чело-век!
Один из кондукторов, заслышав грохот, и сам уже бежал по коридору.
– Что такое, господин?..
– Плохи, видно, финские стекла? Видите – дыра?
– Дыра, – повторил на довольно сносном русском языке кондуктор, ничего, конечно, не понимая.
– Так вставьте, заткните... сделайте, чёрт побери, что-нибудь! Дует. Сквозит. Вот за услуги...
Мягкий, дружеский шлепок по плечу. Хрустящее английское портмоне. Английские, самые дорогие по военной поре, фунтики – с ума сойти, да и только!
Он вернулся в купе, захлопнул так же мягко притёршуюся дверь и сказал своему спутнику:
– Ну, давайте знакомиться. Теперь можно и выпить за Россию. Колпино проехали? Помню, помню... Не больше получаса осталось. Руку... гражданин России! Я – Борис Савинков... честь имею!
– Савинков... тот самый?..
– Не задавайте глупых вопросов... как вас?..
– Поручик Патин... тоже честь имею!
– Ну, поручик так поручик... хотя в новой России офицерские звания вроде уже отбирают? Но мы-то пока в старой России, поручик. Доставайте шампанское... и не смотрите на меня таким вальтеровским зраком!
Патин всё ещё сидел с вальтером на диване и черно, зряче простреливал закрывшуюся дверь.
– Я думал, придётся...
– Уже не придётся... помяни, Господи, его душу! – вполне серьёзно перекрестился он, хотя с гимназических лет ходил в нигилистах.
Не успела хлопнуть пробка, как вежливый, услужающий стукоток в дверь. Оба кондуктора, весёленькие.
– Стёкол, господин-гражданин, нет, да ведь и это, наверно, сгодится. Вот, для Петрограда приготовлено!
Фанерный лист, точно вырезанный по размеру окна. На одной стороне его красной краской написано: «ВСЯ ВЛАСТЬ СОВЕТАМ!» На другой – уже краской синей: «ВСЯ ВЛАСТЬ ВРЕМЕННОМУ ПРАВИТЕЛЬСТВУ!»
– Которой стороной, господин?..
– Гражданин, гражданин.
– Уж извините, никак не привыкнем... да и не знаем...
– Ладно, люди хорошие. Я тоже не знаю, но... мне всё-таки более приятен синий цвет.
Новый размах портмоне – и кондуктора выкатились как со свадьбы. Это ещё прибавило настроения, а шампанское – играло в душе, на какой-то забытой детской дудочке. Неужели было детство, неужели у него что-то было в этой России?.. Если б он умел плакать, право, всплакнул бы от умиления. Почему Бог не дал ему горячих очищающих слёз? Ни во время детских жестоких потасовок, когда они ещё жили с отцом-судьёй в Варшаве, ни во время петербургских студенческих обид, ни даже после севастопольского «расстрельного» приговора; ему уж караульные советовали: «Плачь, милок, легше станет». Да что там – мать, прикатившая на скором, трясла за плечи: «Железный ты, Борисик, железный, что ли?!» Ах, мама, под звон кандалов всех сыновей растерявшая мама... Не научила ты сыновей, в том числе и погибшего в сибирской каторге Андрея, лить нормальные человечьи слёзы – не научила революционная ма! Молчали они, уж истинно железные. И не потому, что страха не было, – не было уважения к жизни, что ли. Да-да, и к своей, и к чужой! Вон милейший поручик, прошедший такую войну, очухаться до сих пор не может: как это – взять да и скинуть человека под откос?! Дул шампанское, а потом и коньячку сверху: зубы стучат, не успокоится никак. Да и спрашивает вот так наивно:
– Неужели вам всё равно, Борис Викторович? Неужели ничего не беспокоит?
– Беспокоит, как же. Перчаток запасных нет. Терпеть не могу сиволапых революционеров... хотя сам-то, без всяких Ульяновых, и зачинал эту малопонятную р-революцию!..
– Ну-у, Борис Викторович!.. – восхищение, удивление. – Если бы я не знал, что вы и бомбы...
– ...и бомбы я метал в перчатках, уж поверьте, дорогой поручик. Э, что говорить! За Россию и Свободу... нет, за Свободу и Россию! Так-то лучше.
Он вкусно, со знанием дела, чокнулся и уже отпил глоток, как тот, милейший-то, вдруг взъярился:
– Э-э нет, дорогой Борис Викторович! Хуже. Хуже. Какая же Свобода без России?!
Вскочил красный и лохматый, при всём своём росте беззащитно-оголтелый. Он мог разбить кулаком дверь, но мог и бухнуться на колени – ему сейчас было всё едино. Жалко стало его, в словесах запутавшегося, но и уступать не хотелось, не привык. Россия, ишь их!.. Свобода – вот высшая ценность мира, которую он, Борис Савинков, вопреки судье-отцу исповедовал ещё с варшавских гимназических лет. Кто против с кулаками? И что же, вот тут, в купе, и драться... из-за двух каких-то бессмысленных слов?!
Он тоже поднялся – просто чтоб не торчали у него над головой. Но показалось – вроде как с угрозой. И уж новый крик:
– Что, не нравится, Борис Викторович? Давайте и меня в окно... коль поднимете!..
Тоже с угрозой, и нешуточной. Этот окопный поручик, пожалуй, бывал и в рукопашной...
– Сказано: других перчаток нет, – вышло вполне серьёзно, хоть и уступчиво. – Да и за что?.. – ещё помягче, с некой улыбкой на негнущихся, навечно затверделых губах.
Дальше можно было и через стол перегнуться, слегка приобнять подзахмелевшего попутчика.
И этого с лихвой оказалось! Хоть ты слёзы подтирай...
– Смейтесь, смейтесь... вы твёрдокаменный! А я хоть и окопник, но интеллигент... гнилой интеллигент, скажу вам без утайки!
– Ба! Гнилым интеллигентишком называет себя и одна моя... петербургская приятельница... Я дал ей телеграмму. Если в новой России почта работает – встретит непременно.
– Ивы?..
– Я крикну ей с подножки: «Гип-гип, ура!»
– И дальше?..
– Дальше – скучно. Стихи. Вроде этих... – Он подумал и хорошо поставленным, хоть и тихим, почти шелестящим голосом прочитал:
...Всё тот же, в ризе девственных ночей,
Во влажном визге ветреных раздолий
И в белоперистости вешних пург,
Созданье революционной воли —
Прекрасно-страшный Петербург?..
– Вероятно, так и есть – прекрасный! Страшный! Может, даже нам и чуждый... но ведь свой?! – совсем разомлел бедный поручик. – Как вы этого не понимаете?!
– Да уж куда нам, – тут не обиделся, а даже порадовался за свою давнишнюю... давнюю, как молодость, приятельницу, в известной степени свою неукротимую наставницу – Зинаиду Николаевну, которую иначе как 3. Н. и не называл.
– Так за неё? – как для объятий сразу двоих, развёл над столом руки поручик, наливая в обе рюмки. – Познакомите? Да?
– Уж это непременно... если нас не арестуют уже на Финляндском вокзале. Вы, по крайней мере, потише там себя ведите... и без имён, без фамилий, пожалуйста... сэр английский!
– Но ведь – революция? Новая власть?
– И при революции вон тот... – рюмкой кивнул он под гулко гремящий, опять порожистый откос, – стукач и при новой власти за здорово живёшь кокнул бы меня. Что, думаете, в Петер... бурге... граде... чёрт побери, мало их?
– Но ведь вы, Борис Викторович, герой! – приходил поручик всё в больший восторг. – Вы наша живая легенда! Ведь вы... вас на руках понесут!..
– На руках – это мёртвых выносят, – пришлось попенять. – Я уж лучше на ногах. А самое наилучшее – в роскошном автомобиле да прямиком в «Асторию». Ба!.. Не заговорились ли?
Поезд подходил под чугунную колоннаду Финляндского вокзала.








