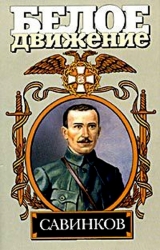
Текст книги "Генерал террора"
Автор книги: Аркадий Савеличев
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 31 (всего у книги 35 страниц)
V
Но в этой жизни ничего, видимо, нельзя принимать всерьёз. Вскоре после ухода Деренталя с лёгким стуком вошла Любовь Ефимовна.
– Борис Викторович, мне скучно.
– Скучайте.
– Мне жить хочется.
– Живите.
– Но как – без любви? Вы меня любите? Хоть чуточку? Хоть с мой малюсенький ноготок?..
Она тоже без всяких церемоний уселась в кресло, ещё хранившее, вероятно, тепло жирной задницы её мужа.
Рука брезгливо легла на бумаги, над которыми мучался Савинков. Острый, отточенный ноготок нервно царапал грозное послание адмирала Колчака. Следовало сказануть справедливое: «Во-он!» – но вместо того он отшвырнул послание адмирала и припал губами к ненавистному ноготку. Право, ненавидел её в эту минуту. О, женщины!.. Ничего-то не понимают. Глушь души. Потёмки всякой реальной действительности.
В ответ на его злость – ноготок резанул по губам. Явно проступил привкус крови.
– Что вы делаете?
– В любовь играю... раз нет её, настоящей!
– Вам мало двоих... глупейших мужиков?
– Мне нужен один... только один. К тому же не самый глупый.
– Благодарю, если я «не самый»...
– Поцелуйте лучше. Чего вам стоит?
Он поцеловал и, вскочив с кресла, к груди её, как гимназист, прижал... Но стук в дверь. Как раз вовремя – муженёк!
– Я не помешал?
– Вы никак не можете помешать, Александр Аркадьевич, – в тихом бешенстве опустился Савинков в надоевшее кресло.
– Вот и прекрасно, Борис Викторович. А то Люба заскучала. Только вы и можете разогнать её хандру.
– А вы, Александр Аркадьевич?
– Я? Я всего лишь муж. Скучный. К тому же у меня – печень. Напоминаю вполне официально... официант сейчас прикатится. Мой самый лучший лечащий доктор.
Ну как тут можно сердиться? Хоть и предупредительный, но вполне нахальный стук в дверь. До краёв загруженная тележка. Улыбающаяся физиономия милого Жака. Красивый разворот роликовых колёсиков. Даже извинительный взгляд в сторону Деренталя – ну, что, мол, с ним поделаешь? Наше дело – исполнять приказания. Иначе не бывать чаевым.
Долгое время общаясь с эмигрантами, Жак даже научился немного говорить по-русски:
– Закуска «а-ля славян-базар».
Савинков согнал хмурь с лица и в знак общего примирения сказал:
– Базар так базар. Опять русский ужин?
– Он сказал, – лукавый кивок в сторону Деренталя, – я исполнил.
– Ты молодец, Жак. Поставь на счёт что полагается.
– С некоторой прибавочной?..
– Разумеется.
Жак вылетел на белых крахмальных крыльях.
После его ухода Савинков посмеялся:
– Добрейший Александр Аркадьевич, не слишком ли круто меняем коньячок на водочку?
– Так ведь «Смирновочка». Ностальгия, – придвинул он своё кресло, как и положено, по левую руку жены.
Савинкову полагалось сидеть справа. Заглянув в судок, где в ожидании третьей рюмки томилось жаркое, для первой он выбрал себе не икру и даже не огурец, – белый, во всей лесной роскоши целиком замаринованный грибок.
– За неё, – коротко подсказал. – Только всуе не будем поминать это великое имя.
Любовь Ефимовна поджала и без того скучающие губы. Должна бы привыкнуть, что первый молчаливый тост – всегда за неё, за далёкую заснеженную Россию. Но нет, не привыкалось. Ей хотелось, чтобы вспомнили и про женщину. Как же, дождёшься! Муж основательно и убийственно тешил свою печень, Савинков жевал грибок. Он-то понимал тайное желание Любови Ефимовны, но уступить женскому капризу не мог.
– Ностальгия, как утверждает Александр Аркадьевич.
– Невоспитанность, как утверждаю я, – всё-таки не сдержалась, сердито покашляла в ладошку.
– Помилуйте, несравненная, – ничуть не обиделся. – Когда было воспитываться? С гимназических лет – в бегах. От жандармов, сыщиков, провокаторов, красных и прочих комиссаров и ещё...
– ...от женщин. Да?
– Да, незабвенная Любовь Ефимовна, да, Александр Аркадьевич, – потянулся к Деренталю, – бросьте свою меланхолию. Я всё-таки за вашей женой ухаживаю.
– Весьма признателен. Третью рюмку – за неё?
– Так уже пятая, – расхохоталась раскрасневшаяся жёнушка.
– Разве? Я не привык считать. Считаю только первую.
– А я – и все остальные, – покачал головой Савинков. – Мы не пропьём её – первую-то рюмку?
– Как можно, Борис Викторович, – наворотил Деренталь со знанием дела на икорку ещё и сыр в несколько слоёв. – Чего они так тонко режут? Терпеть не могу.
– Вижу, что не можешь. В этой парижской лени мы забыли про адмирала. Забыли про генерала.
– Генералов – много. Я – одна, – капризно подала голос Любовь Ефимовна.
– И я – один, – согласился муженёк. – Я в полной готовности. Я спать пойду, дорогая. Ты уж не скучай.
– Она не будет скучать, – заверил Савинков.
Когда Деренталь, пошатываясь, вышел – не в свой номер направляясь, конечно, а в ресторан, – Любовь Ефимовна уже с нескрываемым раздражением заметила:
– А я – не уверена. Спорю на что угодно, что вы и сейчас думаете о генералах и адмиралах – не обо мне!
– Верно. Я проиграл. Что потребуете за проигрыш?
– Это. Только это, – потянулась она перетомившимися, как и нетронутое жаркое, сладко пахнущими губами.
Он принял их как истый гурман, но вкуса не почувствовал. Сам себе не без иронии признался: «И чего я всю жизнь изображаю себя Казановой? Бабы мне, в сущности, безразличны. Глупое самолюбие! Потешить разве?..»
Бывшая петербургская танцовщица уродилась неглупой. За мужской развязностью и бесцеремонностью почувствовала безысходную скуку этого смертельно уставшего человека.
– Боря... Можно так?
– Можно, Люба, если позволите...
– Позволяю... всё позволяю, несносный человек!
– Люба... Странно, я никогда не называл вас простым именем.
– То же самое и я, Борис Викторович. Зачем?
– Не знаю, представьте.
– Это вы-то – незнайка?
– Я знаю вкус ваших губ, запах волос, выжидательную нервность ваших милых пальчиков, трепет ваших бесподобных лодыжек танцовщицы... не скрою, и чуть выше, гораздо выше, не краснейте...
– Неужели я способна краснеть?
– Способны. В этом и вся прелесть.
– Но перед Сашей-то я – всего лишь грешная шлюха!
– Он так не считает.
– Откуда вы знаете?
– Мужчины иногда говорят без обиняков.
– Да, но почему он меня не выгонит?
– Он любит тебя... не надо ханжить!
– Не буду ханжить... милый Боря! Но как же ты терпишь его присутствие?
– Он в не меньшей степени любит и меня. Потом, он просто необходим... мой министр иностранных дел...
Они не слышали, как опять отворилась дверь, – петли здесь хорошо смазывали. Деренталь собственной пьяной сущностью!
– Я не помешал, мои дорогие?
Любовь Ефимовна судорожно оправляла платье. Савинков отошёл к окну, чтобы посторонний глаз, даже Деренталя, не видел его растрёпанного неглиже.
– Я вас очень люблю... и тебя, Люба, и тебя, Боря... Право, не знаю, кого больше. Надо выпить, чтобы прояснились мысли.
В руке он держал початую бутылку коньяка.
Придя маленько в себя и оправив растрёпанные волосы, Любовь Ефимовна бросилась ему на шею:
– Саша! Я ведь уличная танцовщица, правда? Шлюха? Как ты меня терпишь?
– С удовольствием терплю... о чём это она, Борис?..
– Борис Викторович, так лучше. Где пистолеты?
– Всегда при мне, – грохнув бутылку на письменный стол, полез Деренталь за пазуху своего просторного пиджака и вытащил купленный ещё в Токио военный наганчик, полез сзади за ремень – наган российский, побольше и покрепче видом.
– Дуэльные... растяпа!
– Дуэль? С кем? Когда... Боря?..
– Я же сказал – Борис Викторович!
– Ага. Борис Викторович. Дуэль, говоришь? С кем всё-таки?
– Со мной... рогоносец несчастный!
– Ага. Рога. Но если рогоносец – так и дурак набитый? Вы муху на лету подшибёте, не то что такого слона, как я. Нет, выпить надо. Выпить – это по мне.
Савинков расхохотался. Оказывается, и в его руке непроизвольно насторожился старый браунинг. Он кинул его на стол, где на письме-отчёте адмиралу Колчаку уже были рассыпаны сигары, широкополая чёрная шляпка, бутылка коньяку, а теперь вот ещё и браунинг. Натюрморт! Прекрасный натюрморт.
Как ни пьян был Саша Деренталь, он оценил этот натюрморт и со своей бесподобной улыбкой присоединил японский наган со словами:
– Всё равно из него нельзя стрелять. Косит... как глаз япошки!
Савинков бросился к нему нараспашку:
– Да, вечер мелодраматических сентиментальностей.
Любовь Ефимовна смотрела, смотрела, как истово обнимаются дуэлянты, и топнула крепко затянутой в башмачок ножкой:
– Ну, дожили! Вместо того чтобы обнимать бабу, мужики довольствуются собственными объятиями. Слышали, в моду входит новое слово: голубые? Вы поголубели?..
– ...поглупели, – отстранился Савинков от жирной груди своего всепрощающего друга.
– ...постарели, – протёр Деренталь вечно запотевающие очки. – А потому надо выпить.
– Надо так надо.
Вечер продолжался. Обычный парижский вечер.
VI
Между бесконечной перепиской с чешским пройдохой Масариком, с польским «пся крев» Пилсудским, с каким-то фюрером-итальяшкой Муссолини, со своим давним другом Сиднеем Рейли и, конечно же, с сэром Уинстоном Черчиллем, – между всеми этими делами он вдруг подружился и с Карлом Гоппером. Тот был теперь военным министром Латвийского уезда, – так Савинков по-великороссийски и в глаза ему говорил, – карманным министром и одновременно парижским карманником. Если он, Савинков, выпрашивая деньги, знал, что за ним стоит великая, хоть и истекающая кровью, Россия, стоит его собственное громкое и для Европы имя, то что стояло за этим: Гоппер? О его ярославском геройстве знал разве что полковник Перхуров, – раненый, он всё-таки выбрался тогда из Казани и сейчас разделял участь всего заграничного офицерства. Ну, разве ещё сам Савинков. Кто ещё?.. К «независимости» Латгаллии даже ярые ненавистники России относились в лучшем случае со скучающим непониманием. Если посол борющейся с большевиками России деньги как-никак получал, если он гнал пароходами через Владивосток, Беломорье и Черноморье пушки, пулемёты и даже неповоротливые танки, если его рукой направляемые поезда с солдатским сукном и сапогами правили путь в Россию через Варшаву и ту же Ригу, – то что мог выпросить несчастный Карл Гоппер? Он прибегал в полной растерянности:
– Мне ничего не дают. Что делать, Борис Викторович?
– Снова проситься в состав России.
– Какой России?
– Нашей, Карл Иванович. Нашенской. Вы не задавали таких вопросов, когда доблестно воевали с большевиками в Ярославле.
– Другое время... Я полковник российского Генерального штаба – я считал своим долгом быть вместе со всем российским офицерством.
– А разве наше офицерство изменилось?
– Изменилось. Многие, даже прославленные, генералы перешли на сторону красных. Тот же Брусилов – он теперь призывает: «Родина в опасности! Все на защиту Москвы и Петрограда!» Он даже возглавляет какой-то большевистский «Союз офицеров». Что, и мне вступить в «Союз»?
– Вступить... только в «Союз» адмирала Колчака или генерала Деникина. Можно – и к генералу Юденичу, он поближе к вам. Хотя там – много шуму из ничего. Почему вы, «независимые прибалты», не поможете Юденичу с русским знаменем войти в Петроград?
– В том-то и дело – знамя русское.
– А латышей известный вам по Ярославлю полковник Геккер или ненавистный палач Петерс не пугает?
– У нас такая же Гражданская война, как и у вас.
– У вас, у нас! За то всех и бьют поочерёдно. Как в той известной опере: умри – «сегодня ты, а завтра я»!
– Какая опера, Борис Викторович? Оперетка.
– В самом деле. Что главное в оперетке?
– Девочки.
– Вот-вот, неисправимый вы ловелас.
– Будешь ловеласом, когда шляешься по Европам беспардонным попрошайкой.
– Ну, на девочек-то всё-таки найдётся. В одиннадцать ноль-ноль. – Савинков достал свой старый Серебряный брегет. – При полном мундире. Парижские девочки любят русских полковников. Надеюсь, вы не будете говорить им о «независимости»?
– Не буду, – посмеялся Карл Гоппер, отходчивая душа.
Себя-то Савинков знал: разговоры о девочках он заводил всего лишь для разрядки слишком натянутых нервов. Девочки ни чести, ни престижа ему не добавляли. Иное дело – аристократка Татьяна Леонтьева, «бомбистка» Дора Бриллиант или вдова его друга Зильберберга, да хоть и нынешняя дружья жена. Нет, и в былые времена он таскал по борделям людей вроде Левы Бронштейна, как и сейчас Карлушу Гоппера... Всё равно ведь и один пойдёт.
* * *
В назначенное время полковник Гоппер, в русском мундире и с солдатским Георгием на груди, прекрасно выбритый, надушенный, уже стоял в зале перед зеркалом.
– Жених во всем великолепии, – одобрил Савинков. – Но здешние девочки, как, впрочем, и петербургские, и рижские, смотрят не на Георгия...
– На что же?
– На это, – в правый карман прекрасно сшитого английского пиджака легло портмоне, а в левый – удобный аккуратный вальтер; браунинг ещё раньше сунул сзади за брючной ремень.
Смеясь, военный министр новоиспечённой Латгаллии ощупал свои карманы:
– Ну, правый у меня поскромнее, а левый тоже ничего. Я, как и вы, перешёл на немецкие наганы. Короткоствольные, плоские, удобные.
– В таком случае нечего терять время. К мадам Катрин!
Через своего гавроша он вызвал авто. Русского хмурого барина знали – машина не замедлила подрулить вплотную к дверям подъезда. Шофёр от усердия отдавил ноги зазевавшемуся швейцару. Но на такие мелочи здесь не обращали внимания.
Мадам Катрин была Катериной Ивановной. Из бесчисленного рода Голицыных, кажется. Она как-то проговорилась об этом, засмущалась и в своём смущении была просто неотразима. Савинков в расспросы не пускался – зачем? Он жил в Париже уже не первый месяц, он встретил здесь и очередной смутный год, и если чему удивлялся, так это живучести русских княгинь, – если Катерина Ивановна была всё же из княжеского рода. Иногда приходилось сомневаться – так расторопно вела свои дела. Всего за несколько месяцев, сняв для начала грязную и запущенную квартиру, прикупив затем ещё и соседскую, сумела организовать вполне приличный доходный бордельчик под скромненькой вывеской «Женский клуб». Ну, женский так женский. С полицией у неё были прекрасные отношения, но написать «Женский русский клуб» она всё же не решилась. Далеко не все французы понимали и принимали нынешних русских. Отсюда – и «мадам Катрин». В конце концов, не только же русские, выброшенные из России мужики выплакивали на женских грудях свои обиды – бывали и коренные Жаки-Жорезы. А выговор у мадам Катрин был вполне парижский, да и сама она выдалась смугловатой и поджарой. «Один из наших князей побаловался с цыганкой. Похожа?» – вот только в этом и обмолвилась она. Цыганка так цыганка. Княжна так княжна. Всё равно баба о сорока неполных лет. Неизвестно, услужала ли она сама в некоторых важных, исключительных случаях, например при визите начальника полиции или даже разгулявшегося министра, но в отношениях с ним, Савинковым, была более чем откровенна. У него ведь тоже был повод изливать молчаливые слёзы, – хмурый, сумрачный барин! – на роскошной женской груди, в этом мадам Катрин могла дать сто очков против парижанок.
Всё же афишировать свои симпатии перед министром Латвийского уезда Савинков не хотел. Деловито и отчуждённо, разумеется на французском, потребовал:
– Двух девочек, мадам. Симпатичных.
Девочки не замедлили явиться на зов хозяйки. Были они само собой русскими; само собой с французскими именами – Жаклин и Луиза.
Савинков жестом завсегдатая выбор предложил сделать другу-министру. Тот хоть и был где-то женатым, но в скитаниях по Европам, видно, проголодался, не стал привередничать, а просто выдернул за руку более упитанную Жаклин и отбыл в её служебный альков.
Не стоило подводить хозяйку перед её девочками – всё-таки легки на язык, как и на всё остальное. Он приобнял доставшуюся ему Луизу, тоже увёл следом по коридору. Расположение двух этих совмещённых квартир он знал хорошо. Друзья российские приезжали, варшавские и бог знает ещё какие.
Надо отдать должное мадам Катрин – содержала она своих девочек в чистоте и порядке. Кровать с белоснежными простынями, уже предупредительно раскрытая. Цветы на ночном столике. Бутылка вина и печенье на столе обеденном. Розовый халатец на вешалке, в который Луиза без лишних слов и облачилась. Да они и не говорили ничего – слова здесь недорого стоили, за слова посетители не платили. Единственное, что спросил Савинков:
– По-русски?
Луиза утвердительно кивнула.
– Откуда, если не секрет?
– Из Пскова.
– Значит, мы псковские?
Опять только кивок подвитой головки, надо сказать, совсем не дурной. Зря военный министр изголодавшейся Латгаллии поспешил броситься на толстушку.
– Да умеешь ли хоть ты говорить, дорогая?
– Умею. Я на Высших женских курсах училась.
– Бестужевка?
– Лучше сказать – бесстыдница, – впервые улыбнулась она, да так хорошо, что Савинков решил изменить своей приятельнице-хозяйке.
Он выпил вина и стал неторопливо раздеваться. Железо мешало, в эти минуты полузабытое. Браунинг даже брякнулся на пол.
– Я не ограблю вас. Сложите свою артиллерию... сюда хотя бы, – указала она на близкий подоконник.
Савинков поймал себя на мысли, что ему приятно повиноваться.
– Располагайтесь... пока... Я быстренько.
С чего-то поёживаясь, Луиза промела полами халатика до ширмы и скрылась за ней. Оставалось только удивляться: надо же, здесь ещё стесняются!
Вернулась враспашку, ко всему открыто готовая. Халатец ничего не скрывал, только подчёркивал алой прозрачностью какую-то скрытую обречённость.
– Мне за ночь полагается обслужить двух клиентов, – объяснила она свою расторопность.
– Полагается так полагается. Вторым тоже буду я.
Савинков никогда не увлекался борделями, имел в виду их про запас разве что для Бронштейнов да министров самостийных уездов, но тут было что-то и от увлечения. Он поцеловал, уже в кровати, молчаливо изготовившуюся Луизу и спросил:
– Вы чего-то боитесь?
– Да, – был скорый ответ.
– Я вправе спросить – чего?
– У меня первый рабочий день... ночь, вернее... Не удивляйтесь, в свои двадцать лет я всё ещё девочка. Мадам Катрин этого не знает. Пожалуй, она и на работу меня не взяла бы. Не выдавайте.
– Я, конечно, не выдам, – поразился Савинков непредвиденному случаю, – но я не хочу приобщать вас к лику падших женщин.
– Не вы, так другой. У меня нет выхода. Отца-подполковника застрелили в нашем имении у меня на глазах, мать изнасиловали, и она тут же повесилась. А я убежала... У меня быстрые ноги.
– Быстрые... о, господи. Значит, я?
– Не вы, так какой-нибудь пьяный русский купчик... прогнивший парижский Гобсек.
– Всё-то вы знаете!
– Говорю же, я бестужевка. Я много читала и размышляла о своей женской доле... Доля, нечего сказать, – она расплакалась.
Савинков вытер ей глаза подолом своей рубашки и, повеселев, сказал:
– Вы убедили меня. Не будем ханжить.
– Не будем. Делайте своё дело... поосторожнее, пожалуйста.
Савинков знал, что при всей зачерствелости души он будет мучиться угрызениями совести. Но не бежать же от такого сладкого греха?
Почему-то вспомнилась первая любовь, первая жена, Вера Глебовна, – он даже не знал, где она сейчас обретается, – и те давние очень похожие слова: «Не делай мне больно, я боли боюсь».
Боль! Всё это пустое. Боль тела проходит – остаётся только боль души, уже основательно захламлённой, и с этим не удастся справиться даже ему, человеку твёрдокаменному, как утверждают доброхоты...
Утром он одевался не без сожаления. На него смотрели детские, – как он этого раньше не заметил? – но счастливые глаза. Украдкой подсунул под вазу с цветами немного денег. Но взгляд Луизы остановил его руку:
– Мадам Катрин запрещает самим принимать плату.
– Это не плата, Луиза... это чёрт знает что! – застигнутый на добром жесте, всё же не остановился он. – Прощайте – пока. Мы ещё свидимся.
Не успел он выйти и осмотреть себя в большое коридорное зеркало, как к нему навстречу выскочила мадам Катрин. Но что с ней стало!
– Надеюсь, сыты-сытнехоньки? – как с горы, осыпала его бешеным каменьем.
– Сытёхонек, мадам, – парировал он.
– Я всё слышала. Ах, прохвостка! Ах, целочка-пострелочка! Как меня вокруг жопы обвела!.. Поди, ещё и восемнадцати-то нет? Отвечай за неё.
– Ну, княжна, ну, соглядательница! Вам бы в полиции работать.
– Работала, пока была полиция. Сейчас устраиваю свою личную жизнь. Вероятно, вы устали, вам не до меня.
– Устал, верно, – взял Савинков в прихожей пальто и шляпу. – Мой друг уже отработался?
– С ним отработали, как надо. Без затей и церемоний.
– Вот и прекрасно. – Он положил плату в приготовленную для того хрустальную вазу. – Надеюсь, вы не станете из ревности отыгрываться на бедной Луизе?
– Не стану. Я просто вышвырну её на улицу.
– А вот этого не следует делать, – сказал Савинков, плохо веря в действенность своих слов.
Улица встретила его дождём и снегом. Он представил, каково-то будет бестужевке на зимней, слякотной парижской улице, и крепче надвинул шляпу на глаза. Мало холод, так ещё и ветер сумасшедший.
Из снежно-дождевой замяти проглянула полуживая женская тень:
– Мосье, со мной вы будете довольны.
Выговор был ужасный, рязанско-вологодский.
Он сунул ей, что попало под руку, и скорым шагом пошёл в гостиницу. На авто сейчас нельзя было рассчитывать.
Начиналось утро. Серое, как сами промокшие дома. Каким-то будет очередной день?..








