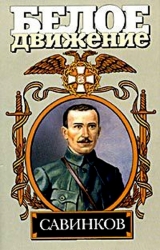
Текст книги "Генерал террора"
Автор книги: Аркадий Савеличев
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 32 (всего у книги 35 страниц)
VII
Все эти зимние месяцы он болтался между Парижем и Лондоном, между Варшавой и Прагой, Римом и Берлином, постоянно возвращаясь всё-таки в Париж. Здесь – центр Европы; отсюда близко до любой столицы... исключая, конечно, Петроград и Москву. Но что Москва – каждый российский городишко теперь мог стать столицей; в Омске адмирал Колчак, как-никак верховный правитель России, от имени которого он и мотался по Европам. Но негласно – и от имени генерала Деникина, который своей южной столицей выбирал то Ростов, то Екатеринодар, то Новороссийск, а то и затюханную станицу Тихорецкую. Был где-то со своей чухонской ставкой генерал Юденич. Был ещё один адмирал – барон Врангель, пока что отогревался в благословенном Крыму... Был даже какой-то «батька Махно», этот все свои ежедневно меняющиеся столицы возил на пулемётной тачанке!.. Была ещё и Одесса; о неё все, кому не лень, вытирали ноги. Не говоря уже о Варшаве; там-то как раз и собирались прежние други-приятели, болтуны несчастные! Будто не знают: поляки не прочь покричать на своих подбитых голодным ветром площадях, но палец о палец не ударят, чтобы помочь российскому воинству. В Варшаву, чувствуя близость его, Савинкова, перебирались и Чернов, и Авксентьев, и Философов, и, конечно же, братик-нахлебник Виктор. От старшего брата ему перепадало, а чем платить? Скандалами! Да всё той же болтовнёй, под векселя изнемогшего уже от долгов Бориса. Савинков никогда не смешивал свои и заёмные деньги, но как не порадеть родному человечку?
Была ещё и сестра Вера в Праге. Она тоже помоталась по европейским градам и весям, прежде чем Прага стала её пристанищем.
Вера – хранительница семейного очага Савинковых. После лондонских унижений самое время зализать раны... хотя какое там – плевки!
Спрашивает осторожно:
– Ну, как там поживает сэр Уинстон Черчилль?
Знает, что брату нечего отвечать, что брат там больше месяца не бывал, – спрашивает ради красного словца. В этой европейской сумятице даже военный министр Англии может подавиться своей сигарой. Савинков по-настоящему ценил и уважал – да, уважал! – Черчилля, а смог получить от него немного. И это при всём при том, что телеграммы верховного правителя криком кричали: «Пушек! Пулемётов! Сапог! Шинелей!..» Но добропорядочный англичанин и своему министру ни фунта не даст, если не почувствует наварных процентов. Кто может эти проценты гарантировать? Генерал Деникин ближе адмирала, но и его письма криком исходили. Хитромудрый Черчилль не зря же в своих разговорах как бы ненароком подсовывал депеши Деникина; русский генерал очень искренне отзывался о начальнике английской военной миссии:
«Генерал Хольман вкладывал все свои силы и душу в дело помощи нам. Он отлично принимал участие с английскими техническими частями на Донецком фронте;
со всей энергией добивался усиления и упорядочения материальной помощи; содействовал организации Феодосийской базы, непосредственно влияя и на французов. Ген. Хольман силой британского авторитета поддерживал южную власть в распре её с казачеством и делал попытки влиять на поднятие казачьего настроения. Он отождествлял наши интересы со своими, горячо принимал к сердцу наши беды и работал, не теряя надежд и энергии, до последнего дня, представляя резкий контраст со многими русскими деятелями, потерявшими уже сердце.
Трогательное внимание проявлял они в личных отношениях ко мне...»
Не отвечая сестре, Савинков перебрасывался мыслью из Лондона в Новороссийск – и обратно. Было очевидно, что сэр Уинстон Черчилль готов сделать больше, гораздо больше, но ведь там в непонятных россиянам парламентах бьют и его любимого генерала – Хольмана.
– Его смещение с должности предрешено. Как вам это нравится, господин Савинков?
– Мне это совсем не нравится, сэр.
И после затяжного молчания, нарушаемого выхлопами сигары:
– Ещё меньше нравится генералу Деникину.
Тайные депеши поступали и непосредственно к Савинкову. Если генерал Деникин, не отличавшийся лестью, так льстил англичанам, значит, положение критическое. Верховный правитель и правитель Юга разъединены громадными пространствами России. На востоке наивным было полагаться на японцев – на западе не могли положиться и на англичан. Если военный министр не может сладить с парламентскими болтунами, как можно наладить дело с истинно российскими пустобрёхами? Генерала Хольмана обвинили в связях с большевиками; генерала Деникина в конце концов принудили сдать командование барону Врангелю, покинуть Россию и взращённую им Добровольческую армию.
– Это катастрофа, сэр. Верховный правитель адмирал Колчак не сможет прийти на помощь нашему многострадальному Югу.
– Вы правы, господин Савинков. Помогаем всё-таки мы, англичане. Вы не знакомы с донесениями генерала Деникина?
Савинков на память знал эти донесения, но промолчал, выторговывая для России что-то неясное ему самому. В голове, как на телеграфной ленте, стучали слова генерала Деникина:
«Узнав о прибытии главнокомандующего на востоке ген. Мильна и английской эскадры адм. Сеймура в Новороссийск, я... заехал в поезд ген. Хольмана, где встретил и обоих английских начальников. Очертив им общую обстановку и указав возможность катастрофического падения обороны Новороссийска, я просил о содействии эвакуации английским флотом. Встретил сочувствие и готовность».
– Разве этого мало, господин Савинков?
– Это много, сэр... так много, что Россия может оказаться на дне Чёрного моря.
В таком английском духе с Уинстоном Черчиллем иностранные послы никогда не говорили.
Отсюда и характеристика – уже явно в русском духе:
– Он сочетал в себе мудрость государственного деятеля, отвагу героя и стойкость мученика.
Савинков не помнил, чтобы сэр Уинстон Черчилль в глаза говорил ему нечто подобное. Но газеты – писали. Газеты, передавая беседы военного министра с послом «всея Руси», могли врать сколько угодно, однако же знали меру. С Черчиллем шутки плохи. Его можно было и разозлить. Впрочем, и Савинков злился, отбрасывая газету с собственным словесным портретом: «Человек с серо-зелёными глазами, выделяющимися на смертельно бледном лице, с тихим голосом, почти беззвучным. Лицо Савинкова изрезано морщинами, непроницаемый взгляд временами зажигается, но в общем кажется каким-то отчуждённым».
Ох уж этот «беззвучный голос»! Слышал бы сэр Уинстон Черчилль, как он кричал когда-то на Керенского... где-то сейчас этот несчастный морфинист, доведший Россию до самоубийства?..
Гораздо ближе к истине: «Странный и зловещий человек!»
Ну как не быть странным? С зубовным скрежетом вспоминается последнее свидание с Черчиллем. В который уже раз – просьба денег, оружия. Кивок головы, сигара; оскорбительно длинная пауза и опять ненавистная сигара. Пожалуй, она и существует для того, чтобы довести собеседника до белого каления. С Савинковым этот номер не проходит; белое на обелённом лице не раскаляется. Черчилль вскакивает с кресла и нависает над картой грозной тушей; показывая расположение войск Деникина и Юденича, с неподражаемым английским снобизмом пыхтит:
– Господин Савинков, вы говорите – ваши армии? Нет, говорю я, – мои.
После этого остаётся только раскланяться:
– Прощайте, сэр. Простите, что отнял драгоценное время... так необходимое для ваших собственных армий.
Дал слово – больше ни ногой к этому истребителю гаванских сигар... и всё-таки послал по своим следам Деренталя...
Оскорблённое самолюбие мешало обивать пороги великолепной виллы великолепного толстяка... но другого такого человека в Европе не было. Пускай Саша Деренталь расхлёбывает ненужную горячность своего шефа. Всё равно день и ночь стучит в мозгах телеграфная лента: «Пушек! Пулемётов! Сапог!..»
– Вера, ты приехала не для того, чтобы выслушивать мои мысли о Черчилле.
Она замялась в нерешительности.
– Говори, Вера.
Да, ей надо было говорить.
– Боря, нас стало ещё меньше...
– Кто?! Братец-балбес?..
– Надежда...
Вера рассказывала – он почти не слушал. Он знал, как это бывает... как было и в этом случае... Бедная сестрица!
Перебралась через кровавую границу Вера, перебежал-перелетел бодрым петушком младший братик, Виктор; он сам, хоть и через Токио, добрался до Парижа, а баронесса Надежда Викторовна фон Майдель вместе с мужем застряла в Таганроге. Судьба?! Барон фон Майдель был единственным офицером гвардейской части, который отказался выполнить приказ – дать команду стрелять в безоружных рабочих, шедших к Зимнему дворцу 9 января 1905 года. Да – судьба! Он тогда много потерял в своей офицерской чести; он, как говорится, пострадал от власть предержащих. И вот его самого, захваченного, кстати, без оружия, предержащая ныне власть без дальних разговоров поставила к стенке. Вместе с женой, ни в чём не повинной...
Савинков молча налил вина, сказал единственное:
– Помянем убиенных.
Вот чего ему не хватало все эти дни: какого-то очередного толчка, – нет, прямого удара в грудь, штыком навылет...
И мысль, давно обдиравшая его душу, вдруг прояснилась:
– Вера, я еду к Муссолини.
– Фаши-исту?!
Как ни больна была семейная рана, но удивление оказалось сильнее.
– Да, Муссолини. Итальянский дуче. Может, у него то же самое в душе!
– Неужели ты опустишься до этого?..
– Опущусь ли, поднимусь ли – я так решил. России нужен свой дуче. Кто – кроме Савинкова?!
Французы погрязли в болтовне. Англичане – торгаши, и даже сам Черчилль ничего с этим не может поделать. Остальные? Чехи, поляки? Ну, это такая мелочь, что и во внимание принимать не стоит. Немцы? Они наклали в штаны от собственных революций... Японцы? Со всем своим азиатским самурайством не осилят просторов России...
– Кто?!
Вера хорошо знала брата: он задаёт вопросы не ей, а самому себе.
– Я спущусь в ресторан и закажу поминальный пирог. Прослежу, чтобы хорошо испекли.
Савинков кивнул, опять погружаясь в свои мысли. Муссолини?
Именно с этим тревожным вопросом он и послал своего «министра иностранных дел», то есть Сашу Деренталя, в Лондон, в скучный и лживый Лондон. Пусть позлит ожиревшего сэра Уинстона Черчилля. По возможности, и многих других. Вопросы о Муссолини англичанам слушать неприятно. Но что же вы хотите, ожиревшие торгаши? Кроме «фашиста Муссолини», как вы бесцеремонно его зовёте, с заразой большевизма бороться некому. Зараза эта поразит и Францию, и Англию, не обольщайтесь.
«Да-да... сэры и сэрихи!» – не удержался он от вульгарного сарказма. Так и было наказано Деренталю – разговаривать без церемоний. Злить! Выбивать из них снобистскую пыль!
Замок повернули собственным ключом, без звонка. Савинков привычным движением сунул руку под газету. В этой проклятой жизни всего можно ожидать. Браунинг, вальтер – что-то же должно быть всегда под рукой.
Но из прихожей послышался охрипший голос Деренталя:
– Борис Викторович, обождите стрелять. Я ещё не дал отчёта...
Деренталь сбросил промокший плащ, не здороваясь прошёл к столу, налил вина. Только выпив, подал руку:
– Извините. Известия скверные.
– Других и не ждал. Рассказывайте.
– Что рассказывать?..
Англия давно уже была поражена политикой. Все, кто мог, пинали Черчилля и иже с ним. Лейбористы рвались к власти, как бешеные псы. Пахло падалью. Там вовсю склоняют фамилию Савинкова. Ка-ак это посмел Черчилль давать деньги такому авантюристу?! Деренталю ни с кем не удалось встретиться. Все заметали следы. Не говоря уже о самом Черчилле, даже Рейли избегал встреч. Когда Деренталь звонил по знакомым, давно пристрелянным номерам, на других концах проводов отвечали, что никакого Савинкова не знают... кончайте хулиганить, иначе сейчас сообщим в полицию! Ай да англичане, спасители России...
Пока – все спасают сами себя. Даже друг Рейли, бесстрашный Рейли. А это означает – конец консерваторам... и конец всяким сношениям с ними. Баста!
– Англия – потерянная шлюха...
– Как наша любимая княжна?.. – нашёл ещё в себе силы пошутить Савинков.
– A-а, мадам Катрин всё-таки лучше, – понял его Деренталь. – Шлюха, но ведь...
– О каких шлюхах вы говорите? – в сопровождении официанта вошла Вера.
Деренталь поцеловал у неё руку и на правах члена семьи фамильярно вопросил:
– По какому случаю празднество?
Савинков переглянулся с сестрой и коротко отрезал:
– Перестаньте, Александр Аркадьевич.
Деренталь хорошо изучил своего шефа – не зря нервничает. Ничего выспрашивать не стал. А парижских официантов не надо было учить молчанию – сделав своё дело, официант проворнее обычного ретировался за дверь.
Только тогда Савинков и сказал:
– Чекистами убита наша старшая сестра. Надежда. Вместе со своим мужем бароном фон Майделем.
– Где?..
– В Таганроге. Какое это имеет значение!
Тон означал всё то же: конец расспросам...
Вера успела даже прихватить где-то поминальные свечи. Толстые, витые чёрной оплёткой. Свечи горели в этом парижском гостиничном номере, как поминальный огонь по самой России.
Когда вошла в номер Любовь Ефимовна – а что же могло обойтись без неё? – то всё поняла без слов и молча присела к столу. Всё же какое-то время спустя не утерпела:
– Борис Викторович, я с улицы, там опять эта ваша пассия...
Савинков позвонил привратнику и коротко велел:
– Пропустите женщину по имени Луиза.
Она вошла в сопровождении горничной. С плащика стекала вода, от ботинок по паркету и дальше, по ковру, растекались грязные лужи.
В пику ли Любови Ефимовне, себе ли, российской ли судьбинушке, Савинков встал, поцеловал Луизе закоченелую руку и провёл к столу.
– Мы поминаем, Луиза, Россию. Садитесь. Не стесняйтесь.
Она едва ли ела в этот день. Дрожащей рукой схватила протянутый бокал, залпом опрокинула и жадно набросилась на еду.
Слёзы, которые текли из её глаз, были слезами самой России.
Так казалось. Да так оно и было.
ЭПИЛОГ НЕПРОЖИТОЙ ЖИЗНИ,
ПРОЛОГ НЕУЗНАННОЙ СМЕРТИ
I
 пять этот сон – тюрьма...
пять этот сон – тюрьма...
Странная тюрьма, если оглядеться вокруг. Кровать просторна и удобна, с неё всё видно как на ладони. Мягкий, даже на глаз, ковёр – во всю ширь чистой, светлой комнаты; не разберёшь, что под ним – паркет, доски, камень?.. Нет, такой шикарный ковёр на камни не стелют. От кровати он манит к буфету – опохмелиться, что ли? – от буфета к дивану, поваляться ещё в предвкушении завтрака. Но завтракать не хочется – хочется сесть к письменному столу и написать утреннее письмо – кому? Любови Ефимовне, разумеется. Письма любимой женщине как раз и пишутся по утрам. Значит, встать – и к столу; он напротив кровати, у окна, широкого и светлого. Хотя что это там – решётка? Вполне похоже, вполне логично: в тюрьме должны быть решётки. От этой мысли дрожь пробежала по телу. Решётки он не любил. Вздохнулось только тогда, когда решётка обернулась переплетением ветвей старого вяза. Толстых чёрных ветвей, которые, тем не менее, успели уже выбросить яркие листья. Конец апреля как-никак, пора. Дерево знает свой срок... в отличие от человека, да?.. Что-то нехорошее шевельнулось в этом вечном вопросе. А зря. Наша жизнь пишется на небесах. Зелёное на чёрном; чёрное на фоне дальнего, глубокого неба. Прелесть!
Самому удивительно: Савинков впадает в сантименты...
Что же он напишет в такое прекрасное весеннее утро?
«Здравствуй, милая, бесценная Люба...»
Фу, как вульгарно! Савинков никогда не опускался до пошлых сантиментов. Женщину надо любить без слов, взглядами и жестами. Недавно он в каком-то журнале прочитал самого безалаберного, наверно, поэта России, тот оригинально признавался: «О любви в словах не говорят, о любви вздыхают лишь украдкой, да глаза, как яхонты, горят».
Висевшее над умывальником зеркало никаких яхонтов не отразило, но думать о вечно пьяном поэте было приятно. Ропшин на кровать присел, в бок лукаво подтолкнул. Ропшин ещё худо-бедно терпел поэтов, потому что тем же самым грешил; Савинков в последние годы их на дух не подпускал. Хотя этот пьяница и распутник правильно сказал: не надо слов, не надо.
Да, но письмо?.. Писем без слов не бывает.
«Я никогда вас не любил... Любовь Ефимовна, а жить без вас не могу...»
Вот это уже лучше, хотя и непонятно. Впрочем, кто же и чего же понимает в любви?
Какая любовь – в сути тюрьмы не разобраться!
Пока обличал своё тупоумие, вошёл молодцеватый, крепкий армеец, объявил:
– Подъем. Оправиться. Умыться. Привести себя в надлежащий вид. В девять – к товарищу Дзержинскому. Разговор лучше вести позавтракавши.
Он совсем не по-служебному улыбнулся и вышел.
Тогда Савинков от ночных видений и перешёл окончательно к дневным заботам. Ведь и в самом деле – тюрьма-матушка!
Всё так, как и в частых прежних видениях, и даже лучше. В отличие от завшивевших камер, здесь был железный, эмалированный умывальник. Не хватало только горячей воды! Прекрасно освежала и холодная, единственное неудобство – бритье. Но добрые люди толк в тюремной жизни понимали – тот же бравый армеец принёс пышущий жаром чайник:
– Для чая, но хватит и для бритья. Я позвал парикмахера.
– Не зарежет?
Ответить армеец не успел – вошёл со своим прибором хорошо знакомый уже парикмахер. Тоже кое-что прознал о товарище Дзержинском, потому что пообещал:
– Сегодня я представлю вас в лучшем виде.
И верно, представил. Настенное зеркало отразило хоть и бледное, усталое, но вполне приличное лицо. С таким лицом не стыдно и товарищу Дзержинскому показаться.
Случайно ли, нет ли, и завтрак был отменный. Зелёный лучок под сметанкой, гречневая каша с мясной подливкой, хорошо заваренный чай, ломоть булки с заранее намазанным маслом. Нож давать опасаются – тюрьма всё-таки!
Савинков с удовольствием отметил эту предусмотрительность. Порядок он любил.
Курить не воспрещалось; правда, любимых сигар не удавалось выпросить – «гвоздиками» фабрики «Дукат» приходилось довольствоваться. Спасибо и на том. Он покурил и посидел в полном бездумье за письменным столом, прежде чем услужливый армеец объявил:
– На выход.
Повели его другие, незнакомые. Как положено, двое. Не дожидаясь приказания, Савинков привычно скрестил за спиной руки. Слава богу, с гимназических лет известная посадка спины. И в Варшаве, и в Петербурге, и в Вологде, и в Севастополе. Одно и то же: «Руки за спину!»
Идти было недалеко. Не в собственный же кабинет товарища Дзержинского, – видимо, к начальнику тюрьмы или какому-нибудь важному следователю. Обстановка располагала к неторопливой беседе. Принесли даже чай. Дзержинский, отхлебнув из стакана пару раз, пригласил к разговору:
– Начнём, Борис Викторович. Мы ведь с вами, кажется, немного погрешили в Польше?
– Надеюсь, Феликс Эдмундович знает мою биографию лучше меня самого, – внутренне напрягся Савинков, отодвигая свой подстаканник.
Дзержинский кивнул утвердительно:
– Да, это не допрос. Всё, что нужно, вы уже сказали. Что не досказали – мы дознались сами. Я хочу понять, насколько вы искренни. Говорят, вы и в тюрьме пишете. Бумага? Чернила?..
– Благодарю, мне ни в чём не отказывают. Я действительно пишу... как бы это сказать – брошюру, что ли. Некая исповедь. Под условным названием: «Почему я признал Советскую власть?» Рад буду подарить... с тюремным автографом!
Дзержинский чуть заметно улыбнулся.
– Одни объясняют моё признание неискренностью, другие – авантюризмом, третьи – желанием спасти свою жизнь. Эти соображения были мне чужды. Когда меня арестовали, я был уверен, что может быть только два исхода. Первый, почти несомненный, – меня поставят к стене. Второй – мне поверят и, поверив, дадут работу. Третий исход, то есть тюремное заключение, казался мне исключённым: преступления, которые я совершил, не могут караться тюрьмой, «исправлять» же меня не нужно – меня исправила жизнь.
– Недостаточно разочароваться в белых или зелёных, надо ещё понять и оценить красных.
– Я многое передумал в тюрьме и, мне не стыдно сказать, многому научился. Если вы, гражданин Дзержинский, верите мне, освободите меня и дайте работу, всё равно какую, пусть самую подчинённую. Может быть, и я пригожусь. Ведь когда-то я был подпольщиком и боролся за революцию.
– Да. Но непреложность наказания за преступление существует не только у большевиков. В вашей любимой Франции! В Англии!.. Смотрите, что пишут о вас англичане? Хотя бы ваш добрый знакомый Сомерсет Моэм. – Он пошуршал явно застарелой, ломкой газетой. – «Берегитесь, на вас глядит то, чего опасались древние римляне: на вас глядит рок».
– Согласен с вами, гражданин Дзержинский, – Савинков снова с нажимом сказал два последних слова, чтобы его не заподозрили в фамильярности. – Рок! Судьба, то бишь. А от судьбы, как от тюрьмы, не отказываются. Что делать – посидим! Спешить мне некуда. Но я знаю, что вы-то очень занятой человек...
– К сожалению... и не без вашей помощи, Борис Викторович. – И Дзержинский не случайно же по имени-отчеству обращался. – Я подумаю над вашим предложением – работать вместе с нами. Но – не торопитесь к нашей скромной зарплате. О свободе вы заговорили рано... Есть вопросы?
– Нет больше вопросов, Феликс Эдмундович, – всё-таки не устоял Савинков, снова по-человечески обратился к этому железному, неулыбчивому человеку. – Разрешите отбыть... домой?..
Тут без улыбки обойтись было нельзя. Савинкову даже показалось, что «Железный Феликс» сейчас протянет ему руку на прощание... Но тот лишь одобрительно кивнул.
Как из-под земли – те же двое. Да, «домой»...
На письменном столе лежала кипа пропылённой бумаги. Давно не брался за перо. Но обещание, данное Дзержинскому, надо было выполнять. В самом деле, почему он признал Советскую власть?..
«Я боролся с большевиками с октября 1917 г. Мне пришлось быть в первом бою, у Пулкова...»
Да, вместе с генералом Красновым и его отчаянными казаками. Может быть, они и взяли бы тогда Петроград, если бы не путался под ногами Керенский...
«...и в последнем, у Мозыря...»
А это уже в 1920-м, во время польского наступления. Русские офицеры из вновь восстановленного «Союза защиты Родины и Свободы» не могли и на чужбине остаться в стороне. Все, кто уцелел после Рыбинска и Ярославля, Казани и Уфы, встали под его, Савинкова, знамёна. Но самое лучшее знамя не заменит пушек и пулемётов...
«...Мне пришлось участвовать в белом движении, а также в зелёном...»
Леса, болота, затерянные в дебрях хутора. Они тогда с полковником Сержем Павловским славно погуляли! Даже околачивавшийся без дела Сидней Рейли за компанию сел в седло. Полесье! Минская губерния! Витебская! Псковская! Вон как их далеко заносило...
«После октябрьского переворота многие думали, что обязанность каждого русского бороться с большевиками. Почему? Потому что большевики разогнали Учредительное собрание, потому что они заключили мир, потому что, свергнув Временное правительство, они расчистили дорогу для монархистов; потому что, расстреливая, убивая и «грабя награбленное», они проявили неслыханную жестокость. На белой стороне честность, верность России, порядок и уважение к закону, на красной – измена, буйство, обман и пренебрежение к элементарным правам человека».
Ему здесь захотелось остановиться. Замереть. Забыть... и не вспоминать! Расстреливали, убивали и грабили не только большевики. Ведь каждому ясно, что и они не были «рыцарями в белых одеждах»...
«Мы верили, что русский народ, рабочие и крестьяне, с нами — с интеллигентской или, как принято говорить, мелкобуржуазною демократией. В этой вере было оправдание нашей борьбы... Что же? Не испугаемся правды. Пора оставить миф о белом яблоке с кроёною оболочкой. Яблоко красно внутри. Старое умерло. Народилась новая жизнь...»
Семь лет – каких семь лет! Сломлены не только физически – проклятой эмиграцией, но и душевно; нет больше веры в своей правоте. Встаёт гибельный вопрос: в чём причина?..
«Многое для меня было ясно ещё за границей. Но только здесь, в России, убедившись собственными глазами, что нельзя и не надо бороться, я окончательно отрешился от своего заблуждения. И я знаю, что я не один. Не я один, в глубине души, признал Советскую власть. Но я сказал это вслух, а другие молчат...»
Писалось плохо. Любовь Ефимовна мешала – да, она, Люба.
Всё повторялось, как в прежней Москве, как всегда с этой бесподобной мужней женщиной. Разве что Саши Деренталя и не хватало; но голос его, пьяненький и добродушно-ленивый, всё равно проникал за эти стены. Знал ведь Савинков, что Деренталя давно и как-то странно выпустили из Лубянки на вольные хлеба, а вот поди ж ты, оглядывался:
– Александр Аркадьевич, я с вашей женой любовью занимаюсь. Хоть возмутитесь... хоть на дуэль!..
Ответ совсем простой и ленивый:
– Она сама обратно в тюрьму просилась. К вам, к вам, Борис Викторович.
– Да кто же просится в тюрьму?
– Да вот просятся... жена моя хотя бы! По паспорту – всё ещё жена. Что я могу поделать? Выпить разве...
– Выпить – это дело. Большое государственное дело. Как говорил один мой приятель, ротмистр... царство ему небесное: «Мы Россию никому не отдадим – мы Россию сами пропьём... вместе с красными заодно»... Каково?
– То же могут сказать и красные: «Мы Россию сами пропьём... вместе с белыми заодно!» С нами, Борис Викторович, с нами.
– Тогда я чокаюсь с красным армейцем. Знаешь, какие у меня тут молодцы? У-у, не убежишь! Да и зачем мне бежать от твоей милой жены, от такой вальяжной кровати, от коньяка, от таких славных красных армейцев. Чокнемся? За здоровье Саши Деренталя и за твоё здоровье, товарищ Иванов!.. Слышу, слышу – мне возражают: «Не Иванов я – Сидоров. Да и пить нам на посту не позволено» . Вот так. А мне всё позволяется. Даже спать на широченной, вальяжной кровати – где они и кровать такую генеральскую взяли? – спать в обнимку с твоей женой. Прекрасна жизнь, Александр Аркадьевич! Прекрасна.
Нет, Савинков никогда не пьянел. Савинков мог пить ночь напролёт, а теперь так и особенно. Не всё же любовью заниматься. Хотя как в прежней Москве бывало – тот же задорный голосок:
– ...вы слышите меня, Борис Викторович, вы слышите?!
– Я слышу вас, Любовь Ефимовна, я слышу.
– А если слышите, так почему не поцелуете?
– А потому, что уважаю мужскую дружбу Александра Аркадьевича. И потом, у него печень. Печень, Любовь Ефимовна!
Издалека сквозь тюремные стены доносится ответ легкомысленно покладистого Саши Деренталя:
– Не надо церемоний, друзья мои. Не надо, Люба. Не надо, дорогой Борис Викторович. Ради бога, целуйтесь. Мы ж с вами социалисты. Общественная собственность, социальное братство... ведь так?
– Так, Саша, так, – ответила за Савинкова Любовь Ефимовна, ответила, может быть, слишком звучно и открыто, – потише бы надо, потише...
На пороге вырос армеец:
– Вам приказано – только ночью.
– А если невтерпёж, дорогой товарищ Сидоров?..
– Не Сидоров я – Иванов.
– Какие вы все похожие! Извини.
Красный армеец скрылся за дверью. А вместо него, как сквозь стену, вошёл старый пройдоха Блюмкин. Савинков протёр глаза:
– Неужели я пьян? Блюмкин? Я же приказал не пускать тебя!
– Здесь приказывать могу только я... и разрешать вам, уважаемый Борис Викторович, заниматься любовью, пьянством и всяким другим несущественным делом, которое не мешает рабоче-крестьянской власти.
Блюмкин походкой хозяина подошёл к буфету, погремел одной бутылкой, другой, коньяк отринул и налил «Смирновки» – две рюмки, конечно.
– За нас. За славных террористов!
Савинков знал, что от него и на этот раз не отвязаться. Он презирал своё нынешнее безволие, но безропотно чокнулся с человеком, которому раньше никогда бы руки не подал.
– Пусть дама погуляет во внутреннем садике...
– ...тюремном?
– Ну, разумеется, Борис Викторович. Разговор у нас недолгий, мужской. А дело идёт к вечеру. Не тащиться же ей через весь город опять к вам. Да и часовые могут обидеться – вдруг не пустят?
Савинков удручённо глянул на Любовь Ефимовну, сидевшую на краешке кровати:
– Люба...
Она фыркнула, но тоже безропотно, как и всё тут делалось, вышла за дверь. Славная дверь была – открывалась и закрывалась по какой-то внутренней бессловесной команде.
– О чём же со мной на этот раз хочет говорить убийца посла Мирбаха? Насколько я понимаю, никаких официальных постов ты, пройдоха, не занимаешь, и тем не менее чекисты ценят тебя и позволяют делать то, чего не может делать даже товарищ Дзержинский?
Блюмкин выслушал эту гневную тираду с невозмутимым спокойствием:
– Товарищ Дзержинский – большой человек, грязными делами ему не с руки заниматься, а нам с вами...
– Во-он! – грохнул Савинков о стол ненавистной бутылкой.
На грохот просунулась голова армейца, – то ли Сидорова, то ли Иванова, кто их разберёт, – помаячила секунду-другую в дверном створе, но ничего существенного в этом грохоте не нашла. Блюмкин заявлялся сюда не впервые, и всегда в присутствии Любови Ефимовны. Цель нехитрая: довести несговорчивого посидельца до белого каления, чтобы легче было с ним разговаривать. И дальняя цель прояснялась: стать то ли начальником, то ли подчинённым – какая разница?
Через пять минут Блюмкин как ни в чём не бывало и вернулся.
– Ну-ну, сбили нервы, и хватит. Чего нам делить, Борис Викторович?
Савинков всегда трезвел в присутствии Блюмкина. Он за свою жизнь знал подсадных уток, знал провокаторов, инспираторов, и прочих, и прочих, но Блюмкин не походил на них; тот, кто в критические для большевиков дни восемнадцатого года взял на себя ответственность за убийство германского посла графа Мирбаха, на простого исполнителя не походил. Савинков жалел, что тогда, зимой восемнадцатого года, на Мясницкой не побратался со своим браунингом... жалел искренне, профессионально. Разряди он свой браунинг – может, и не пролились бы реки никчёмной крови... Чего сейчас хочет этот безродный, воскресший авантюрист?
Живуч, живуч, в этом ему не откажешь.
Когда он с поручиком Патиным и корнетом Заборовским охотился за секретной «тройкой» Чека, готовившей убийство в Вологде иностранных послов, то посчитал Блюмкина убитым. Прямой выстрел. Швырок под откос поезда. Мандат, наконец. Кровь на рыбацком балахоне... Но ведь как с гуся вода!
– Меня и ранило-то всего ничего. Я в памяти был, я слышал, как вы меня обыскивали. Что, провёл вас за нос?..
– Славно провёл, пройдоха!
– Вот-вот. Цените мою незлобивость.
– Да ведь всё равно, поди, пулю отливаешь?
– Зачем? Нам вместе жить, вместе работать.
– Яснее! Не понимаю иносказаний.
– Понима-ате, Борис Викторович, понимаете.
– Но толку-то от меня? Хотя бы для Чека?..
– Мы славные ребятки! Мы стрелянные. Вы да я... хоть песенка-то всё же моя...
– Мне в детстве слон на уши наступил. Не понимаю!
Хитрил «Генерал террора», хитрил.








