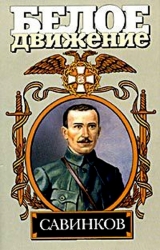
Текст книги "Генерал террора"
Автор книги: Аркадий Савеличев
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 35 страниц)
IV
Савинкову предстоял визит к Плеханову.
Именно визит – ибо это, несмотря на всё большевистское засилье, и не могло быть ничем иным. Светская согласованность, церемонная вежливость, педантичность и вообще вся внешняя сторона дела были не чужды корифею-социалисту. Плеханов не любил наездов, наскоков, бесцеремонных вторжений; ему следовало прежде «протелефонировать» и самым почтительным тоном попросить: «Георгий Валентинович, соблаговолите меня принять по очень важному делу». И только после того, после старческого хмыканья и раздумья, – хоть не был он очень стар, – уже получив согласие, приезжать в установленный день и час, и чтобы минута в минуту. Да хорошо бы и с цветами – с алой гвоздикой лучше всего.
Георгий Валентинович уважал партийную символику. При этой мысли Савинков и сам на его манер хмыкнул: «Гвоздика!» Он имел при себе только тяжёлый военный наган, привычный кольт и полушубок – вещи, совершенно не совместимые со взглядами старого социалиста. Но приходилось учитывать эти внешние досадные наслоения. Он прежде всего отказался от нагана, решив обойтись одним кольтом, потом и от полушубка, заменив его железнодорожной шинелью и чёрной, видавшей виды, но по-своему изящной фуражкой. После полушубков и шапок сегодняшний камуфляж ему понравился. Да всё же и некоторая безопасность: ехать до Царского Села, где последнее время жил Плеханов, приходилось по железной дороге. Соответственно и документы: от «Викжеля» – неуправляемого, строптивого профсоюза, но всё-таки сотрудничавшего с большевиками. Большевики вынуждены были признавать «Викжель» – этот закоснелый, по их взглядам, профсоюз, рассадник старой буржуазии и контрреволюции. Что делать, управлять паровозами, тем более целыми дорогами, они не умели.
Савинков одёрнул железнодорожную шинель: «Викжель» так «Викжель». Иду на красный. Других светофоров нет».
Флегонта Клепикова, как тот ни упрашивал, с собой не брал. Во-первых, надо было проверить в самом Петрограде все прежние явки, а, во-вторых, один человек, да к Тому ж свой брат, железнодорожник, менее приметен, чем толпа полушубков явно с чужого плеча. Нет, Флегонт. Нет, бесстрашный молодой адъютант! Савинков поедет к старому социалисту, как добропорядочный советский служащий. Засунув кольт сзади под ремень, он покрутился у зеркала так и этак и сам себе сказал:
– Как барышня на выданье. Не улыбайтесь, господин юнкер: именно мелочи и губят нас. Имею честь быть хорошим железнодорожным служащим!
С тем и отбыл на вокзал, душой, конечно, сомневаясь в успехе дела.
С донского восставшего закрайка было вроде ясно и понятно: если создавать, в противовес большевистскому, окраинное русское правительство, то как же обойтись без Плеханова? Весь семнадцатый год мысли вокруг этого крутились. С первых своих шагов по российской земле Савинков вдалбливал благую мысль тупоголовым министрам Керенского: Плеханов, Плеханов, Плеханов!.. И не только потому, что их связывали давние, устоявшиеся парижские отношения – предчувствие такой неизбежности. В отличие от Ленина, Троцкого и всей их компании, Плеханов вернулся из эмиграции без немцев, тихо и незаметно, наперекор большевистской разнузданности, и держал его неколебимый, несмотря ни на что, авторитет. Казалось, чего бы лучше? Бели уж не премьер, так готовый министр экономики. Для России, которая так судорожно латала экономические дыры! Но мало что другие не понимали – не понимал и социалист Керенский. Сколько крови в своё самое авторитетное время извёл Савинков, прежде чем однажды уговорил Керенского поехать к Плеханову, в то же самое Царское Село! Он знал, что здоровье корифея не ахти какое, но всё же вполне работоспособное. Плеханов, и только Плеханов утихомирит межпартийные страсти и придаст Временному правительству характер правительства постоянного! С тем и затащил Керенского в автомобиль, казалось, ещё пахнувший тончайшими духами императрицы Марии Фёдоровны, – социалист Керенский любил всё прежнее, царское и точно так же возлюбил личный автомобиль Божьей помазанницы. Своего ехидства Савинков, конечно, и тогда не выказывал, а, пользуясь этими бархатными, дрожащими от напряжения стенами, вдалбливал в ухо слабовольного российского вседержителя: Плеханов, Плеханов, Плеханов!..
Собственно, тогда они, хотя и с оговорками, заполучили согласие Плеханова: ладно, так и быть, господа-товарищи, только под этим решением пусть подпишутся и остальные министры, чтоб не походило на какой-то келейный заговор. Вот на той маленькой оговорке и сорвалось всё дело, потому что перессорились граждане-господа-товарищи и стало им не до Плеханова: каждый на себя драное российское одеяло тянул...
Сейчас вроде бы и нет прежних оговорок, потому что и нет прежних господ-товарищей, кроме него, Савинкова, да кой-кого из замерзающих в донских степях, но зато – заговор уж истинно келейный, никуда не денешься. Каки-ие выборы, кака-ая всенародность?! Учредительное собрание если и соберут, так всё равно разгонят; за большевистским кордоном ни единой опальной мысли – и возможно российское правительство. Савинков всё ещё верил: народное. Без веры он никогда и ничего не делал. Что с того, что уважаемого корифея приходилось вовлекать, по сути, в заговор? Иного пути не было. Это знал он, Савинков, но знал ли столь щепетильный и столь чувствительный ко всякой крови старый социалист?
Савинков трясся уже помаленьку в вагоне. Не прежние царские времена – одна из лучших дорог, а проще сказать – придворных дорожек; сейчас громыхало по рельсам нечто донельзя разбитное, ржавое и заплёванное. Обычных пассажиров почти не примечалось, даже мешочников, – сплошь солдаты, железнодорожники и редкие запуганные пригородники, женщины поголовно. Мужчины если где-то и были, так предпочитали, видно, отсиживаться в своих норах, а по петроградским делам ездили безответные дачницы, у которых за убогой одёжкой угадывались дворянские повадки. Савинков незаметно, но цепко присматривался. Привычка. Не знаешь ведь, где встанешь, где сядешь. Вот пожилой потасканный жизнью красноармеец – без всяких нашивок, следовательно, рядовой; что заставило его надеть опять солдатскую, ещё брусиловского покроя, шинель и только обозначить её, в знак любви к большевикам, красной матерчатой звездой на обычной серой папахе? Вот молоденький бледнолицый железнодорожник – гимназист по прежним меркам; хлеба насущного ради служит каким-нибудь телеграфистом или билетёром. Вот добренькая, чистенькая, вся высохшая старушка в убогоньком драповом пальтишке; из коротких рукавов, однако, выбиваются тонкие, назойливые кружева. Вот молодая, красивая – да, красивая, несмотря ни на что, – женщина в хорошей беличьей шубке, пожалуй, слишком приметной и неприличной по нынешним временам; Савинкова что-то беспокоило при взгляде на неё, но что?..
Видел, видел он её! Но только – где?
Привычка вспоминать, привычка.
Неужели?..
«В салоне у милейшей 3. Н.!»
Он уже собирался пересесть поближе, ну, хоть посоветовать, чтоб не кичилась своим видом, но тут в вагон торопливо прошёл новоявленный командир новоявленной армии, с какими-то красными шевронами на рукаве и сказал с укоризной:
– Ай-яй-яй, Надежда Васильевна! Комполка ждёт вас в первом вагоне.
Первый вагон, как ещё при посадке заметил Савинков, был закрытым и видом почище; вот туда с извинениями и увели бесцеремонно красивую женщину. Недавнюю завсегдательницу одного из лучших петербургских салонов. Дремавшие по лавкам красноармейцы заулыбались:
– У нашего комполка губа-ть не ду-ура!
– Лихой-ть мужик!
– Да он же прежний барин, только орла на звезду пыменял!..
Савинков уже задним числом, когда дверь вагона за женщиной закрылась, окончательно вспомнил: да это ж любовница полковника-латыша Гоппера! В бытность военным министром они даже в какой-то разгульной компании вместе вечер коротали... Тесна земля, тесна.
Хороший полковник, Гоппер, и полк был хороший. Что, при виде немцев и разных белых эстляндцев, подступивших уже к Нарве, он, и сам эстляндец, опять защищает Россию? Какую? Зачем?..
Но осудить полковника Гоппера Савинков почему-то не мог. Разве сам он не ради России трясётся в этом холодном скрипучем вагоне?
– Товарищ... э-э, товарищ... почему вы так плохо работаете?
Савинков не сразу понял, что обращаются именно к нему.
– Поезда ползут, как черепахи. Совсем не революционно! Так мы никогда не отобьёмся от буржуев да немцев! И-и... бастовать ещё нам?!
Молодой и такой настырный солдатик, из непримиримых. Едва ли и черепаху-то видел, а туда же: даёшь ответ, и всё! Форма-то железнодорожная. Досадно, чуть не опростоволосился.
– Вы говорите, товарищ, о возникших кое-где забастовках. Будьте спокойны: мы разберёмся – по-пролетарски! О перебоях в движении? Ускорим! Об авариях, кражах на железных дорогах? О «Викжеле», наконец? – нашёлся он какое-то мгновение спустя. – Но революция, как видите, многое расшатала, в том числе и рельсы. Всё только укладывается на новых шпалах. Где взять верных людей? Где взять специалистов? Вот вы? – уже сам стал напирать. – Вы можете работать диспетчером? Или составителем поездов? Или машинистом?..
– Я-то? – хмыкнул солдатик, может, неделю назад ставший красноармейцем. – Я-то революцию защищаю! К-кой чёрт машинист!
– Вот-вот, – не давал ему опомниться Савинков. – А поезда всё равно кто-то должен водить? Пути ремонтировать? Паровозы новые делать? Сигнализацию поломанную обновлять? Что на этот счёт товарищ Ленин говорит?..
Солдатик сразу неприкаянно поник. Он знал, конечно, про товарища Ленина, но не знал, что Ленин говорит. А Савинков вытащил из наружного кармана и без того приметную «Правду», ткнул наугад пальцем:
– Вот. Читайте.
Он был совершенно уверен, что новоиспечённый красноармеец и читать-то не умеет...
Так оно и оказалось. Солдатик сделал вид, что его сморил сон, закрыл глаза. Савинков подумал: «Вот на них, безграмотных и тёмных, вся надежда у большевиков?..»
Больше таких великих споров в дороге не было. Если не считать маленького недоразумения при встрече, уже в Царском, с начальником станции, которому вздумалось спросить:
– Товарищ Цапко не передавал с вами новый график движения?
Савинков посмотрел на холёного, видно, хорошо у большевиков устроившегося железнодорожника и уверенно ответил:
– График уточняется. Товарищ Цапко просил передать, что к концу дня пришлют с нарочным. По военному времени, дело секретное. Всего хорошего, товарищ.
Он круто повернулся и пошёл на площадку перед вокзалом, где в старые добрые времена играли военные оркестры и, прогуливаясь, показывали свои наряды великосветские дамы. Теперь всё было занесено снегом, завалено обломками, ошмётками всякого мусора и давно, наверно, с прошлого года не убиравшимся конским навозом. Задерживаться здесь не имело никакого резона. Железнодорожная форма хороша, но слишком уж ответственна. Чего доброго, спросят: подавать ли товарищу Бронштейну блиндированный вагон или обычный царский?
Дорогу к дому Плеханова, ещё при прежних наездах, он знал хорошо, поэтому пошёл напрямую, срезая углы по узким пешеходным тропам. Короче, да и безопаснее: красноармейские машины по тропкам не носятся. А машин было много: всё-таки фронт к Петрограду надвигался именно с этой стороны, до Луги и Нарвы было рукой подать.
Он не сомневался, что Плеханова уже опекают новоявленные, а может, и старые, переметнувшиеся к большевикам, филёры. Даже обрадовался своему прозрению: так и есть. Жив курилка! Расхаживал на некотором отдалении, в пальтишке и бараньей шапочке, а морда-то всё та же, жандармская. Будь это где-нибудь под Выборгом, не миновать бы попутного окна... Но здесь – не финская сторона, здесь Царское, теперь Красное, Село. Савинков был готов и к такой встрече, охотно пошёл на сближение, помахивая назойливой «Правдой»:
– Товарищ... вы не знаете, где дом товарища Плеханова? Железнодорожный Комитет поручил мне поагитировать товарища Плеханова, чтоб он решительнее становился на нашу сторону. Вот, не найду!
– Плеханов... – жандармская морда сделала вид, что вспоминает. – Вон. Ба-арский домишко!
Савинков по-пролетарски поднял правую руку, в которую так и просился кольт. Не спеша пошёл в указанном направлении.
Плеханов занимал на одной из царскосельских улиц-просек красивый и удобный особняк, арендованный для него у какого-то князя, теперь уже, бесспорно, сбежавшего за границу. Место по нынешним временам не самое лучшее, по сути, прифронтовое, но старый социалист и раньше не любил менять обжитую обстановку, а сейчас чего ж? Подальше от своих прежних соратников, нынешних большевиков, от шумного Смольного – поближе к себе... Несмотря на всю свою чопорность и житейскую непрактичность, приближавшегося фронта он, пожалуй, не боялся – трусом всё-таки не был. Савинков знал это по парижской жизни; тогда они вместе сотрудничали в одних и тех же журналах, да и сами кое-что совместно издавали. Плеханов уважал его военную осведомлённость, основанную на личных окопных наблюдениях, – он был фронтовым парижским корреспондентом, – а Савинков уважал в Плеханове широкий, обобщающий ум. Ведь что тогда было в моде? Пораженчество. Германии, Франции, да хоть и самой России. Не всё ли равно – в преддверии всемирной огненно-кровавой революции? Чем хуже – тем лучше, утверждали Ульяновы и Бронштейны. Не то твердил по-фронтовому бесстрашный старый социалист. Поражение России? Поражение Франции? Вы с ума сошли, господа-товарищи! И даже когда немцы подступили к самому Парижу и вот-вот могли его взять, а следовательно, и расстрелять всех, ратовавших за победу, сугубо гражданский социалист не дрогнул. Они с Плехановым ещё громче затрубили в свои победные трубы, ещё круче закрутили военные издания, и после, когда немцы откатились, старик радовался, как истый парижский ополченец. Оставалось только с винтовкой наперевес бежать вслед!
Не то ли самое и сейчас? Немцы опять наступают, и уже не на Париж, а на славную петровскую столицу; пусть и чужими, чухонскими силами, и под знаком двоедушного и позорного Брест-Литовского мира. Что же старый ополченец-социалист?..
Знакомая по прошлым наездам служанка-эстонка опустила заплаканные глаза:
– Господин Борис... к нему нельзя...
– Почему же... госпожа... Элма? – вспомнил он; баронесса как-никак, хотя и в прислужничьем фартучке.
Не стесняясь, даже руку поцеловал.
– Нельзя, Борис... Викторович, – и она вспоминала. – Какой вы сейчас!..
– Смешной?
Так и чудилось: сейчас сделает книксен и густо покраснеет, как бывало. Но она, наоборот, заплакала:
– He ходите, не тревожьте... Георгий Валентинович умирает. Не надо мешать, нельзя...
– Мне – можно, – не стал дальше её слушать Савинков и, скинув железнодорожную стылую шинель, прошёл в гостиную, а оттуда, мимо дремавшего в кресле доктора, прямо в спальню.
Да, старый, вечно с кем-нибудь воевавший социалист умирал. Уже отсутствующий, обложенный подушками, как за последним своим бруствером. Отступать ему было некуда...
Но он ещё узнал своего парижского волонтёра. Даже прошептал:
– Вот так кончаются все революции.
Нет, ум его не терял ясности, хотя душа отлетала... куда?.. У такого атеиста и безбожника?
Так и хотелось спросить: «Уж не причастились ли вы напоследок, учитель?!»
В самой смерти его было нечто символическое, от давней неукоснительной привычки. На прикроватном, собственно больничном, столике, сплошь заваленном лекарствами, всякими баночками и коробочками, стояла, как напоминание о прежних временах, огнистая стеклянная ваза, а в ней... огненные, горевшие свежим пламенем гвоздики... Господи! Где они в такое время нашли его любимых цветов?.. Стесняясь, он погладил их рукой, больше привыкшей к браунингу и кольту.
– Настоящие, – понял его умирающий.
– Да-да, Георгий Валентинович...
– Был Георгий... но сейчас уже не Победоносец... Меня победита, она...
Революция или смерть? Дилем-ма! Старый социалист любил учёные слова. Неужели и сейчас в голове у него всё двоилось?
Савинков не мог разрешить последнюю дилемму своего умирающего учителя...
Но не это нагоняло слезу... слезу у Савинкова, не обронившего её даже в камере смертников!
Среди гвоздик, с обратной стороны, так, чтобы не видел умирающий, был приткнут маленький образок Спасителя. Медный нательный образок, с каким уходили паломники в Святую землю...
А что если – видел?!
Дилем-ма!
Кажется, умирающий понимал сомнения своего более молодого, следовательно, и более счастливого друга, но сказать уже ничего не мог. «Бледная тень нашей бледной революции», – подумал Савинков, подспудно «переиначивая одно из любимых изречений Иоанна Златоуста: «Конь Бледный, а имя ему Смерть...» Было в этом сближении неистового социалиста, при всех алых гвоздиках, и неистового христианского проповедника нечто такое трогательно-трагическое, что Савинков пожал бледную – тут уж без всяких иносказаний, – совершенно бескровную руку и тем же обратным порядком, мимо доктора, вышел в прихожую. Доктору нечего тут было делать. Уместнее был бы священник.
– Элма, вы не пытались?.. – не договорил он, и ей пожимая прощально руку.
Бывшая баронесса поняла, но ничего не ответила.
Что тут было отвечать?
«Правительства... кабинеты... министры!» – вторил он сам себе, выбегая на улицу. Какие, к лешему, министры?! Их давно растоптал всех... Бледный, да, Бледный Конь!
Невдалеке от дома расхаживал всё тот же новоиспечённый филёр. Минуть его было невозможно. Смерть смертью, но надо было жить по законам этих филёров. Савинков нарочно опять подошёл к нему и самым небрежным тоном сказал:
– Да, железнодорожный Комитет напрасно надеялся на товарища Плеханова. Товарищ Плеханов умирает.
– Правда-сь?.. – с нескрываемой радостью откликнулся филёр, который, конечно, знал о болезни «рево-люць-онера», но в дом, что называется, был не вхож.
– Правда, – потряс Савинков всё той же назойливо выпиравшей из кармана газетой и быстрым шагом, но уже другими тропками-дорожками пошёл к вокзалу.
Там было опять всё то же: красноармейцы, пушки на запасных путях, теплушки, сплошь забитые заиндевелыми шинелями, – фронт подошёл так близко, что отапливать эти скотские – для скотины же, в первую очередь для кавалерийских лошадей, и приспособленные – вагоны не имело смысла. Час-другой, да и в окопах.
Но жалости у Савинкова не было. Да и какая жалость? Опять то же утреннее опасное соглядатайство... Даже начальник станции тут как тут.
Савинков ему уверенно пообещал:
– Я скажу товарищу Цапко, что вы беспокоитесь о графике движения. Товарищ Цапко, конечно, поторопит кого надо. Без цер-ремоний!
Самому гнусно стало от этих пророчеств... Хватит с него царскосельских встреч. В Петроград! А оттуда – в Москву. Вот разве что с «крестной» на прощание повидаться... Делать тут, в осином гнезде, больше нечего. Москва всё-таки подальше от Бронштейнов и Ульяновых...
Он ещё не знал, что всё большевистское правительство, а следовательно, в первую голову и Бронштейны с Ульяновыми, собирают чемоданы, чтобы драпать от немцев. Не Плехановы, господа-товарищи! Под немецкими снарядами не останутся, нет.
Кремль? Белокаменная? Ими же и разбитая при революционном штурме старая российская столица?.. Стены её толсты и крепки... «как задницы у господ комиссаров»!
V
Вернувшись из Рыбинска, поручик Патин весь январь бессмысленно бродил по Москве. Савинкова он потерял, других друзей не находил. От безделья и шатался. Почти без прикрытия, запросто. За эти месяцы всё его обличье, подпорченное ещё грязно-серой повязкой на руке, так подзатёрлось, что каждому встречному прямо говорило: бедолага-инвалид, не нашедший себе ни красного, ни белого пристанища... Шпана, в общем... дай ему, Боже, кусок хлебца!
Патин часто ночевал на заброшенных подмосковных дачах. Где они, хозяева? Частью по южным окраинам разбежались, частью в окрестной земельке покоились – от пули ли, от голода, какая разница. Кто в Москве оставался, так свои дачные вотчины позабыл. В Москве как-никак, стены каменные, а здесь почти сплошь деревянные. Любили москвичи дерево, хорошо проолифленное и прокрашенное. Снаружи было не так сильно и обшарпано, разве что окна да двери выдраны. Из подмосковных, даже владимирских да ярославских, сел наезжали, запасались до лучших времён. Мало утварь, мало мебель – кафель разворачивали. Ну да ведь и печи же были – что дворцы!
Патин искал дачи поскромнее. Там печи не облицованные, голый мёрзлый кирпич. Наломай дровишек да подсогрей – и сам согреешься, иногда до жаркого пота. Лежи да полёживай на чужой расхристанной кровати. Не так опасно, как в самой Москве, иногда в погребах и съестного, тайного и явного, маленько находилось. Перебивался, приглядывался.
Вокруг было белым-бело, как в первый день Творения. Ни следочка, ни знака живого. Господи, есть ли хоть где-то Россия?..
Встав однажды поутру, промерзший и голодный, – незадачливая попала дачка, без печки и без еды, – он яростно начеркал палкой – хороша для собак и мелкой шпаны – прямо по первозданной белизне: «Родина... или смерть?»
Но как ни карал себя за безделье, умирать, ей-богу, не хотелось. Какой смысл в его смерти? Подзаборная котяра и та не шелохнётся; бросил в кошку ледышкой и, удостоверясь, что попал, побрёл из Лосиного Острова в сторону Сокольничьей рощи.
Нет, всё-таки оставалась ещё Россия. Нутром своим фронтовым, уже привыкшим к революционным передрягам, чувствовал: не один он такой, неприкаянный. Бродят смутные тени по Москве, а особенно по ближнему Подмосковью, ищут друг друга; если приглядеться, то в каждом втором или третьем мужичонке призывного возраста, одетом чёрт знает во что, угадывался бывший фронтовик, почти наверняка – офицер; крестьянские солдатики разбрелись в поисках землицы по губерниям, а рабочие клепали в дедовских сараюшках кастрюли, примуса да разные жестяные буржуйки. Не то у бывших господ офицеров: ни землицы, ни рук слесарных... Лишь затасканная шинелька, подбитая морозным московским ветром. Стыдно сказать, поручик Патин, ходивший когда-то в разведку для лёгкости в одной гимнастёрке, сейчас под шинель напялил ещё и толстую женскую кофту – на одной из дач позаимствовал. Ночевать-то приходилось не у тёщи... Сегодня так и при разваленной, разобранной на кирпичи печке и без единой сухой корочки – всё там было съедено-доедено мышами. Горячась от злости, да и от холода, он стылыми сапогами, как на коньках, перемахнул через Яузу. Тот, правый, берег был крутой, и на самом крутояре женщина с непосильной натугой рубила береговые хлипкие берёзки. На дрова, конечно. Опасаться её было нечего.
Патин без долгих раздумий поднялся по откосу.
– Здравствуйте.
– Здравствуй, если жить не надоело.
Женщина обращалась к нему тоном старшей, со снисходительной покровительностью. Но не того ли же и возраста была – кто её разберёт под шалью, полушубком и мужскими валенками. Топор-то всё-таки не очень умело держала – приметил Патин. Явно не из деревенских. Да и какие тут деревни, у Яузы.
– Позвольте, – скинув с руки ненужную перевязь, взял у неё топор.
Вот когда согрелось тело! Берёзки на береговом гребне были не толсты, а сила в руках всё-таки оставалась. Он валил деревинки и тут же рассекал их на чурки, а женщина охапками носила к дому; туда была натоптана тропинка, а дальше – ни следочка, словно никто и не выходил за призрачный белый круг.
– Одна? – понял Патин.
Она не ответила и, пристально посмотрев на него из-под шали, сказала:
– Вы уж не утруждайте так себя... господин поручик.
Он вздрогнул:
– Почему... поручик?..
– Да потому, что для полковника ещё молоды, а в рядовые попросту не годитесь, – не стала больше ничего объяснять, лишь пообещала: – Не стесняйтесь, я покормлю вас... вижу, что голодны. Право, без церемоний.
Так вот и познакомился он с хозяйкой этого загородного, по сути уже сельского, запущенного особнячка, стоявшего на московском берегу Яузы, на самой границе с Лосиным Островом. Странно было, что хозяйка – звали её Софьей Сергеевной – так явно и безоговорочно доверилась ему. Она ничего о себе не рассказывала, а он не спрашивал. Рубил дрова, топил печку и отсыпался за всё зимнее бесприютное время. Подходя к зеркалу, качал головой: ну и мордаха стала! За неделю разгладилась, побрилась и даже напиталась запахами старого, уже забытого одеколона. Вечерами при свете лишь тлевших в камине чуреков – керосина для ламп у неё немного оставалось, но опасно было освещать, обозначать дом, – после долгого лежания на кровати, он спускал ноги к ней, сидевшей обычно у огонька, и спрашивал:
– Неужели ты совсем одна, Софи?
Она не отвечала, лишь зябко, даже у огня, подёргивала плечами. Ясно, что не привыкла рубить дрова и доить козу. Но жаловаться не жаловалась. Только ещё беззащитнее приникала к его спасительному плечу...
Иногда тихо играла на рояле, но петь никогда не пела. Да и разговаривала мало. Одно могла спросить:
– Щи? Картошку будем жарить?
Он кивал, с удовольствием уплетая и щи, и картошку. У неё здесь было кое-какое хозяйство, ещё не разграбленное. Была и кухарка-служанка, да, конечно, убежала. Что, в общем-то, и хорошо – дом занесло снегом, ни следочка на подходах, стоял он почти что на глухой поляне, связанный с внешним миром только просекой. Из опаски они и не ходили никуда, не следили. Даже печку и камин – жили всего в одной комнате – топили по вечерам, чтобы не привлекать к себе внимания.
Патин постепенно узнал, что это усадьба лесничего, у которого и в Москве была квартира, но только не знал, где сейчас-то лесничий...
Но ведь нельзя же жить вместе, при одном камине и при одной кровати, хотя бы словом не проговариваясь. Постепенно и открылось...
Да, одна, совсем одна. Сына-гимназиста повесили ещё при затухающих всплесках первой революции, мужа-лесничего, уехавшего в Москву за продуктами и оказавшегося близ Лубянки, накрыло шальным снарядом при осеннем штурме Кремля, а сама она до нынешних дней музицировала пролетарским бездомным детям с Преображении – приют там какой-то создавали, даже с некоторым комфортом. А для неё – так и с пайком. Можно было жить.
– Когда господин поручик сбежит от меня, опять туда пойду.
Он клялся и божился... ну как в песне известной... Самому тошно становилось. Чего загадывать на будущее? Сейчас и на день-то загадать невозможно. Глушь, глушь, а со стороны Сокольничьей рощи слышались иногда выстрелы. Уж ему-то не знать – винтовочные! Москва жила своей жизнью, революционной. Не такой уж и далёкой.
– Не мучайся, я не одна, как видишь. С козочкой.
Эта загородная, затаившаяся москвичка даже живностью кой-какой обзавелась. Кроме козы, были ещё и куры.
– Вот петушка я посекла, чтоб голосишком своим меня не выдавал.
Патин с сомнением качал головой:
– Неужели сама?..
– Ас какой же курятиной щи? Закрыла глаза... и рубанула топориком бедненького...
Можно было только удивляться, как за несколько месяцев поменялась женская сущность... Но ведь не везде?
Вопросов лучше не задавать.
Патин пил козье горячее молоко и чувствовал, как к нему возвращается жизнь. Осмелев, стал окольными путями, чтобы не наследить, наведываться к Сокольникам. Выбравшись на натоптанные дороги, уже безбоязненно бродил по заснеженным окрестностям и лишь, уходя в город, снова вздевал на руку серую перевязь, маленько натирал лицо грязцой из камина: больно подрумянился на козьем молоке! Софья Сергеевна посмеивалась, но радостно: у неё ведь тоже оттаивала душа...
Но в Москве ничего хорошего не находилось; всё попряталось... или умерло, или сбежало куда-то! Если так, если на юг не пробиться, следовало пробираться на север, к своей родимой Шексне. А может, и к Архангельску. По слухам, там тоже начинало что-то шевелиться... Сколько можно отсиживаться в приживальщиках? Всё-таки хозяйка была не так стара, чтобы не мучаться совестью. Он даже назначил день отъезда.
– Через неделю, Софьюшка... у тебя хорошо, а...
– ...у невесты лучше? – вздрогнула плечами при этом известии.
– Ну какая невеста! Уходил на войну студентом-молокососом... Господи, три года назад! Целая вечность.
– Да, теперь и год вечностью кажется. Я кое-что соберу в дорогу. Негоже господину поручику нищим под отчий кров являться.
Тут была и некая ирония, и некая материнская заботливость. В самом деле, нельзя же из столицы – и без гостинцев!
* * *
Но пока он собирался, время распорядилось иначе.
Не всё же дни возле хозяюшки да её козы отсиживаться. Бывало, и к центру Москвы пускался, на что-то смутно надеясь и чего-то неопределённого ожидая. Случай!
Но случаем одарила не сама Москва – всё та же окраина...
Как обычно под вечер, пошёл прогуляться, малозаметный в метели и снежном мареве. Хитрил ведь: снега на этот час не было, ясность чистозвёздная. Просто спокойнее так думать, надёжнее. Да и хозяюшку тревожить не хотелось, про снег твердил. Будто она на улицу не выходит, не видит!
По целине, а потом по едва приметным тропкам, ведущим к выходу из Сокольничьей рощи. Тут уже обретались какие-то невидимые люди, понатоптали. Дачные улицы-просеки, кое-где застроенные ещё перед войной, лучами сходились к выходным воротам. Но он и прошёл-то немного, как в полной темноте, кроме звёзд, не подсвеченной ни одним жилым огоньком, послышалось мужское приглушённое пение. Марш?.. Марш, конечно! Фронтовому поручику да не знать! Он, правда, подзабыл исходные слова, думал, что красноармейцы прут; поехидничал: «Да-да... в бой идут... за власть Советов... и как один умрут в борьбе за это!.. Чтоб пусто было!» И марш-то ведь краденый, у кадетов. На слова святые дерьма накладено; сами-то не могли сочинить, лишь заменили «кадетское» на «советское».
Но сейчас слова были старые, настоящие. На задворках одного из затемнённых особняков топтались густые тени, и вот они-то приглушённо, думая, что их никто не слышит, и пели:
Смело мы в бой пойдём За Русь святую!
И как один прольём Кровь молодую!
И дальше уж совсем очевидное:
Пушки грохочут,
Трещат пулемёты,
Но не сдаются Кадетские роты!
Какая-то необоримая сила толкнула его за калитку, по тропке, ведущей в тесный мужской круг.
– Я хоть и не был кадетом... но, господа!.. Поручик Патин. Честь имею.
Его негаданное вторжение разорвало и песню, и плотный мужской круг. Он видел, что несколько человек настороженно сунули руки в карманы.
– Вы ничем не рискуете. Рискую я, поскольку, видите, один и безоружен. Не изволите ли, ради доверия, убедиться?
Он не собирался в этот вечер забираться далеко в город и потому действительно был безоружен.
Но никто не решался обшаривать его карманы. Только один, черноусый, совсем не для нынешней улицы, да к тому же и в шинели с портупеей, нехотя согласился:








