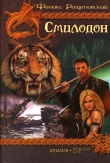Текст книги "А. Разумовский: Ночной император"
Автор книги: Аркадий Савеличев
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 36 страниц)
– Надо ее, Алексей Григорьевич, попытать, – к следующему вечеру решил всезнающий Карпуша.
– Такой оравой? Загрязним опять.
– Зачем орава? Протопим как след, а ты, Алексей Григорьевич, один и пытай.
Спорить не приходилось. Дело-то серьезное.
Пока Алексей, уже затемно, при волчьем вое, еще раз гонял лошадь до большака, на что-то надеясь, пока в раздумье стоял там на раздорожье, пока то да се – готова баня! Пробуй.
Все убрались, вероятно, в Карпушину берлогу, а он чин чинарем разделся в предбаннике – и прямо в первый жар. Душу так и выворотило паром! Тут все как след быть обустроили. И шайки новые, липовые, из кладовок принесли, и веники березовые, дубовые, вересковые, и квас даже у старого солдата нашелся. Алексей копоть от лучины не пускал, свечу запалил. Жарким ветром огнистый язычок от каменки прямо в слуховое оконце тянуло. Того и гляди, задует.
Алексей и раз, и другой после пара выскочил в предбанник, а потом и на снег, – с удовольствием покатался в сугробе.
Пока хлопал дверями, свечу-то и задуло. А огниво и не помнил, куда засунул. Решил впотьмах ополоснуться да и до хаты, как говорят. Баня-то все-таки не чухонская, с хорошим оконцем, куда и луна как раз подсвечивала.
В шайку воды не самой горячей намешал и только поднял ее, немаленькую, над головой, как ему вдруг с визгом подмышки с заднего обхвата ощекотили. Куда шайка, куда он сам прянул!
– Айна?!
Она, самая молодая, чьей-то бабы девчонка. Не слепой ведь, два дня все они там в горницах толклись.
– Ты чего?..
– Так не в сарафане ж до парильцы, – был вполне праведный ответ.
– Неяк дивчина ж?..
– Девка, а как же.
– А если я тебя осрамлю? Ты подумала? Что матери скажешь?
– Чего говорить. Мать сама и послала. Уважь, говорит, барина-управителя.
– Уважить?..
– А как же. Видно, что ты уважистый. Поди, не обидишь меня.
– Не обижу. Айна… Ой, в грех меня вгоняешь! Так в жар и бросило!..
– Меня-то в ознобь… По сугробью-то бегая!
– Гольем?..
– Не, шубницу накинула. Да нараспашку же…
От жара душевного он воды в шайку, видно, холодноватой навел – когда шалостью выплеснул на Айну, она вскрикнула:
– Оюшки, барин! Морозить меня, что ль, решил?
А какой мороз? Даже нижний полок прокалился. Когда он уложил Айну и все от той же шалости веником по брюшку детскому прошелся, она разнеженно потянулась всеми косточками:
– Горяченький-то какой…
Пойми возьми – кто! Веник ли огнистый, он ли сам, совершенно подгоревший. Может, и луна еще ярью в оконце палила…
Ага, луна. Она, окаянница.
Жаль, крики и визг полозьев вспугнули луну.
Еще ничего не понимая, Алексей в един миг оделся и выскочил вон. Во двор заворачивали двое саней, впритык друг к дружке. Факела смоляные роняли огнистый дождь. Карпуша с крыльца об одном валенце бежал – другая нога деревяшкой отсвечивала. Свечи зажженные по окнам запрыгали. Бабий визг в доме, который и в сени выбивался, а оттуда на крыльцо. Ошалелые кучера на два голоса перекликались:
– Тпру-у… не напирай, Ванюха!
– К теплу ж бежить… тпру-у тебя, нежеребая!
Карпуша, подскочив, почитай, на одной ноге к передним саням, в поклоне сломался:
– С прибытием, ваше высочество… гостюшкой желанной в Гостилицы!
– Хозяйкой, – послышалось в ответ. – Где Алексей Григорьевич?
– Здесь я, господыня-цесаревна, – пришел и он в себя. – Баню топил, господыня…
– Баню?.. И хорошо ли истопил?
– Добре, господыня. Сам опробовал.
– Баня… Ишь ты! Дуська, Фруська! Разгружайтесь и белье соберите. Пока в доме располагаетесь, глядишь, и попарюсь. Что столбом торчишь, Алексей? – даже прикрикнула. – Провожай.
Плохо все происходящее соображая, Алексей подал руку и вывел Елизавету из саней.
– Сколь времени я тут не была? – высчитывала она, идя за его рукой как бы в поводу. – Года два, поди. Сгнило все небось?
– Как можно, господыня! – в азарте возразил Алексей. – Все отремонтовали. И баню, и дом. Баню-то, так наособицу, под добрый жар.
– Ну-ну, посмотрим, – все в той же дорожной шубе вступила Елизавета в предбанник. – Вздуй огонь.
Алексей вспомнил, что кресало у него в кармане кафтана. Да и свечи, числом три, были в еловых расщепах по стенам укреплены. Первая от входа свеча с хорошего березового трута быстро запалилась, осветив чистый, обшитый тесом предбанник, выскобленные лавки, одежные, тоже еловые, крюки по тем же стенам… и овечью шубейку, сарафанец… Тут он только и вспомнил про Айну. Что, голышом убежала?..
Но Елизавета на чью-то убогую одежку не обратила и внимания. Опускаясь на лавку, опять прикрикнула:
– В бане вздувай. Иль потемну?..
Алексей, опять словно ошпаренный, только сунулся в набрякшие от пара вторые двери, как оттуда вихрем оголтелым взметнулась лохматая, визжащая ведьма, вышибла головой наружные двери – и оглашенно покатилась по оснеженному скату к реке.
– Та-ак, – услышал он в спину. – Баню проверял?! Сгинь с глаз моих! Дуську зови.
Даже и парную дверь не затворив, Алексей вылетел вслед за визжащей где-то внизу ведьмой, понесся в другую сторону – к дому.
– Дуська! Фруська!.. – начал звать еще на дворе да с тем криком и в дом вломился.
– Что стряслось? Что?.. – с охапкой белья в руках набежали из задних комнат все сразу понявшие горничные. – Зовет?
– Призывает…
Дуська убежала, за ней Фроська, а он через другие двери прошел в прихожий угол Карпуши. Там уже сидели оба кучера, прихваченный из саней горлач в четыре руки с кляпа снимали. Карпуша их останавливал:
– Погодите-ть, лошадей прибрать надоть.
С неохотой поднялись кучера, сердито позыркали на раскупоренный горлач.
– Ладно уж, я сам… – Алексей вызвался.
Кучера с удивлением обратно присели. Верно, подумали: молод новый управитель, не привык еще к своей власти.
Ничего подобного: привык!
К властвованию… над лошадками хотя бы… Одну и другую выпряг, в сарай завел, сена дал, рогожей мокрые спины прикрыл. Видать, сильно гнали. Чего их, на ночь глядя, несло, чего?!
Алексей вроде как оправдывался. За дверями, из этой черной прихожей выводившими в чистые горницы, слышался топот оставшихся горничных и голоса, не тихие. Одна удивлялась:
– И чего государыню-цесаревну прямиком в баню понесло?..
Другая отвечала:
– А то не знаешь! Баню-то кто топил? Алешенька, свет ненаглядный…
Его дрожь колотила от этих переговоров. Ни Карпуша, ни кучера тем более ничего, конечно, не слышали, с горлачом под свои же голоса беседовали, а он-то хребтом чувствовал женские пересуды.
– Не наше с тобой дело, а все ж чудна любовь-то…
– Чай, и лучше бы нашла!
– Да зачем лучшего? Не в замужество с ним ититъ?
«Ваша думка, сарафанницы… можливо, и моя», – с отрешенным сознанием подумал Алексей и кивнул Карпуше:
– Возлей, друже.
Карпуша, видать, давно к нему присматривался. Налил чуток да еще и упрекнул:
– А что я тебе говорил, Алексей Григорьевич? Держись от здешних чухонок подальше! Догадалась?
– Как не догадаться, – уже самолично пригнул Алексей горлач. – Ведьма голозадая ее чуть с ног не сшибла…
– Плохи твои дела, – все понял Карпуша. – Выгонят тебя. Может статься, и под кнут…
– Можливо…
– Вот я и говорю, я говорю! А ты не пей, тебе теперь не до питья. Чего доброго, эти же кучера и отдерут, – без злости кивнул он на собутыльников. – По единому, ежели, слову!
Кучера мало что в их разговоре понимали. Не вникали вовсе. Разве что друг перед дружкой бубнили:
– Если б не наши добрые лошадки…
– Да-а, не унести бы ног…
– Мушкеты! Что мушкет!.. Раз стрельнул, а уж перезарядить не успеешь…
– Когда успеть! Волчары нынче свадьбы водят, в большие стаи сбиваются. Я уж и крест с шеи вытянул, поцеловал на прощанье…
– А все лошадки-спасители! Как горлачик первый усидим, надо им хорошего овсеца задать…
О лошадях думали, а сами все пригибали да пригибали полуведерный глиняный горлач. И Алексей за ними тянулся, в свою очередь думая: «Она-то на ночь глядя ко мне пустилась… чуть волкам в зубы не попала… а я-то, окаянец несчастный!..» Слезы глаза заливали. Кучера сами ослезились при упоминании о волчьей погоне, ничего не замечали. Но Карпуша хоть и пил, но все примечал. В очередной раз придержал руку:
– Тебе нельзя, Алексей Григорьевич. Ну как к ответу призовут?..
Как бы подтверждая его прозрение, набежала долго пропадавшая Дуська:
– Зовут!
Тоскливо посмотрел Алексей на всезнающего Карпушу, с которым успел сдружиться, и побрел вслед за Дуськой.
В предбаннике горели уже все три свечи. Откуда-то взялось небольшое настенное зеркало. На столике, придвинутом к угловой скамье, были разложены гребенки, какие-то банки-склянки, полотенца, чепчики. Алексей медлил идти дальше и тупо рассматривал все это. Уже Дуська в спину подтолкнула:
– Иди, чего стал?
Он вошел, покаянно скидывая шапку:
– Простите, ваше высочество, окаянца…
Была ли здесь свеча да была ли и другая горничная – он ничего не видел. Только голос услышал, с верхней полки:
– А что, моду такую взяли – в шубах париться?
Он не мог вынести этого спокойного, вроде бы и незлого голоса. На колени бухнулся, лбом прямо на полок, и от рыданий не мог слова сказать.
Его сверху нешуточно лупили по спине, по чуприне скатавшейся, но что веник! Кнут требовался, кнут плетеный…
И совсем его доконала рука, свесившаяся с верхнего полка на его разом взопревшую голову. Рука перебирала свалявшиеся волосы; рука пахла весенней разогретой березой и еще чем-то очень знакомым, сейчас как раз и карающая своей ненужной лаской.
– Уж лучше бы, государыня-цесаревна…
– Я сама знаю, что лучше, что хуже!
Рука дернулась вверх, не мешая ему биться лбом о мокрые, еще от прошлого веника навощенные доски.
– Ну, хватит! – требовательно, но помягче, упал на его голову верховой голос. – Ду-уська! – еще воззвал; когда хлопнула дверь, уже яснее: – Раздень недогадливого мужика. Видать, забыл, как в баню ходят!
В предбаннике раздевали ли, сам ли разделся – все истинно в банном пару. Дверь-то ведь оттуда, из нестерпимого жара, настежь распахнулась, хохочущая светлая тень метнулась к холодным дверям и дальше, в сугроб, все с тем же ошалелым зовом:
– Дуська! Фруська! Держите меня!..
Видно, держали, видно, всем скопом несли обратно, потому что голая оснеженная пятка, лягаясь, пребольно саданула ему в лицо.
– Готов ли мужик-то? – уже глухо, из самого пара, который через открытую дверь смешивался с паром морозным.
Дуська ли, Фруська ли прихлопнули холодную дверь. И ему в спину наддали:
– Шевелись у нас!
В самом деле, шевельнулся, всамделишно в хохочущий пар, зажмурясь, напролом попер.
– Да открой ясны глазыньки-то, – вроде с издевкой, а вроде и с одобрением.
Свеча-то, хоть и единая, все-таки подсвечивала с подоконной полицы. Он это уразумел, как жернов поворачивая голову. Все круче и круче…
– Государыня-господыня, какая ты…
– Какая же? – с новым одобрением приподняли за чуб его голову.
– Такая… как Богородица!..
– Ну-у, Алешенька-плут! Не смей сравнивать. Уж лучше скажи – грешница. А еще лучше – ничего не говори. Видишь, промерзла в снегу. Попарь… да хорошенечко, плут мой окаянный…
Поднимаясь с первого полка на второй, а там и на третий, он взял было в руку подвернувшийся веник, но его с тем же блажным хохотом повлекли выше, под самые банные небеси… Вот и вышло, что веник-то ни к чему.
Веник, он только мешал подниматься на это ясное, ласковое небушко.
Так в душе и отозвалось набежавшей горячей волной…
Часть третья
Власть окаянная
IВремя наступало смутное.
Отдал Богу душу неукротимый и непокоренный архиепископ Новогородский Феофан Прокопович, – остались похвальные оды в честь Анны Иоанновны да, с другой стороны, непотребная хула: «Еретик! Лютер! Христопродавец!» Хотя не был он ни лютеранином, ни продающим Христа, – просто науку и грамоту любил еще по завету Петра» Нечесаным попом жить не хотел, вериг не носил, это уж доподлинно. И на смертном одре хвалу царю-работнику возносил. В напутствие остающимся чадам горько вопрошал: «Что ее есть? До чего мы дожили, о, россиане? Что видим? Что делаем?» Какому земному царю такой намек о злых делах своих понравится? Или еще хуже: «Дрожу под дубом; с крайним гладом овцы тают…» Таяла его паства, бесследно исчезала с лица земли: непокорный Артемий Петрович Волынский, кабинет-министр и самый рьяный защитник русского люда, – четвертован принародно, в устрашение всем остальным. Иные под кнутом муку принимали; иные без языка в вечной мерзлоте пропадали, в монастырях заброшенных, в ямах гнилых… Но самого первосвященника тронуть не посмели, как ни чесались курляндские руки. Своей смертью предстал пред Всевышним.
Тем часом кадет Александр Сумароков в гвардейские офицеры вышел. Хоть и знатен родом, а тоже оды достохвальные писать пришлось – как без того! Тихо служил, неприметно. Любезные вирши в глубь души загонял. Кому они нужны? Опасная вещь – вирши. Офицеру артикул держать полагается – не перо же гусиное. То дело канцеляристов-охлебников. Его же родовые поместья кормили да служба царская, хоть и с женской капризью. Но о том – и про себя не думай, не только что не говори!
Хуже, когда говорили. Больше всех из «Ученой дружины» досталось князю Кантемиру. Знатен родом сын молдавских господарей, да незнатен языком. Невоздержан. Не оды – злые сатиры с княжьего пера слетали. В провидении будущего – отчаянье да тоска…
«Глубокие реки потекут от моря назад к своему истоку, солнце побежит назад, поворотив своих коней, земля понесет звезды, небо будет разрезано плугом, волна загорится, а огонь даст воду…»
Как можно было жить в России с такими мыслями, как?!
В почетную ссылку, с глаз долой, отправлен Антиох Кантемир, посланником в Англию. После шести лет, слышала Елизавета, переведен в Париж. Если и доходили до нее вести, так под учтивым дипломатическим флером. Всего на год и старше ее Антиох-пересмешник, а, говорят, старик стариком. А она-то?..
Подумать страшно, что скажет зеркало! Нет, не то, что в оправе отцовской работы, – любил царь-батюшка на станке безделухи резать. Заграничное зеркало – душа любимого Черкесика. Его, Алешенькина привязанность. Разве она-то – не зеркальце его ненаглядное? Потому и не грустилось ей, как рано состарившемуся Антиоху. В подражание ему, еще петербургскому, молодому, на сочинительство веселых песенок тянуло. Женское естество прямо вопрошало:
Для чего не веселиться?
Бог весть, где нам завтра быть?..
Самой ли написалось, списалось ли с кого – какая разница. Ей принадлежал этот грешный мир. Бегая из горницы в горницу, она распевала на все четыре стены. Хозяйские дела маленько поправились – подновились и расширялись стены на дальнем Царицыном лугу. Да хоть и в Гостилицах – стараньями Алешеньки там тоже знатная стройка идет. При скудости кошеля, при недружелюбии большого двора, да что там – при явной вражде. Отвергнутая, злорадно забытая. Ждущая монастыря ли, расправы ли еще худшей?..
А душа-то поет! Вроде и нет ничего грязного. Дивятся люди, плетущие вкруг умирающей императрицы истинно рыбацкие сети. Как ни велика рыбища, а воли не больше, чем у арестантки-цесаревны. У нее – своя воля, любовью называется. Возьмите ее! Герцог Курляндский уж на что хват, а против цесаревны опускает сплошь окольцованные руки:
– Не изволите сказать, что так веселы, ваше высочество?
– Не изволю… потому что и сама не знаю, ваше величество.
Величество – это уже царское обращение. Но Бирон принимает как бы по праву. Дни Анны Иоанновны сочтены, она уже и при поддержке его властной руки на люди показаться не может. Ноги отказывают… а может, и душа?..
Амурные намеки охраняющего падающий трон Бирона… или любезность привычная?
– Что трон без красы земной!
Тут можно бы и возразить, на его-то житейском примере, но одного неосторожного слова достаточно, чтоб напоследок тяжкого царствования под топор попасть. Раз уж самого канцлера, умницу и российскую надежу, Артемия Петровича Волынского, как непотребного разбойника, четвертовали… Какова после этого власть изгнанницы-цесаревны?
Грубостью на зазывные речи всесильного прельстителя отвечать нельзя. Только женская уклончивость, с расчетом на божеское время:
– Ах, ваше величество! Не смущайте тихую золушку. Видите, по первому зову я приезжаю во дворец, а как можно без зова? Нельзя напрасно тревожить государыню.
– Нельзя… пока нельзя, премудрая цесаревна. Но извольте далеко не уезжать. Не похитил бы вас какой разбойник?
Возвратясь в свой дом после таких речей – прямо в придворном платье на постель кинешься. Хоть и платьев-то – раз-два, и обчелся. В долги влезать приходится, даже странно, что еще дают. Истинно, царская жизнь!
Но долго печалиться – не в ее натуре. Стоит скинуть придворное платье, как на радостный зов:
– Душка-Дусенька!
А та уж знает – с чего уж это.
– Да дожидается, государыня-цесаревна. Весь измаялся, пока вы во дворец ездили.
– Так чего стоишь… дура! Зови.
А уж явился с извинительным, но не робким поклоном:
– Чего прикажете, господыня?
Она внимательно на него посмотрела:
– Сколько времен мы знаемся?
– Не считал, господыня.
– А ты посчитай, Алешенька, ты посчитай!
– В голове помутилось… Лизанька…
Она чувствует, с каким трудом ему дается последнее слово. Сколько раз просила, даже повелевала – с глазу на глаз попросту звать, а все напрасно. Не выговаривается у него совсем нетрудное словцо. А раз уж выговорилось, поощрить надо.
Руки ее привычно перебирали смоляные волосья. От головы к усам, от усов к бороде. Истинно, Черкес! На улице показаться нельзя: слишком приметен. Но не сидеть же сиднем в четырех стенах. Настюшка Михайловна, подружка разбитная, и то советует: «Да обрей ты своего Черкеса! Смотри, примечают разные подхалюзники…» И ведь не откажешь ей в прозорливости: следят-выслеживают… Потому и держит его чуть ли не взаперти. Но – что станется с мужика, прокопченного от дурных печей?
– Вася! – без всякой вроде бы мысли возникает очередной зов. – Жив ли ты, Вася?
Не было у нее, как при большом дворе, ни звонких серебряных колокольцев, ни расторопных камердинеров – все собственный голос решал.
Довольно изрядный, особливо во гневе. Услышал Вася Чулков, истопник незаменимый, прямо с медной кочергой прибежал.
– Чего изволите, государыня-цесаревна?
– Изволю, Вася, лоб твой… кочережкой вот покрестить!.. – Она кочергу вырвала, руку измазала, о платье было вытерла, и там сажа – ну, жди грозы! Но ведь непредсказуемо женское сердце. Вася из тех же верных людей, что и Алешенька. Кажется, пораньше его объявился… уж и не упомнит, забылось. Под минутным воспоминанием – вместо грозы смех:
– Ой, Васенька-трубочист! Когда печи дымить перестанут?
– Когда печника изволите нанять, государыня-цесаревна.
– Так найми, приведи… Как его?.. Онисим!
– Онисим. Да не идет без денег, стервец! Избаловали большие бояре. Я, ежели, кого поскромнее поищу.
– Поищи, Васенька, поищи. Что я еще хотела сказать?..
Забылось, возьми ты его, словцо?
И вместо светлой улыбки, как минуту назад, новый крик:
– Так ступай! Чего торчишь?
Оставив кочергу в царской ручке, он поклонился и вышел.
Кочерга вслед, к дверям полетела.
– Ду-уська!
Эта что-то долго не приходила. Следовало ожидать, как заявилась, очередного предгрозья. Но вместо того:
– Что-то я тебе хотела сказать?..
– Да про брадобрея, поди, государыня-цесаревна.
– Верно, Дуська! Беги, ищи. Да чтоб бритва у него поласковее была. Чего стоишь?
А Дуська уже и не стояла. Она двери толстым задом чуть не вышибла от радости. Настасья Настасьей, а первой-то ее подсказка была: надо привести Черкеса в божеский вид, Имелось в виду: обкорнать под парик.
Прибежавший на зов Алексей на колени бухнулся:
– Господыня! Как я буду без бороды?
– А без головы?
Спорить не приходилось: без головы плохо…
– Молчишь, Алешенька? С разрешения государыни тебе звание гоф-интенданта присвоено, смекай. Да приметен ты, в глаза дурные бросаешься. Парик, он всех под одно лицо делает. Не спорь! Сегодня же приличный лик обретешь.
Они и поспорить, и утешиться не успели, как все сошлось: и печник, и брадобрей, называвшийся по-иноземному, цирюльником. Право, будто единое дело делали: в совместном поклоне сошлись:
– Постричь? Побрить? Кого?
– Трубы почистить? Печи поправить?
Елизавета расхохоталась:
– Да вы хоть не перепутайтесь! Кто стригун и брадобрей – за мной ступай. И ты, Алексей! – уже без обиняков велела.
Повела его в туалетную комнату, примыкавшую к спальне, а следом и брадобрей затопотал. Немец ли, француз ли – ни бельмеса не смыслит. Но дело свое, похоже, знал. Как горячая вода и мыло с Дуськиных рук явились – начало-ось!..
Ножницы залязгали!
Жгучая бритва запосверкивала!
Гребень костяной по голове пошел!
И голос Елизаветы просительный:
– Да ты полегше, полегше, коновал.
Но ведь истинно: работой увлекся, напевал что-то. Да что – непотребство французское. Елизавета-то распрекрасно понимала: все-таки когда-то, еще при матушке, была у нее учительная мадам. Думая, что его никто не остановит, уличное хулиганство распевал. Ну и влепила ему с правой руки, отнюдь не французской худосочности. И сказанула уже на его родном языке, добавив по-русски:
– Козодой охальный!
Без заглохшего песнопения дело пошло споро. Часа в полтора управился брадобрей. Елизавета ему по-французски, чтоб Алексей не противился, подсказывала – там убрать, здесь оставить, а что под парик – только подправить. За что же драть Алешеньку, коли провинится?
Как под конец этой пытки зеркало ему подсунула – он смотрел, смотрел на ощипанного, незнакомого человека… Так и грохнулся головой о туалетный столик:
– Що вы з мени зробыли?!
Брадобрей от этого дикого вопля перепугался. Но Елизавета щедро потрясла ему из лежащего тут же на столике кошеля – прямо на крыльях вылетел вон. Алексея же за оставшуюся чуприну поласкала:
– Вот и видно, что дурак ты, Алешенька. Парик мы подберем волосам твоим под стать. Все девки на тебя заглядятся!
– Не надо мне девок до гробовой доски. Была бы ты, господынюшка…
Чуяло женское сердце: не врет. Не умеет врать.
– А дай-ка награжу я тебя за сегодняшние муки, свет Алешенька…
Недолго раздумывала, сквозь череду горниц поспешный зов послала:
– Ду-уська!
Когда та влетела и заохала при взгляде на Алексея, Елизавета даже ногой притопнула:
– Эк уставилась! Подай венгерского… и чего послаще, ежели осталось.
Оговорка нелишняя: в неоплатные долги перед купцами влезала. Но ради сегодняшнего преображения… Пускай!
– Для чего не веселиться? Бог весть, где нам завтра быть?..
Разговорилась-распелась. На свой лад, извинительно – какая, мол, из меня певица? Чего не поддержишь ты-то, певун заветный?
Алексей понимал, очами темноокими посверкивал. Вспомнив старое, тоже на знакомый мотив срывающимся баском откликнулся:
– Да, где нам завтра быть, Лизанька?..
Не тот воздух в Петербурге, не малороссийский. Давно у него начал оседать голос. Сейчас на клирос к отцу Иллариону стыдно было бы подняться. Вино?.. Может быть, и оно. Да не только же – в самом деле сырость одолевала. Плохо пелось степняку в промозглом Петербурге, хотя жилось-то хорошо. Борода? Эко диво. Новая нарастет.
В Гостилицах полным ходом шло строительство нового флигеля. Присутствие там гоф-интенданта, управителя и просто своего человека – все в одном лице – было обычной необходимостью. Но что-то не очень его тянуло с петербургского двора…
Ревность?
Да, чем больше сдавала императрица Анна Иоанновна, тем ласковее становился герцог Бирон. Алексей с внутренним напряжением, не смея вмешиваться, следил за его посещениями. Елизавета проговорилась: Бирону самому хочется в императоры, а как, если без роду, без племени?.. Дальше можно и не договаривать: вот если бы герцогу да цесаревне единым троном стать?..
Елизавета легкомысленно смеялась, а у него кровь закипала!
Вот и сегодня, собираясь в отъезд, заметил роскошную, забрызганную грязью карету. Зима отступила, но сухое время еще не пришло, окраины Петербурга тонули в непролазной грязи. Даже вышколенная герцогская шестерка крупных прусских лошадей едва проволоклась к «малому дворцу» – считай, купеческой усадебке средней руки. Колеса не крутились, юзом пробивали болотное месиво. То-то мягко на пуховых подушках!
Алексей в свою пролетку тоже пару впряг. Здесь оплывший торфяник, а в лесах будет заплывший водой снег. Может, и верхом придется: в пролетку седло бросил.
Хоть и с заднего двора, но медлил отъезжать. У кареты двое кучеров толклись, трое верховых офицеров. Недолго и спросить: «Кто таков?»
Это не «Слово и дело!» – но если и кнутом просто отделают, врагу не позавидуешь. Алексей за полотном воротницы стоял, время выжидал, чтобы неприметно уехать.
Но герцог на этот раз пробыл недолго: прямо с крыльца прыгнул на подножку подогнанной кареты – и только бичи засвистели!
Сейчас же и Елизавета на заднее крыльцо выскочила, не решаясь в своих еще зимних, коротких сапожках ступить в грязь разливанную. Алексей ботфортами пробуровил ей навстречу. Был он не то в полувоенном, не то в полудворянском одеянии, без шпаги, на которую не имел права.
– Как хорошо, Алешенька, что ты не уехал!
– Чего хорошего, господыня-цесаревна?
Она не замечала его угрюмости. И без того золотистая, сейчас утренним светом навстречу ему светилась.
– Указ, Алешенька! Герцог привез указ! Я трижды государыню просила, чтоб было дворянское звание у моего главного управителя и гоф-интенданта. Без того, мол, нельзя. Все-таки разбросанные поодаль батюшкины имения, разъезды, спросы-расспросы на дорогах. Как бы царскую милость неосторожным подозрением не омрачить… Вот! – протянула она царственно прошуршавший лист.
Хорошо читать Алексей не научился, да и в гневе был. Подпись однако глаз поймал: «Анна».
– Не велика ли цена, цесаревна?
– Дурак… дурачина! Поезжай, пока я сама не огневалась… Постой! – не успел он повернуться, как остановила, убежала во внутренние покои.
Недолго там пропадала, вынесла на вытянутых руках шпагу о всех подобающих ремнях.
Ясный, как и улыбка, голосок:
– Опояшься, Алешенька.
Он непривычно, неловко застегивал пояс, лучезарно смотрела на него, пока нахмурясь, не вспомнила:
– Умирает государыня… Успели! Наверно, это последний ее указ…
– С тем и приезжал герцог?
Никогда ее такой Алексей не видел, даже тогда, в незадачливой бане…
Малый, ухоженный, цветущий ротик вдруг потемнел от злости и сжался в тугой, смертный бутон. Белое, округлое лицо пошло пятнами, рука потянулась к эфесу, кое-как просунутому к ножнам. Он уловил это движение, встал на колено… чтоб ей удобнее было с крыльца рвануть на себя наказующую смерть…
– Простите, ваше высочество… Не обучен я этикету.
– Да? Однако ж встал на правое колено! – как всегда, внезапно и смягчилась она, опять засияла невинным ликом.
– Так ведь приходилось сопровождать вас во дворец, насмотрелся… – не выдал он истинного, отчаянного побуждения.
– Насмотрелся? С козел-то? – еще яснее вспыхнуло белое, прекрасное лицо. – Теперь вправе из окна кареты наблюдать. Авось пригодится. Грядут большие перемены… Ступай с Богом, не серди свою господыню.
Он оглянулся во все стороны – и уже не к руке, к губам, сразу раскрывшимся, припал.
– Нет мне иной жизни, господынюшка моя…
– И мне нет, мой Черкесик… Ступай, – снова готова была осердиться. – Будут новости, дай знать. Не томи!
С этим напутствием и уехал в Гостилицы.