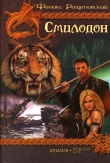Текст книги "А. Разумовский: Ночной император"
Автор книги: Аркадий Савеличев
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 36 страниц)
Между тем в далеких Лемешках и Козельце творилось невообразимое.
Наталья Демьяновна Розумиха уже не жила в своей старой хате, на потолке которой были вырезаны славянской вязью наивные и трогательные слова: «Благословением Бога Отца, поспешением Сына, содействием Святаго Духа создался дом сей рабы Божией Натальи Розумихи року 1711 майя 5 дня».
Алексей родился за два года до вселения в тот дом – раньше у Григория Розума хата была похуже. Стало быть, это третье новоселье. У Розумихи, денежным попечением сына, как бы сам собой выстроился дом в Козельце. Но предпочитала она одно из уютных поместий, принадлежащих когда-то фельдмаршалу Миниху; там тоже построили особый дом, а само место назвали Алексеевщиной, в честь сына конечно. Большой роскоши не было, но и думать о хлебе насущном не приходилось; все делалось само собой, по мановению чьего-то пальчика из Петербурга. Она скучала по своим волам и гусям, оставленным в Лемешках и розданным напоследок родичам. Все ж неприлично было ей самой-то бегать за скотинкой, как и торговать в шинке, – налаженное торговое хозяйство тоже было передано родственникам. Единственно, прогуливаясь от нечего делать в легкой двуколке по окрестностям, она останавливалась у своего шинка, в сопровождении родичей степенно, как положено именитой казачке, входила в шинок, садилась на лавицу у стола; вместе с благодарными поклонами церемонно принимала кружицу и с удовольствием выпивала знакомую варенуху.
В остальном жизнь шинкарки Розумихи мало в чем изменилась. Единая мысль одолевала: вот бы сына-то Алешеньку да в дареной Алексеевке встретить?..
Но не сын ранним утром в роскошном шестерике примчался – нарочный фурьер из Москвы. Офицер, каких она и среди первейших польских панов не видывала. Кафтан парчовый, прозелень золотом шита, малиновые отвороты обшлагов, шляпа как у истинного пана, только не о четырех, а о трех углах, сабля с дорогими каменьями на рукояти, и даже плащ дорожный по черному сукну обшит галуном и застегнут на золоченую пуговицу. Он снял свою шляпу, оказавшись в чужих напудреных волосах, и шляпой же махнул по носкам сапог, как бы сметая с них ненужную в таком важном деле пыль.
– Наталья Демьяновна Разумовская.
Она долго и остолбенело, как уже не раз бывало, смотрела на очередного посланца, но призналась с достоинством:
– А як жа, Розумиха. Ты ж мой покойны козак Григорий говаривал посля горилки: «Що за голова, що за розум!..»
Посланец не стал дальше выслушивать, что было говорено в шинках некогда реестровым казаком Григорием Розумом, а просто подошел и, скинув дорожную перчатку, взял руку Розумихи. Она думала, здоровается так, а он к руке-то губами приложился!
– Що ты, що ты, пане!..
– У меня приказ ее императорского величества Елизаветы Петровны немедленно усадить вас вместе с дочерьми в коляску и без останову скакать в Москву.
– Приказ?.. – совсем растерялась Розумиха – в прошлые наезды гонцы ничего такого не говорили.
Выскочившие при виде дивной коляски дочки пустились в рев.
– Приказаны и подарки, – продолжал гонец. – Вам, Наталья Демьяновна, шуба с плеча государыни Елизаветы Петровны… Подавай, начиная с шубы! – прокричал он слуге.
Тот осторожно вынес голубого бархата шубу, подбитую соболем, и развернул с поклоном на растопыренных руках. Офицер уже сам накинул ее на плечи Розумихи.
– Про дочек сказано, что им по мерке сошьют в Москве. Пока вот каждой по шали и по ожерелью…
Стало заметно, что офицер хоть и разодет в пух и прах, а молод, стесняется девичьих плеч. При виде его замешательства Розумиха маленько пришла в разум, прикрикнула:
– Чего дылдами торчите? Агафья! Анка! Верка! И ты, Авдотья!.. Кланяйтесь!
Кланяться они умели. Да и молоды были, материнского страха не испытывали. Последняя-то – и вовсе племянница, дочка рано умершего старшего сына, Данилы. Визг да голоса восторженные. Не пришлось офицеру вздевать на их смуглые, обгорелые шейки нанизанные камушки – сами разобрались, нарядились. Так и стояла вся семья по жаре кто в собольей шубе, кто с шалью на плечах. Из села понабежали казачки, дивились такой оказии. Иных так прямо в голос бросало:
– Ой, ридна мати!..
– К добру ли?
– Днипро вспять повертае, Десна слезьми тэче, оюшки!..
Гонец не на голосистых баб смотрел – на юных казачек.
Вытянул золотую цепочку из-под камзола, с луковичкой часов – вскричал:
– Заболтался я с вами! Три часа на сборы. Провизия, деньги – пусть вас не беспокоят. Сейчас подъедет провожать вас, сиятельная Наталья Демьяновна, сам полковник Танский. Из Киева, со всей своей свитой. Как говорится, мойтесь, одевайтесь, в дорогу собирайтесь. Есть на кого оставить дом?
– Есть-то есть… – начала рассуждать Розумиха. – Ды куды ж нам тэта добро подевать? – Она потрясла полой шубы, к которой и дотронуться-то было страшно.
– О, люди, люди!.. – развеселился офицер, сразу став еще моложе и доступнее. – Да не в тюрьму же вас везут. Когда-нибудь вернетесь сюда. Оставьте в домашних сундуках… или где там!.. Откуда мне знать. Не тащить же шубу по такой жаре в Москву. Его сиятельство наш камергер мне прямо наказал: не брать ничего лишнего. Его сиятельство, надеюсь, не оставит вас своим попечением.
– Сиятельство?.. Кты ж нам сияе?
Веселый человек был офицер: прямо зашелся в безудержном смехе:
– Да кто ж – Алексей Григорьевич! Первый камергер императрицы Елизаветы Петровны!
– Сынку?.. Не снится ль мне по старости?
Племянница, она же и внучка, бесхитростно фыркнула:
– Какие сны, бабо? Не знаю, как вы, я пошла переодеваться.
Залутошились и дочки, тоже потянулись к крыльцу ладного, по здешним понятиям, даже богатого дома. С шубой на плечах ушла наконец в дом и сама Розумиха.
Офицер крикнул кучеру:
– Расстели мне под вишнями одеяло, я пока отдохну. Да и сам передохни. Разнуздал лошадей, корму задал?..
Ну, хорошего кучера такими вопросами и огорчать нечего. Да офицер и говорил-то уже в дреме. Через минуту сладко запел ось под вишнями…
Жаль, грохот очередной коляски разбудил офицера, который в походе мог спать и под гул пушек. Киевский полковник Антон Михайлович Танский не замедлил явиться. С ним был его сын Иосиф и несколько бунчужных полковников. Все спешили на проводы матери своего знаменитого земляка. Но больше всего удивила посланца расторопная племянница, в хорошем женско-казацком обряде. Завидя новых гостей, она бросилась к дому с криком:
– Бабо! Долго вас ждать?
Долго ли, коротко ли, и остальные женщины выбрались из дому. Все они были в малороссийских нарядах, в розовых, синих и зеленых плахтах и белых вышитых кофточках. Правда, все-таки с порядочными узлами в руках. Офицер-гонец покачал головой, но ничего на это не сказал. Авось поместятся. Карета дорожная, просторная.
Когда полковник Танский и его свита пошли к ручке отъезжавшей в Москву Розумихи, она уже меньше чуралась, только по-молодому краснела и без того не бледными щеками. Даже нашлась пригласить:
– Авось на дорожку?..
– Це дило! – охотно согласился полковник Танский. – Но в моей карете все необходимое есть. Геть, хлопцы! – крикнул повелительно.
Хлопцы высшую киевскую власть понимали с полуслова. Под вишни, где недавно лежал офицер-гонец, скатертью самобранной улегся ковер, а на нем и баклаги, и кубки, и дорожные разносолы.
– Славная жинка Наталья Демьяновна! – на правах старшего возгласил Танский. – Передайте его сиятельству Алексею Григорьевичу, чтоб не оставлял своим попечением нашу ридну Украйну. Быстрой дорожки, Наталья Демьяновна!
А уж куда быстрей. И посидели-то недолго на таком богатом ковре: офицер-гонец стал торопить. Розумиха хотела крикнуть бабам-домочадцам, чтоб помогли прибраться, но полковник махнул рукой:
– Не трэба! Угощайтесь, жинки. И соседей пригласите. А нам в путь. Нельзя задерживать Наталью Демьяновну. С Богом по последней!
– С Богом! – подступили к ковру гораздо более смелые, чем сама Розумиха, ее домочадцы да и соседи.
Диво-то какое по селу пошло: Розумиха в Москву едет!
Напутствие еще гремело какое-то время, но потом шестерик гонца вырвался на просторный шлях – только колеса запели! Полковник Танский со своей свитой, в нескольких колясках, пылил следом, потом протрубил в охотничий рог и отстал.
Курьерский шестерик помчал на Чернигов и Тулу, в бешеной скачке едва успевая менять лошадей. Ну, да на станциях гонец знай покрикивал: «Именем государыни императрицы!» – как тут же заводили новых. А снедали, говоря по-малороссийски, прямо в карете.
Не доезжая трех станций до Москвы, их встречал Алексей.
Он догадывался, что матери будет трудно признать в нем, сегодняшнем камергере, прежнего своего пастушка. Выйдя из кареты, он остановился впереди лошадей и ожидал, когда подъезжавший шестерик, уже довольно взмыленный, осядет на крепкоременных вожжах кучеров. Гнали, видимо, изрядно, пена опадала клочьями с крупов, разъяренные бегом кони все еще рвались вперед. Опасаясь, как бы не смяли встречного, офицер-гонец выскочил и схватил коренника под уздцы.
– Ваше сиятельство Алексей Григорьевич! Все пребывают в добром здравии. Сейчас выберутся…
Долгонько же выбирались. Толкались да охали, пока мать, а за ней и девки сошли по непривычным откидным ступенькам. Алексей с распростертыми руками навстречу:
– Мамо!..
Наталья Демьяновна смотрела на человека в расшитом парчовом камзоле, с чужими, напудренными волосами… не могла его признать.
– Кто ж ты, пане добродей?..
«Постарела-то как…» И он не находил нужных слов, хотя мать была обряжена как истинная казачка, на сторонний взгляд хорошо. Белая сорочка с зелеными наивными петушками очень шла к зеленой же, клетчатой плахте. Сапожки были еще с давней молодости, из свадебного сундука. Зря ее так-то уж состарил Алексей. Он одно растерянно повторял, кланяясь ей в ноги:
– Я твой Алешенька, мамо!..
Она сделала шаг навстречу и покачала праздничной кичкой:
– Не, пане добродею. Алешенька був чернявый, як черкес…
Алексей порывисто скинул камзол на руки подбежавшего слуги и разодрал ворот кружевной рубашки, до самого креста:
– Не видишь, мамо, большая родина, якую ты звала золотой гривной?!
Мать дотронулась дрогнувшей рукой до этой мохнатенькой родины, приходившейся как раз вровень свисавшему на золотой цепочке кресту:
– Яко гривна, бачу…
Одна из сестриц, не ведавшая никаких этикетов, подскочила и запустила пальцы под парик:
– Топорок батюшкин!
Еще пуще вздрогнула и, оттолкнув дочкину ладошку, свою натруженную ладонищу запустила:
– Мае быть, батькин топорок… Як жа так, сынку?
– А вот так, мамо, – обнял он ее, не стесняясь посторонних. – Одиннадцать лет прошло… как один денек!..
Она терлась кичкой о его плечо, до головы не доставая, и больше ни о чем не спрашивая. Сестры пестренькой кучкой стояли у кареты – им еще труднее было признать в этом важном пане своего братца. О топорке-то по рассказам только знали, ну, разве что старшая, Агафья, получше помнила и по наитию догадалась. Малолетки были, когда он садился в обозную повозку Феофана Прокоповича.
– Мамо, мы наговоримся… Дай я с сестрицами почеломкаюсь.
Он-то лучше их помнил, по старшинству обнял: Агафью, Анну, Веру, а племянницу-сиротку особо приласкал:
– Гляди ты, Авдотья! Жениха уже тебе сыскал!
Авдотья была, пожалуй, самой красивой, хотя и сестрам грех было жаловаться. Зарделась, от стыда притулилась к его плечу:
– Ой, кажете, Алексей Григорьевич!
Добрая племянница и не могла называть дядю на «ты». Он легонько отстранил ее – и опять сестрицам, чтоб не обижались:
– Да и по вас женихи плачут. Не засидитесь в девках! Однако ж пойдемте до дому!
Слуга, державший на растопыренных руках камзол, ловко подал его, застегнул, оправил сбившиеся кружева рубашки и склонился в общем поклоне.
– Видишь, мамо, в мою карету приглашает.
Мать впервые улыбнулась:
– Ты ж и наша гарна!
Алексей взял ее под руку и подсадил на подножку, с которой ее принял уже какой-то другой слуга.
Сам вернулся и отдал последние распоряжения гонцу:
– Ты давай передом. Чтоб лошади без задержки на станциях были.
– Будут, ваше сиятельство!
Он лихо подтолкнул девиц, одну за другой, в свою карету, крикнул кучеру:
– Гони!
Так рванули кони, что еле успел захлопнуть дверцу.
Алексей ехал медленнее. Обоих слуг в карете не было – они стояли на запятках. Он усадил мать на переднее сиденье; сам сел на заднее, чтоб напротив. Приоткинув оконце, наказал слугам:
– В получасе от первой кареты держитесь. Не надо слишком гнать, успеем.
Он знал, что Елизавета ожидает их к вечеру, а вечер у нее равносилен полуночи. Для того и факелы припасены были, и верховые преображенцы, за время встречи подкормившие лошадей, попарно выскочили перед каретой. Задержек в пути не предвиделось, какие бы телеги, колымаги, обозы ни встретились, грозное кучерское – двое ж сидели на козлах – прожигало дорогу криком:
– Пади!
– Пади!
Здесь, вблизи Москвы, окрестный люд порядок знал. Заранее отступал на стороны.
Еще солнце не успело окунуться в обмелевшую Яузу, как камергерская карета въехала в ворота Головинского дворца. Офицер-гонец прискакал раньше, слуг предупредил. Алексея и его мать встречала целая дюжина дам разного ранга, от горничных до фрейлин. Мать надо было одеть, прибрать, приготовить ко встрече с государыней. Алексей сдал ее на руки услужающих, а сам пошел к Елизавете доложить как да что. Слуги должны были оповестить, когда приготовления у матери закончатся. Елизавета милостиво согласилась принять мать, когда той заблагорассудится.
Алексей знал рост матери, портные по его описанию заранее приготовили одежду, приличествующую дворцу. Однако ж все следовало подогнать. Да и причесать соответствующим образом еще не очень седые, жесткие волосы неисправимой казачки. Само собой, подбелить, подкрасить, напудрить. Часа два прошло, не меньше. Елизавета изволила даже пошутить:
– Алексей Григорьевич, кажись, царицу побыстрее обряжают?
Встав с кресел, он умиротворяюще прижал руки к груди:
– Свет Елизавета Петровна! Не бывала она в дворцах-то. Первый великосветский курс проходит.
– Ладно, ладно, Алешенька, я ведь понимаю. Иль мы с матерью твоей не женщины?
Отвечать тут было нечего. Он просто поцеловал руку и снова опустился в кресло, готовясь продолжать рассказ о малороссийских делах, – там оставались еще и личные вотчины бывшей цесаревны. А она в глаза не видывала не только своих работных людишек, но даже управляющих. Алексей кое-что исправлял, но тоже знал немногое. Елизавета все понимала:
– Бог даст, на будущее лето я сама к тебе нагряну. Ты не против, моя светлость?
Алексей не успел поблагодарить за такую честь, как заявилась одна из фрейлин:
– Ваше величество, Наталья Демьяновна к аудиенции приготовлена.
– Так ведите же.
Алексей подхватился:
– Не изволите меня камердинером послать?
Елизавета с улыбкой отпустила его. Он побежал навстречу. И поделом: еще в дальней зале он застал мать на коленях перед громадной чередой зеркал…
– Мамо! Наталья Демьяновна! Что вы делаете?..
– А поклон приношу, – с полу ответила та. – Нижайший поклон ее императорскому величеству.
Всю дорогу Алексей втолковывал ей, как следует вести себя перед государыней.
Первое дело, неторопливый и глубокий поклон от дверей. Другое – близкий поклон у ног государыни. И уж потом – обязательно! – припасть к царственной ручке. Чтоб становиться где-то на колени – не говорил! Все вроде бы уразумела Розумиха, на все согласно кивала головой. А здесь, видать, что-то перепутала. Да и горничные с высокородными фрейлинами поленились ей объяснить порядки, даже само устройство дворца. И вот Наталья Демьяновна, обряженная высокородной боярыней, едва вступила в приемную залу, как наткнулась на зеркальную стену. И сама себя не признала… встречь ей шла не кто иная, как императрица. Да так внезапно, стремительно. И, вместо того чтоб поклониться, раз уж ошиблась, она бухнулась на колени посередь дворцового паркета. Но и та, с зеркал сошедшая, бухнулась перед ней. Так они сидели на карачках и кланялись друг перед дружкой… Было от чего с ума сойти!
Алексей, как истый первый камергер, сурово глянул на припоздавших фрейлин и сам поднял мать с коленей:
– Ваша светлость Наталья Демьяновна! Ее императорское величество изволит принять вас в своих покоях.
Он взял мать под руку и, уже не доверяя фрейлинам, сам привел ее в гостиную Елизаветы.
Розумиха была все-таки с разумом. Тут-то она вспомнила дорожные наставления сына и довольно исправно проделала все, что ей полагалось сделать. Да и у Елизаветы было чуткое сердце, она маленько и помогла, еще перед вторым поклоном сама милостиво встала навстречу, так что пришлось прикладываться к ручке, которая сама тянулась к дорогой гостье. А потом и сказала:
– Чего ж мы?.. Поцелуемся, дорогая Наталья Демьяновна!
Право, две деревенские бабы целовались на царском паркете…
Елизавета усадила гостью рядом с собой на диванчик, перед которым уже был поставлен гостевой, приватный столик. За ним имели право сидеть только двое, не больше. Алексею пришлось приткнуться сбоку. Разливая невиданный ни в Лемешках, ни даже в Козельце заморский горячий напиток, называемый кофеем, Елизавета не преминула сразу поставить гостью на одну ногу с собой. А может быть, и чуток повыше. Слова-то, слова какие сказала!
– Благословен плод чрева твоего, дорогая Наталья Демьяновна.
Алексею – хоть беги от смущения. Елизавета разрешила это бегство:
– А что, друг нелицемерный? Поди, есть у тебя и свои дела. Да хоть за братцем младшеньким пошли, тоже по матушке, чай, соскучился.
– Как не соскучиться, государыня! – осмелела гостья. – Я ж думаю…
– Вот-вот, – подхватила Елизавета. – Не волнуй мать, посылай за братцем.
Не во дворце Кирилл, конечно, жил, была снята ему подходящая квартиренка. В общем обозе сюда прибыл, а обретался наособь от прочей челяди.
– Завтра и свидитесь, – заверила Елизавета. – А сейчас-то… Нам, бабам, есть о чем поговорить. Ступай до времени, Алешенька, – кивнула ему по-свойски.
Алексей с благодарным поклоном вышел. И то дело: надо было и сестриц к дворцовым порядкам приучать. Что касается Кирилки, за ним уже было послано; тоже не мешает от любопытных глаз отвести. Здесь ведь не в Лемешках – каждый шаг на виду.
XIНедавняя шинкарка Розумиха была возведена в чин статс-дамы и получила собственные апартаменты в Головинском дворце. С прислугой и со всем придворным этикетом. Она уже маленько понимала, что не перед каждым ей кланяться. Статс-дам при дворе Елизаветы было в короткий пересчет: полагалось присутствовать при всех торжественных выходах и приемах императрицы, и она исправно несла свою должность, как и все, что раньше делала, – торчать ли над огуречными или капустными грядками, сидеть ли за прилавком в шинке. И здесь было сидение, правда, довольно скучное. Ее устраивали в кресле, в самой близости от императрицы, и понуждали отвечать на бесконечные приветствия входящих гостей. И она отвечала легким, суровым наклоном головы, не отрывая от мягкого бархата кресел своей «спидницы». Но какая там спидница! Наряженная в жесткий и широкий роброн, который округлым шлейфом волочился по полу, с голубой лентой через плечо, с миниатюрным портретом Елизаветы на этой ленте, в высокой прическе, нарумяненная, напудренная, – она, право, была величественна. Другие статс-дамы церемонно поджимали губы и в отсутствие императрицы потихоньку злословили – она же пребывала в гордом молчании. Это придавало ей необыкновенную важность. Что уж говорить о всяких пришлых, если сын-то родимый, прежде чем пожаловать к ней, посылал предварительно камердинера, чтоб испросить разрешения. Она разрешала, а потом дивилась:
– Скажи мне, сынку, с чего это меня прозывают сиятельницей?
Сын теперь чурался малороссийской речи, лишь иногда прорывалось:
– Геть их, сплетниц! – Потом сам же и объяснял: – Слухами земля полна, мамо. Государыня хлопочет пред римским императором, чтоб он мне непременно пожаловал титул графа Священной Римской империи. Стало быть, и ты графиней станешь. Так что дамы, мамо, заранее угождают. Нагнала ты на них страху!
– Як жа! Бывало, и в шинке всекого пьянчужку укорочу. Тыж гаркну: геть! Вось як, сынку.
В ее комнатах он похохатывал совсем по-казацки. Да и кафтанишко надевал попроще, мягкого бархатцу, без лент и без звезд. С удовольствием гонялся за сестрами, а Кирилку так и свойской затрещиной угощал, приговаривая:
– Я из тебя, братко, хохлацкую дурь выколочу. Учись говорить по-московски. Не в Лемешках!
– Ды учусь, ды тяжко. Наставники-то… – осекался Кирилл, не решаясь злословить.
– Что, наставляют плохо?
– Гульку на потылице иные выбивают! – с обидой жаловался Кирилл.
– Значит, добрые учителя, – по-своему решал старший брат. – С годик почешут твою потылицу, а потом я тебя за границу пошлю. В лучшие ихние университеты.
Кто-нибудь встревал, чаще всего Авдотья:
– А меня-то?
– А тебя – замуж. И тебя, и тебя! – по-братски трепал их высокие, придворными парикмахерами сотворенные прически.
Почему-то государыне прежде всего приглянулась востроглазая Авдотья. Племянницу сразу возвели во фрейлины, а это значило, что не видать ей ни Лемешек, ни Козельца. Она уже и сейчас большую часть времени пропадала в покоях Елизаветы, – ну, не в личном будуаре, а где-то рядом, готовая ринуться на первый же зов. Когда только и спала! Переходя поздним вечером из своих покоев к Елизавете, Алексей частенько заставал Авдотью в ближних комнатах в окружении других фрейлин. Чем только не занимались в отсутствие своей государыни! Мало, что Авдотья старательно говорила по-французски, так еще и менуэтам училась. Сам Алексей не любил танцевать, а племянницу поощрял:
– Так, так. Иначе как я тебя за графа или там князя замуж отдам? Смекай.
Авдотья краснела, выдавая свои девичьи думки. Поднаторевшая в тайных танцах, она и на бал вместе с другими фрейлинами увязалась. И что же?.. Проходя в буфетную со своим другом Алексеем Петровичем мимо грациозных дамско-кавалерских шеренг, он заметил Авдотью в паре с графским племянником.
– Каково, Алексей Петрович? – толкнул под бок. – Мы с тобой еще только собираемся, а они уже свадебку сотворить готовы…
Бестужев ничего не имел против. Мало, что дружба, так и дорожка в приемную императрицы вела через это же дружество. Так что при матери, – а Наталья Демьяновна и в самом деле стала ей матерью, – Алексей по-братски пришлепывал по тугой спине:
– Ну-ну, не красней, графинюшка. Мы от какого корня? От Розума! В розум девичий и входи.
Когда такие разговоры происходили в ее личных покоях, статс-дама Наталья Демьяновна Разумовская становилась прежней Розумихой и вела себя хозяюшкой-казачкой. Бранила вельможного сынка:
– А, пане добродею! Кум до кумы залицався, так уже и граф? Гляди, каб не гокнуться из князей да обратно в грязи!
Она не знала, что это была его вечная, неотступная думка…
Даже страшновато становилось заходить к матери… Не ведая того, била по живому.
Но когда они бывали одни, чтоб вести такие разговоры? Малороссов и без того было много, а на коронацию понаехало – что гусей в Лемешках или Козельце. Да вместе со своими разодетыми гусынями. И все считали своим долгом засвидетельствовать уважение знаменитому земляку, а проще всего было – через его матушку. Видели, что ведь скучает она в облике придворной статс-дамы. Сам полковник Танский, провожавший ее в Московию, следом прискакал со всеми домочадцами. А уж других-то полковников!.. Статс-дама снимала с себя надоевшие роброны, облачалась в плахту и расшитую сорочку, начинала распоряжаться:
– Геть, девки! Ковер на пол.
В самом деле, что за гостевание за столом? Пластали на паркет царские ковры, распахивали окна, скидывали туфли и сапоги, – что статс-дама, что другие бабы, – все голоножкой на боку, вместе с растелешенными мужиками. С непременной скатертью-самобранкой посередь круга. С непременной горилкой, сливовой, не то вишневой. Ну его, венгерское или французское! Одна кислость во рту. То ли дело у них, по-казацки. Наталья Демьяновна опять становилась разбитной шинкаркой и щедро разливала по царским кубкам доморощенную горилку. Под звон серебряных чар полковник Танский умильно просил:
– Алексей Григорьевич, спиваемо?
У Алексея давно пресекся голос, но в окружении земляков вроде и взлетал кречетом. Он охотно запевал:
Ой, уризала русой косы
Да казака курыла…
Ему охотно, особенно падкие до всякой ворожбы женщины, многоголосьем подтягивали:
Уризала чорнаго чубу
И дивчину приворожила…
Известно, что Елизавета раньше полуночи никогда не ложилась. Не дождавшись друга любезного, не дозвавшись его даже через фрейлину Авдотью, она догадывалась, что променял он ее на матерь хохлацкую. В гневе самодержавном, и всего-то при одной горничной, шла через бесконечные дворцовые переходы в апартаменты своей статс-дамы… и находила ее в одной сорочке, а друга любезного – и без башмаков, и без камзола, головой на коленях чьей-нибудь женушки-хохлушки. Свеча, с которой влетала Елизавета в покои статс-дамы, не сразу поднимала переполох; некоторое время еще мычал в коленях разлюбезный Алешенька:
Ой, уризала чорнаго чубу…
Потом все же замечали стоявшую у порога государыню, при одной горничной и при одной свече, и вскакивали кто вверх, кто вниз головой. Надо было видеть суматошные поклоны пьяных хохлов! Будь на месте Елизаветы, скажем, Анна Иоанновна, она сейчас бы клич подала: «А рубить им головы!» Но в разъяренном виде влетала все-таки дочь Петрова, яблочко от яблони. Она стояла некоторое время, подперев бока, глядела, как пытались обуваться-одеваться ее перепуганные людишки, как путали кафтаны и обувку – кому доставался сапог с башмаком, а кому и башмак с дамской туфелькой… Долго, безгласно мытарила она всех, а особенно друга разлюбезного, припадавшего к ручке… и вдруг самолично скидывала атласные туфельки, шлепала ими по склоненной повинной голове… и разражалась безудержным хохотом:
– В самом деле, почему не веселиться? Бог весть, где нам завтра быть… Мой камергер! Усадите ли меня в свой круг? Не ослабли ли у вас ручки?
Алексей знал, как гнев на милость меняется. Он подхватывал сразу размякшую государыню, не такую уж тощенькую, прямо на руки и возносил на ковер. И покаянно говорил:
– Чтоб не полошить слуг, я сам сбегаю за французским…
– У вас-то что? – оглядывала самодержавная гостья ночную самобранку.
– Горилка, ваше величество… – еще не придя в себя, бубнил киевский полковник.
– Вишневая варенуха… – торча на коленях перед государыней, винилась бывшая шинкарка, у которой даже в ее шинке бывало венгерское.
– Так за чем дело стало? Не пивала я варенухи!
Ей наливали сразу в несколько рук, но она брала от Натальи Демяновны, напоминая:
– Благословен плод чрева твоего, а то бы…
Не стоило объяснять, что было бы!
Но ведь быльем поросла гневливость. Женщина, сидевшая на ковре в одних чулках, была уже не императрицей, а просто гостьей развеселой. Варенуха-то славная! А после нее разве ноги в пляс не идут?
Может, вспоминала Елизавета Александровскую слободу, может, бедный, разгульный домок на Васильевском острове – вскакивала оглашенная:
– Бандурист!
С приездом матери тут всегда водились бандуры, и Алексей не забыл свое прежнее ремесло. Бандура взрывалась не песенной – плясовой ярью, крепкие, точеные ноги Елизаветы еще подгоняли:
– Шибче!
А куда уж шибче? Дрожали, наверно, не только покои новоявленной статс-дамы – дворец Головинский содрогался от одного перехода к другому. Алексей передавал бандуру кому-нибудь из земляков и сам подскакивал на помощь. Наверно, в полуголодной молодости еще не так плясывала Елизавета, но и сейчас было немыслимо за ней угнаться. Все же гости не могли сидеть, когда плясала государыня, и поначалу робко, потом все хлеще начинали топотать, с русского переходя на гопак. Впрочем, что тут считать русским, что хохлацким? Топоток плясовой везде един. Варенуха ли, французское ли – кровь-то одинаково гонят. Елизавета в усладу себе плясала. Алексей же в сладость ей подплясывал, не замечая своих голых ног. Только когда Елизавета, споткнувшись о ковер, валилась на пол, он подхватывал ее, осторожно усаживал и кричал бандуристу:
– Да хватит!..
После одной из таких посиделок Елизавета призналась Алексею:
– Жаль, что матушка собирается домой.
– Что делать, господынюшка. Какая она статс-дама? Тоскует по ридной хате…
– Да… Но ведь Авдотья остается? И Кирилл?
– Останутся, если ты дозволишь.
– Дозволяю, с превеликой охотой.
К этому разговору они больше не возвращались. Наступала осень. Двор собирался в Петербург. Понаехавшие на коронацию чиновные дворяне разбредались по своим губерниям.
В начале октября Наталья Демьяновна, уже собравшись в дорогу, пришла проститься с государыней. Думала, все по-людски – как же не возблагодарить свою великую благодетельницу? Но какой-то бес ее, видно, под бок пырнул: вдруг опять бухнулась на колени и уже не на свое зеркальное отражение – на лик государыни взмолилась. И уж совсем не по этикету, который предписывался статс-даме, решилась на тот вопрос, который мучил во все царское гостевание. Да и словами такими:
– Скажи, великая государыня, – все ли по закону у вас с моим сыном?!
Елизавета все, что угодно, могла ожидать от неотесанной хохлушки, но не такого же. Видно, первым желанием было – кликнуть первого попавшегося камер-лакея, чтоб вытолкал в шею несообразную допросчицу, но в противоположную дверь, со своей стороны, торкнулся Алексей и, видя такую сцену, поспешил мягко прикрыть дверь. Елизавета все же его заметила. Загоревшийся во влажно-горячих глазах гнев потух. Она постояла над поверженной матерью своего «друга нелицемерного» и так же нелицемерно сказала:
– Все по закону, скорбящая матерь. Оставь свою скорбь и поезжай с Богом… свекровушка дражайшая!
Статс-дама, опять забыв весь этикет, перекрестила ее и радостно согласилась:
– И тебе с Богом оставаться… моя великая невестушка!
Позабыла даже к ручке припасть, позабыла разрешения испросить, резво выскочила в дверь, за которой только что скрылся сын.
Слышал ли, нет ли он глупый вопрос – ласково посоветовал:
– Отдохни, мамо, перед дорогой и больше никого не беспокой.
Ни сетовать, ни объяснять ничего не стал, просто проводил до ее покоев…