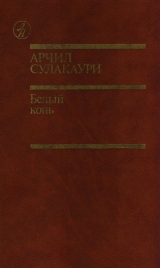
Текст книги "Белый конь"
Автор книги: Арчил Сулакаури
сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 29 страниц)
12
Через шесть дней из деревни пришла телеграмма от Маро-учительницы: «Анано плохо, приезжайте». Отец разнервничался и раскричался: «Не время среди зимы туда ехать, я и так по горло в делах». Он рвал и метал. Потом постепенно успокоился и сказал: «Черт с ним, завтра поеду». «Мы должны ехать непременно сегодня, – сказал я. – Этой же ночью!» Я чувствовал, что Анано или очень плохо, или… возможно… Я не скрывал предчувствий. Отец задумался, повторяя: «Не может быть, не может быть…» Он опять разволновался, искал и не находил выхода, видно, он и впрямь очень был занят. «Мы не сможем поехать вместе», – сказал он и принялся писать записки, Потом наказал мне, куда их отнести и кому передать. Он спешил, но не растерялся – привел все в порядок, разложил по местам. Засунув руки в карманы, он долго ходил взад-вперед по комнате. Потом остановился у шкафа, достал из кармана ключ, с грохотом открыл один из ящиков, выдвинул его и заглянул внутрь.
– Здесь деньги! – сказал он. – Если нужно будет, завтра же сообщу – приезжай и захвати их с собой. – Часть денег он положил в карман.
Ночью я почти не спал. В беспокойстве ходил из комнаты в комнату. Мучился, мысленно спасал Анано, возвращая ей здоровье. Поставил ее на ноги, отца отправил в город, а сам остался с ней до весны. На моих глазах растаял снег, зазеленели листья выстроившихся вдоль нашего забора тутовых деревьев – я пересчитал их: было опять одиннадцать. Анано сказала мне: «Я должна развести шелковичных червей, не стоять же деревьям напрасно». Потом я немного вздремнул, и мне приснился черный петух, восседавший на саманнике. Вытянув шею, он махал крыльями, стараясь закричать, и не мог.
На второй день отец прислал телеграмму – приезжай!
Я понял, что Анано больше нет.
Вечером я пришел на вокзал. Тот, кто ездил в ту пору кахетинским поездом, помнит, наверное, что купить билет не составляло труда: продавали столько билетов, сколько надо. Если у тебя был билет, ты мог даже повиснуть на подножке или влезть на крышу вагона – одним словом, на станции не остался бы.
Не важно, как я ехал, главное, что утром я уже был в Телави и, запахнув пальто поглубже, сидел на линейке. Я знал, что не застану Анано в живых, но сердце надеялось на что-то, не хотело до конца поверить в несчастье! Я трясся по заснеженной дороге, и, пока наша повозка не остановилась в центре деревни, лучик надежды все еще теплился в моем сердце. Ступив на землю и заглянув в глаза знакомым, я убедился окончательно: непоправимое случилось. Я словно ждал этого дня: Анано сама внушила мне, что так будет. Но то, что предсказывала Анано, произошло на удивленье скоро и по причине мне непонятной.
Первым ко мне подошел почтальон и спросил – приехал? Я ответил: «Приехал». «Это я тебе сообщил, – заявил он и пожал мне руку в знак сочувствия. – Как хорошо эта благородная женщина смотрела за тобой… Но вот дала тоске извести себя… Э-эх, все бренно в этом мире!» – сказал он и отошел. Потом подошли и другие, те, что стояли без дела около парикмахерской и вели разговоры, жалея Анано, сокрушенно качая головами.
Я шел по колено в снегу. Все, насколько видел глаз, было заснежено: деревья, дома, лесистые пригорки за домами. Я шел по снегу и думал – только бы не встретили меня причитаньями. Еще издали я увидел, что в нашем дворе хлопочут женщины: ворота были открыты.
Я зашел во двор. На балконе вдоль стены стояли мужчины. Дверь большой комнаты тоже была открыта. Я поднялся по лестнице – все взоры обратились на меня. Мне стали жать руку. «Молодчина, – сказал отец, – мы ждали тебя завтра утром. Зайди, взгляни на нее…» «Сейчас не могу», – сказал я. Мужчины расступились и дали мне возможность встать между ними, у стены. В это время со двора кто-то из женщин крикнул: «Парень, наверно, голодный, пришлите его сюда».
На второй день с утра шел снег. Он падал крупными хлопьями, величиной с ладонь. Фидо Квалиашвили сказал, что раз снег крупный, то скоро он перестанет, – но вдруг посыпал мелкий снежок, который ложился на землю и не таял. Я стоял рядом с отцом, прислонившись спиной к стене, там, где меня вчера поставили. Фидо Квалиашвили вел себя как близкий, отдавая распоряжения и руководя людьми…
А люди шли и шли, без конца. Передо мной прошла вся деревня. Я всех узнавал и в глубине души был рад видеть их снова, всем пожимал руку и выслушивал слова искреннего соболезнования. Пожав мне руку, они шли дальше, к открытым дверям комнаты, где лежала Анано. Вокруг нее сидели женщины в черном, время от времени кто-нибудь из них начинал плакать и причитать, потом опять воцарялась тишина. Все происходило без лишней суеты, шума и движения – каждый четко знал и выполнял свое дело.
Вот появились и Кариаули, все четверо вместе вошли во двор, похожие на заснеженные горы. (Кариаулева вдова пришла раньше и сидела в комнате.) Отец вздрогнул, переступил с ноги на ногу и выпрямился. Сначала подошел и пожал нам руки Кариаули-отец, потом – мать. Когда дочки протянули руки моему отцу, у них было такое выражение лица, что мне показалось: они вот-вот рассмеются. Но они вовремя опустили головы и прошли в комнату. Меня они почему-то обошли стороной, руку пожать не захотели. Когда девицы-дэвы отошли, отец наклонился ко мне и по-деловому зашептал: «Хороним Анано на старом кладбище, рядом с родителями». Вчера он уже сказал мне это – и в более естественной обстановке. Зачем ему понадобилось повторять это сейчас? Неужели, чтобы показать, как его волнует могила? Я же как раз в это время думал: как только приеду в Тбилиси, пойду к калбатони Мариам и скажу: «Каталог вашей библиотеки должен составить именно я, пусть даже для этого понадобится два года».
Вдруг я услышал голос Фидо Квалиашвили и понял, что настало время похорон. Женщины вышли из комнаты, и зашли мы, мужчины. Прикрыли дверь, подняли гроб и три раза повернули его, потом трижды стукнули передней частью об дверь, открыли ее и вынесли Анано во двор.
Всю дорогу шел снег.
Мы оставили позади наш дом, ворота, улицу и стали подыматься в сторону кладбища. Этот подъем я всегда считал дорогой к церкви и никогда не думал, что он ведет на кладбище. Идти по снегу было трудно, ноги скользили, но мы все-таки медленно продвигались, вперед, все выше и выше – к церковной ограде…
В Тбилиси я вернулся один. Отец остался: «Не могу все бросить, присмотрю за могилой и приеду потом».
…Первая ночь в деревне была удручающе-тяжелой. Я еще в поезде, когда ехал из Тбилиси в Телави, не смог найти себе сидячего места. Пришлось ехать стоя, да и в деревне я устал и не выспался. Ходил то по балкону, то из комнаты в комнату. Было морозно. Окна и дверь средней комнаты, где лежала Анано, были открыты. Люди шли всю ночь напролет, и я уже не понимал, кто входит, кто выходит. Они совещались с отцом и Фидо Квалиашвили насчет завтрашних похорон. У меня было такое ощущение, что ночью вся деревня вместе с нами не спала.
Почтить память Анано пришла тьма людей – оба балкона и все комнаты были переполнены! Никто не сказал лишнего, да и вина сверх меры никто не выпил. Поминки прошли пристойно и умеренно, и уже одно это говорило 0 том, как деревня любила и уважала Анано. Я не прилег ни на минуту, все сновал вверх-вниз по лестнице. И в комнатах набегался, следил, чтобы всего на столах было вдоволь. К вечеру тело у меня онемело и отяжелело… И голова кружилась…
Соседи предлагали нам ночлег – отдохните у нас, этой ночью здесь вам трудно придется. Отец отказался, и нам действительно пришлось трудно. Соседи все наскоро поубирали (остальное, мол, завтра) и ушли, а мы с отцом остались одни в осиротевшем доме, без Анано. Мы оба не снимали пальто и, заложив руки в карманы, маялись от стены к стене. Отец несколько раз упомянул Фидо Квалиашвили – хороший он человек, стоящий мужик. Меня тоже растрогал председатель колхоза: он взвалил бремя тяжелых дней на свои плечи, он верховодил, он распоряжался. Мне, правда, думалось, что он это делать обязан как председатель. Но все оказалось не совсем так.
Меня мучило ощущение, что похоронили не Анано, а кого-то другого. Порой мне слышались ее шаги, и я ждал, что дверь вот-вот откроется… Знал ведь, что слух обманывает, своими руками засыпал Анано землей, но, несмотря на это, напряженно ждал звука ее шагов, всматривался в дверь. Это беспочвенное ожидание меня удручало и выматывало.
Не понравилось мне, что почтальон так прямо сказал: «Дала тоске извести себя». Я-то думал, что история Анано была ее сердечной тайной, а тут вдруг первый встречный выпалил тайну мне в лицо. Как странно и как двусмысленно: дала тоске извести себя… От деревни разве что укроешь, деревня все знает. А ты так скрывалась – ничего никому не рассказывала и бросила неповторимую свою жизнь на съедение тоске…
Отец метался и мучился, хотя виду и не подавал: что-то его тревожило, а что – не говорил. Зная отцовский характер, я был уверен, что долго он не выдержит, не сможет скрывать, скажет. Он начал было говорить: «Зачем мы себя убиваем, достаточно, что другие нас убивают…» Но мысль не закончил – в комнату вошли мои одноклассники. Их было двое – Белый Ника и Черный Ника, один – светловолосый, другой – чернявый. Их и называли «черным» и «белым», чтобы легче различать. Они зашли озябшие и в снегу, со словами: «Ну и холодина, собаку на двор не выгонишь», отряхнули снег у печки и затопали замерзшими ногами. Отец словно ждал их привода, тотчас надел шапку и ушел. «Схожу к соседям и вышусь скоро», – бросил он уходя. К кому из соседей он пошел, не знаю, но только остался он там до утра.
Я от всей души обрадовался приходу ребят. Они были на похоронах и выразили позавчера соболезнование, но вот пришли и сегодня. Я не видел их больше полугода. Мне показалось, что они изменились, как бы возмужали. Во всяком случае, на школьников они уже похожи не были.
– Ты тоже изменился, – сказали они, – у тебя опять городской цвет лица… Как живешь, где учишься?
Под конец они вспомнили о Зизи: «Знаем, что она поступила в институт и хорошо учится. Наверное, вы с ней каждый день видитесь. Не знаешь, почему она не приехала?..» Они смотрели на меня со счастливой, чуть застенчивой улыбкой, и я вдруг вспомнил, что оба Ники были тайно и безответно влюблены в Зизи. Когда я сказал, что видел Зизи всего один раз, они не поверили. Правдой и неправдой убеждал я их в этом, пришлось приводить веские доводы, но старался я напрасно – они ушли с улыбкой недоверия, думая, что я обманываю их из добрых побуждений, не желая расстраивать рассказами о ежедневных встречах с Зизи. Только после того, как оба Ники ушли, я задумался и обиделся: и впрямь, почему она не приехала на похороны Анано, неужели мать не сообщила ей? Не может быть. Она, конечно, послала телеграмму.
Отец застал меня дремлющим на стуле, замерзшим, без сил. Я даже не заметил, как погасла печка. Мне вспомнилось, как шесть месяцев тому назад мы с Анано стояли ночью на балконе и она сказала: «До рассвета еще далеко». Отец вошел так же спокойно, как и вышел, словно отсутствовал всего несколько минут. Но я уже его неожиданное исчезновение близко к сердцу не принимал. Наоборот, мне даже нравилась эта неугомонная и неиссякаемая энергия. Одно было ясно – в деревне он чувствовал себя лучше и свободнее, чем в Тбилиси. Там он казался мне скованным и подавленным.
– Видишь, что с нами Анано сделала, – едва войдя, сказал он сокрушенно. – Вышла бы замуж за Фидо Квалиашвили, а то убила себя невесть из-за кого.
– С какой стати, почему за Фидо Квалиашвили? – я встряхнулся и напрягся: это было для меня открытием.
– Почему? – отец вышел из комнаты и сразу вернулся, неся с собой несколько пачек треугольных конвертов. Он бросил их на стол – вот почему! – Здесь больше сорока писем. Все с фронта… Понял? Вышла бы за него, и детей бы родила, и сама была бы жива и счастлива, и нам было бы спокойно. Нет, не захотела! И вот что вышло… Да и он старится без семьи.
– Может, она не хотела.
– А чего она хотела – этого?
– Так уж вышло…
– Ты тоже хорош!.. Полюбила бездомного.
Я думал, что знаю об Анано все, что она ничего от меня не скрывает. Но этот Фидо Квалиашвили… Видно, она не придавала ему значения, а то непременно рассказала бы, намекнула. То, что председатель проявлял к нам особое внимание, я замечал: он снабжал нас дровами и выделял долю из общего урожая. Однажды даже подарил мне башмаки… Я хорошо знал нрав Анано, не в ее правилах было принимать подарки, хотя… Может, это был не подарок… Фидо Квалиашвили… Я даже не знал, что он был фронтовиком. Тем более не знал я о его письмах…
– Что теперь будет с домом, с виноградником? Кому на горе все это достанется? – Отец места себе не находил, и я догадывался, в чем причина волнения. Про себя я думал: не этот разговор раз и навсегда решит судьбу нашего дома, которому Анано давно вынесла приговор. Теперь я не сомневался, что сказанное ею сбудется. Отец мой был человеком сердечным, и, конечно, судьба нашего дома его беспокоила. Но сейчас он играл, стремясь внушить мне, что и там, откуда он только что пришел, он тоже думал лишь об этом.
В тот же день он отправил меня в Тбилиси, а сам, чтобы присмотреть за нашим домом и за могилой Анано, остался.
В поезде я вспомнил, что ни на панихиде, ни в день похорон, ни потом Илоевых детей я нигде не видел. Это меня удручило.
Сразу по приезде в Тбилиси ко мне заявился Дурмишхан и без обиняков объявил – из института тебя исключили. Честно говоря, я давно уже забросил институт, не сдал ни одного зачета и экзамена, но все же известие меня огорчило. В душе остался неприятный осадок. «Хоть бы документы успел забрать», – подумал я. Дурмишхан искренне сокрушался, искал выхода из создавшегося положения, предложил вариант восстановления, упомянул влиятельных лиц – мол, сходим к ним, – но при этом осторожно предупредил: «Знай, что тут не обошлось без Ламариного отца». Я не верил, но он убеждал, что это так – иначе меня по крайней мере вызвали бы и предупредили. «Если бы ты вовремя пошел и извинился, этого не случилось бы». Я поблагодарил Дурмишхана за сочувствие и заверил его, что и сам возвращаться в институт не собираюсь. Дурмишхан поразился, не поверил, прошелся взад-вперед по комнате и удивленно на меня воззрился.
– Как это так, человек с твоими способностями бросает институт?
– Да, я перехожу в университет.
– В университет? Хочешь стать учителем?
– Посмотрим.
– Сумасшедший!
– Какой есть, – засмеялся я в ответ.
– Я думал, ты поможешь мне… Бичо, ты соображаешь, куда идешь?
– Соображаю.
– Я на тебя по геодезии надеялся, а что мне теперь делать?
На другой день я забрал документы и прямиком отправился к калбатони Мариам. Я шел огорченный. Все-таки не ожидал, что мне так равнодушно выдадут документы. Никто даже не спросил, что случилось, как это вышло. Выпроводили холодно, без единого слова. Кроме Дурмишхана, никто не огорчился. Но не беда, такой, как он, в жизни не пропадет, найдет кого-нибудь, кто его поддержит и экзамен сдать поможет…
Калбатони Мариам открыла мне дверь своей библиотеки и впустила меня.
Не знаю, как бы сложилась моя жизнь, не откройся эта дверь…
Правда, в душе еще жили обрывки первого впечатления, сложившегося из рассказа Зизи. Вначале мне пришлось очень трудно, хотя я быстро освоил библиотечное дело: вооружившись ручкой, чернилами, тетрадями, я с большим рвением взялся за работу. Бесконечно повторялось одно и то же: нужно было снять книгу с полки, обтереть тряпкой пыль, потом выписать фамилию автора, заглавие, время и место издания, имя издателя… Вернуть книгу на место… После этого снять вторую книгу, потом третью, четвертую, пятую и так без конца…
Я ходил регулярно, каждый день, как на работу. Так прилежно я даже институт не посещал. Но раз решил и обещал, то отказываться от работы нельзя. Хотя в душе назревало нечто похожее на протест. Теперь мне понятнее стали бунт и бегство Зизи. Когда через месяц я показал свою работу калбатони Мариам, она поразилась, как я столько успел. Я улыбнулся, думая, что она меня подзадоривает, но ошибся.
– Озо, – сказала калбатони Мариам, – не думайте, что я наняла вас чернорабочим. Если вы будете продолжать в том же духе, я вас к библиотеке не подпущу. Я хочу, чтобы вы вынесли отсюда больше, чем оставите. Ну-ка, скажите, что вы прочли за этот месяц?
– Ничего. (Я добросовестно заполнял тетради, и мне даже в голову не приходило взять и прочитать что-нибудь.)
– Когда вы берете книгу в руки, когда читаете фамилию автора и заглавие, загляните в нее, пожалуйста, полистайте – вдруг она вас заинтересует. Если заинтересуетесь… Тогда… Да вы что, только обложки рассматриваете? Бог мой, слыханное ли дело – так обращаться с книгой. – Вдруг возмутилась калбатони Мариам, потом ненадолго задумалась. – Пять лет сюда никто не входил, никто не раскрывал эти книги… У меня просто душа болит. Я не могу этого вынести. А вы, мой хороший, попали в библиотеку и не читаете книг?
Я не нашелся, что ответить.
У окна стоял маленький четырехугольный столик, куда я сносил книги и работал с ними. Это было уютное место: когда я уставал, то мог смотреть на склоны Мтацминды или на Куру. Слева виднелись подвесной Мухранский мост и часть реки, стоило лишь чуть наклонить голову. Сначала я сидел за этим столом как осужденный, но потом постепенно полюбил библиотеку. Оказывается, книги могут увлечь и затянуть.
Отец думал, что я прилежно хожу в институт, и верил: раз он так хорошо учится, то из него выйдет хороший инженер. Я тайны своей не раскрывал, пока не сдал приемные экзамены в университет. Узнав истину, он развел руками: «Что ж, пусть будет, как ты хочешь». Я заметил, что мой переход из института в университет ему не по душе. Очень он огорчился, но что поделать – пути назад не было. Он разочарованно смотрел на единственного сына, который не захотел получить техническое образование.
Поступив в университет, я ходить в библиотеку калбатони Мариам не переставал; не мог же я начатое дело оставить на полдороге. К сентябрю составил список из четырех тысяч книг. По моим предположениям, это была треть библиотеки.
Познакомился я и с соседями калбатони Мариам. Вернее, они сами захотели со мной познакомиться. Их мучило любопытство: зачем я прихожу и что меня связывает со старухой? В насмешку они называли ее Княжной. Не могу сказать, что они ее ненавидели, но и любить не любили. «Старее ее камня на берегу реки не сыщешь… Ей сто лет в обед, а вы только поглядите, как порхает, – аки птичка…» Больше всего их волновала библиотека: «Мы по десять человек ютимся в норе, а у нее огромный зал пустует…» Библиотеку они считали пустой комнатой. Но калбатони Мариам была словно бы заключена в прочную звуконепроницаемую оболочку: до нее эти разговоры не доходили! Человек необыкновенной памяти, каждый вечер она с блаженной улыбкой принималась вспоминать давно минувшие дни. Она точно помнила, кто и когда приходил, какую книгу просил и сколько времени тратил на чтение. Калбатони Мариам жила этим.
Ровно полтора года – восемнадцать месяцев понадобилось мне, чтобы составить опись всех книг калбатони Мариам. В конце июня сорок седьмого года я каталог закончил. Включая энциклопедии, библиотека насчитывала одиннадцать тысяч сто семьдесят шесть книг и журналов. Причем за это время я множество книг успел прочитать и кое-что выписал. Я мог закончить опись значительно раньше. Но много времени занимал университет. Порой неделя проходила так, что я заглянуть в библиотеку не успевал. Бесцельное шатание по улицам с товарищами, дни рождения, походы в кино и на стадион «Динамо»… Какой смысл без этого могла иметь жизнь!
Каким образом будет оформлена передача библиотеки университету, я не знал. Калбатони Мариам говорила, что оформит передачу в нотариальном порядке. Я понятия не имел, что нотариусы существуют и в наше время, считая их лишь неизменными персонажами французских романов. Калбатони Мариам с самого начала говорила мне: «Я не тороплюсь с завещанием, всегда успею», – и не торопилась… Эта сторона дела меня не касалась, и я вопросов не задавал.
Я был благодарен Зизи за то, что она познакомила меня с этой женщиной. А по Зизи я скучал. Мне многое нужно было ей сказать, но я встретиться с ней не мог никак. Где она была, что делала, чем жила? Хотя иногда – правда, реже, чем раньше, – до меня долетало: «Я познакомился с твоей родственницей…» С тем, что Зизи – моя родственница, я уже свыкся. Меня мучило, что я оставил ее без внимания, но где было искать ее в большом городе? В середине сентября я зашел в театральный институт разузнать о Зизи: «Такой студентки у нас не было и нет», – ответили мне. Был я на премьере в руставелевском театре, был в марджанишвилевском, шел на спектакль с надеждой, что сегодня встречу Зизи непременно. Тщетно.
Отец осуждал меня и обвинял в бездушии: «Стыдно! В конце концов, трудно ли найти девочку? Если возьмусь я, то завтра сюда приведу!» Он взялся всерьез, но и это было напрасно.
– Хоть бы мать ее адрес прислала. Тогда бы мы Зизи нашли, а так – зачем впустую по улицам бегать, – сказал я в сердцах.
– Думаешь, мать знает?..
– Как, и мать не знает?
– В том-то и дело, что она не знает и сходит с ума! – с горечью произнес отец, а потом спросил – Бичо, а может, этой девчонки и вовсе нет в городе?
Сведения о Зизи еще один-два раза долетали до меня – значит, она была в городе. Но постепенно заглохли и эти отголоски – она исчезла начисто. Но, несмотря на это, судьба Зизи не пугала меня, и теперь я верил, что она не пропадет. Слава богу, мне больше не говорили со скрытой иронией: «Я познакомился с твоей родственницей, она так пела, так плясала и еще по-тарзаньи кричала!» Зачем эта дуреха кричала по-тарзаньи?
Наверное, она образумилась, успокоилась, на сомнительных кутежах бывать перестала. После летней сессии я собирался в деревню и был уверен, что увижу там Зизи.
Меня беспокоило другое. Отец постепенно приучил меня к мысли, что наш дом будет не сегодня завтра продан. Анано предсказала мне это заранее. Продажа дома, как я выяснил в разговорах с отцом, и вправду была неизбежна. Он сказал коротко и ясно: «Желающий иметь дом в деревне должен там жить». Это закон, и нарушить его никто не может. Раз так, то ничего не поделаешь. Но меня раздражало, что отец был доволен этим. Я попросил его: «Может, проведем это лето в деревне и продадим потом?» Он засмеялся: «Не так-то легко будет этот дом продать, я не знаю в деревне человека, который купит дом Анано». «Что же делать?» – спросил я. «Нужно искать покупателя в другой деревне». Под конец у него вырвалось: «Дай бог его продать. Наконец поживем по-человечески!»
Летнюю сессию я закончил вовремя и приготовился к отъезду в деревню. Пошел к калбатони Мариам – хотел узнать, оформила ли она завещание и когда собирается передать библиотеку университету.
Скрывать не буду, мне, раз я вложил маленький вклад в это дело, хотелось при акте передачи присутствовать и, если нужно, помочь. Лучше меня никто не знал, где лежит какая книга.
Выйдя на улицу, я встретил товарища, и тот пошел со мной. Лука жил в соседнем с нами дворе, мы с ним были почти одного возраста и до войны все детство проводили на берегу Куры. Во время войны он хлебнул много горя, но все выдержал и в прошлом году сдал экзамены в университет. Все, кто знал Луку, удивлялись и восхищались им. Он нравился девушкам, хотя внешне не блистал, был среднего роста, с коротко подстриженными выцветшими волосами. Был он всегда задумчив и, казалось, знал больше, чем показывал. Удивительно он умел слушать – с большим интересом, не прерывая. Где в наше время найдешь человека, который искренне интересуется тем, о чем ты говоришь?
По дороге я рассказал ему, куда иду, и он даже не поверил, что в Тбилиси есть такая богатая библиотека. «Знай я раньше, помог бы тебе», – с сожалением покачал он головой, сокрушаясь, что упустил столь редкую возможность. Потом он заторопился, стал меня подгонять, словно ему не терпелось тут же увидеть и потрогать эти книги.
Мы быстро дошли до улицы Платона. На маленькой улочке перед домом калбатони Мариам суетилось подозрительно много народу. Подойдя ближе, мы увидели, что люди выносят со двора книги и куда-то тащат их в ведрах, тазах, стиральных баках, мешках, наволочках. Сначала я подумал: калбатони Мариам оформила завещание, вот университет и уносит завещанное. Но нет, так с сокровищем не обращаются. Люди с горящими глазами спешили – кто кого опередит. «Что происходит?» – спросил я старушку, которая однажды посвятила меня в сплетни и интриги двора.
«Княжна Мариам умерла, – сказала она с сожалением. – Вчера на нее наехал фаэтон, и она скончалась на месте. Ее пока не привезли, она в морге. Никого-то у нее, у бедняжки, не было».
Сердце у меня оборвалось, я побежал к калитке и заглянул во двор, где в огромную кучу были свалены книги. Они валялись прямо на земле, и люди без разбору хватали их, пихая в ведра, мешки, наволочки. Эти книги выносили не из галереи калбатони Мариам, а почему-то из комнаты соседей. Я мигом оказался возле этой комнаты и закричал: «Что вы делаете!» Но никому до меня дела не было, все – от мала до велика – сновали взад-вперед и без конца выносили книги.
Я вошел в комнату, где в проломанной наскоро стене виднелась библиотека калбатони Мариам: полки сорваны, пол завален книгами, по которым безжалостно ступают чужие ноги. Я прошел в библиотеку – маляр уже снял дверь, ведущую в комнату калбатони Мариам, заложил ее кирпичами и штукатурил. На меня обратили внимание, только когда я во второй раз крикнул: «Что вы делаете! Это преступление». «Мы тебе покажем преступление», – трое усатых верзил вытолкали меня из комнаты и за шиворот выставили сначала со двора, а потом и с улицы.
– Объясни, что происходит?! – спросил ошеломленный Лука, который стал свидетелем моего позорного изгнания.
Я объяснил ему, что, насколько я успел разобраться, происходит. Калбатони Мариам вчера сбил фаэтон (не машина, не трамвай, не троллейбус, а именно фаэтон), и она умерла. Как только об этом узнали соседи, жившие рядом с библиотекой, они сломали стену и туда, в библиотеку, вошли. А дверь, что вела из библиотеки в комнату калбатони Мариам, заделали кирпичом. Книги? Книги им мешали, и они от книг отделались. Семья у них была из девяти человек, среди них двое стариков и пятеро детей. Им главное было войти в освободившуюся комнату, а теперь их оттуда ничем не выставишь, пятерых детей на улицу не прогонят…
Книги…
Не смогла калбатони Мариам расстаться с книгами, которые олицетворяли ее прошлое. Это была ее жизнь. Что касается меня, то свое обязательство я выполнил, дело до конца довел. Ей оставалось сделать лишь один шаг, формальный шаг… Может, она боялась, что, если оформить передачу книг, то соседи освободившуюся комнату займут! А что бы ей самой сломать стену, открыть дверь детям? Но… Это «но» – огромная высокая стена, в которой пробить дверь почти невозможно.
Передача книг университету не состоялась.
Книги…
– Озо, куда они уносят книги?
– Наверное – домой… Думаешь, они не знают цену книге? Если даже не знают, то все равно, что даром досталось, то они и тащат. Кто их теперь остановит?..
– Может, хоть часть спасем?
– Зачем? Для чего?
– Может, мы тоже что-нибудь выберем…
– Нет, Лука, я больше к этим книгам не притронусь.
– Воля твоя.
– Бог с ними! Пусть уносят. Тазами, ведрами, мешками, чем хотят, – пусть уносят. Уносят! Уносят!
Книги…
Я уже не помню, как я снова оказался во дворе. Наверное, обезумел на миг, потерял рассудок. Я удерживал людей, вырывал у них книги из рук, кричал, надрывался: «Куда уносите? По какому праву? Что вы делаете, варвары? Ведь это сокровище!» Теперь все набросились на меня, окружили плотным кольцом, стали выкручивать руки, бить… В этой кутерьме я мельком увидел Луку (он сбегал по лестнице), но потом все опять смешалось, я вырвался и пытался бежать. Меня снова схватили, избили и выбросили со двора прочь. И на улице продолжали угощать пинками. Когда я пришел в себя, мы с Лукой, взмокшие и запыленные, переводили дух на углу, где улица Платона выходит на площадь. Лука смотрел на меня с жалкой улыбкой. Ему тоже досталось как следует, а уж со мной они расправились на славу – вся рубашка была изорвана и свисала клочьями. Хотелось плакать, но плакать я не мог. Укрывшись за углом, я все смотрел в сторону крутой улицы, где сновали люди, без конца вынося и вынося книги… Я был не только свидетелем, но и посрамленной жертвой этого безумия. Порой в глазах у меня мутилось и я ничего перед собою не видел – потом все прояснилось… Голова кружилась, и каждый мускул дрожал.
– Пошли, – сказал Лука.
– Сейчас, подожди немного.
– Ничего у нас не вышло, – виновато улыбнулся Лука.
Сейчас Лука раздражал меня. Почему в эту жарищу и духоту он стоит так близко, зачем прилип ко мне – и так дышать нечем! Я совсем забыл, что рубашка моя совершенно порвана, а он, оказывается, прикрывал меня. Мы поспешили уйти, но напоследок я взглянул на улицу еще раз – среду книг, в беспорядке разбросанных на мостовой, стоял высокий худой старик, держа в руках раскрытый том и вперясь в него.
Мы бегом миновали несколько улочек и, свернув направо, спустились к Куре, решив дойти до дому берегом реки. Сняв одежду, мы вошли в реку – вода успокаивает растрепанную душу.
Мы смыли с себя пыль и пот, а я выбросил свою рваную рубашку подальше в реку.
И правда, Кура как будто успокоила нас, но мы с Лукой все еще смотреть друг другу в глаза от неловкости не могли. Стоя в воде, мы упорно рассматривали противоположный берег, бетонную стену набережной.
– А старик был похож на Дон Кихота, – сказал Лука.
– На кого?
– Не помнишь, как Дон Кихот стоит и читает книгу?
Невольно взгляд мой убежал вправо, туда, где из окна кирпичного дома, стоящего близ моста прямо на берегу реки, посыпались в воду книги, бумага, сор, пыль… Я понял, что это окно, откуда почти полтора года я смотрел на склоны Мтацминды, на Куру, на Мухранский мост. Теперь окно было открыто, и в Куру летели остатки растерзанных книг, отдельные и никому уже не нужные листы. Листы книг вместе с пылью и сором разлетались в воздухе, опускались, кружась, вниз и потихоньку ложились на поверхность реки. Мы стояли по колено в воде и смотрели, как гладкая речная поверхность почти вся покрылась мокрыми листами. Прямо перед нами начиналась стремнина, и, достигнув нас, плавающие сверху листы в этой стремнине исчезали. Я не выдержал и заплакал.
На берегу Куры мы с Лукой пробыли до самого вечера.







