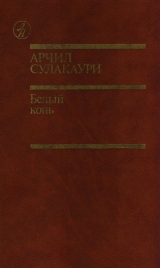
Текст книги "Белый конь"
Автор книги: Арчил Сулакаури
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 29 страниц)
Так повторялось всегда, был ли гость у нас впервые или много раз. Старое впечатление забывалось, и вновь звучал тревожный вопрос:
– Что, дождь пошел?!
– Нет, это Кура шумит, – успокаивала мать и чуть заметно улыбалась.
– Ах, Кура! – восклицал кто-то из гостей, уже несколько раз введенный этим шумом в заблуждение, причем ехидно добавлял, оправдывая свою забывчивость: – Хотя да, все время забываю, ведь вы живете на берегу реки… как в деревне.
Тогда мне казалось, что все деревни на свете стоят на берегу реки. Наверное, я не до конца понимал иронию гостя да и не интересовался, в кого она метит. Мне нравилось, когда гость ошибался и принимал рокот Куры за шум дождя. Я напрягал слух и будто впервые слышал прекрасный голос реки. Потом я выходил на балкон и в сумерках смотрел на волны, пока эти звуки не оказывались за пределами моего слуха.
С годами, постепенно я приручил Куру, заставил ее покориться. Если бы не мать, я мог целыми днями, с утра до ночи, пропадать ка берегу Куры, о еде даже не вспоминая – будь на то моя воля, я и в школу бы не ходил. До сих пор не могу объяснить этой одержимости. Возвратясь с улицы во двор, я первым делом бежал взглянуть на реку и при этом так волновался, будто ее могло не оказаться на месте.
Я наблюдал за течением Куры, запоминал ее характер, нрав, цвет, облик. Я постоянно вертелся среди лодочников, рыболовов и мельников, слушая их разговоры и наслаждаясь толками о Куре. Кура часто меняла цвет, и я, еще ребенком, знал причины этой смены. Если вода в реке была желтовато-бурая, это значило, что в Боржомском ущелье или дальше, в тогда еще нереальной для меня Месхетии, шли дожди, а если она катила мутные темные волны, то виной этому была Арагви – дожди шли в Арагвском ущелье.
…Сбежав из деревни, я сижу на придорожном склоне и смотрю на Алазанскую долину.
Алазани довольно далеко от нашей деревни, но, несмотря на это, я вместе с деревенскими ребятами часто ходил сюда на рыбалку или купаться. Мы ходили именно этой дорогой, и всякий раз, когда я смотрел отсюда на реку, сердце у меня начинало сильно биться от волнения. Однако вблизи неровные берега с прекрасными рощами почему-то волновали меня меньше. Я не мог привыкнуть и освоиться, я даже побаивался ее, словно она, принадлежа кому-то другому, от меня ускользала… Сейчас я смотрю на нее как на упущенный шанс. К горлу подступает комок, и вдруг меня охватывает печаль разлуки…
Я поднялся на ноги, отряхнул одежду, поднял воротник пальто и пустился в путь, как вдруг услышал знакомый голос и застыл на месте.
– Озо!
Ну, конечно, это Анано.

Услышав голос Анано, я сразу понял: мой сегодняшний план сорвался, и отъезд в Тбилиси откладывается надолго. У меня мелькнула мысль убежать, я подумал было, что Анано меня все равно не догонит, но, оглянувшись назад, я увидел усталое, измученное лицо, обращенные ко мне цвета зеленого берилла глаза, и колени мои подкосились – я рухнул на землю.
Стоя шагах в десяти, в накинутой на голову шали, она молча смотрела на меня сверху. Может, она была не в состоянии говорить, не знаю. Какое-то время мы оставались так – я стоял на коленях, а она молча возвышалась у меня над головой. В этой тишине я всем существом ощутил, что Анано явилась мне во спасение, поскольку мой душевный порыв шел в разрез с физическими возможностями.
– Ты что, не можешь встать? – спросила меня Анано.
– Сейчас! – коротко бросил я и приподнялся.
– Осилишь этот подъем или помочь?
– Осилю.
Анано повернулась и скрылась из виду. Мне и вправду трудно было одолеть маленький подъем – ноги ныли, я весь отяжелел. Кое-как справившись с подъемом, я увидел: по ведущей к деревне прямой и, как мне казалось, бесконечной дороге шла Анано с опущенной головой; она шла не спеша, ступая осторожно, будто ожидая, когда я ее догоню…
С тех пор много воды утекло, но я и поныне не могу забыть унылую дорогу, по которой молча бредут двое: Анано идет в трех шагах впереди меня, а я послушно плетусь за ней, словно теленок на привязи. Не могу забыть, как именно в тот день шедшая впереди меня женщина в накинутой на голову шали впервые дала мне почувствовать, что я, легко судящий о чужом поведении юнец, не умею разделить боль и скорбь даже близкого мне человека. Я заранее знал, что Анано не станет расспрашивать о причинах побега и ругать за неразумное поведение, но что-нибудь она обязательно скажет, как бы невзначай, спокойно, даже с улыбкой. И сказанное будет горше и больнее, чем любой упрек.
Так и вышло.
Я уже сказал, что, оглянувшись, увидел усталое и измученное лицо Анано и потом, следуя за ней по пятам, ощущал угрызения совести… И правда, за что, по какому праву я причинил этой женщине столько боли? Разве мало того, что она кормит и одевает меня, ухаживает за мной, так нет же, я доставляю ей новые хлопоты, она еще должна бегать за мной по пятам, чтобы я не выкинул номер. В душе я решил, что больше не обижу Анано подобным легкомыслием, но она прервала мое самобичевание.
– Озо, – повернулась она ко мне и улыбнулась, а затем, как бы шутя, сказала: – Ты меня хотел покинуть в такую минуту, мой мальчик?!
Хорошо, что она отвернулась и пошла дальше, не видя, как я зарделся. Разумеется, я сразу вспомнил вчерашнее утро, погруженную в горькие мысли Анано и ту страшную боль, которую она осторожно мне открыла. Еще я вспомнил, как, возвращаясь от Кариаули, оказался в полутемной церкви. Ведь там, у алтаря, стояла перед зажженной свечой Анано. Видно, ее боль была острее, чем я думал. А я-то провел весь день и вечер в беззаботных забавах, ни разу не вспомнив ни Анано, ни Сабу.
Может, я внутренне не был пока готов к сочувствию, не знал, как его выражают, что делать, как себя вести. Когда я заглянул внутрь себя, то осознал, что по-настоящему меня не печалит горе Анано. Будто я до конца не понял, кто такой Саба и какие у него были отношения с Анано. То, что я подозревал, не вызывало у меня сочувствия, а, наоборот, раздражало.
Но ведь Анано-то мучилась.
А ведь главное было не это. Анано доверила мне тайну, которую никому на свете не открывала, видимо решив, что я именно тот, перед кем можно обнажить скрытую боль… Одним словом, она сочла меня личностью и доверилась мне. Наверное, она и не ждала от меня утешения, хотела только, чтобы я был рядом как близкий человек, с которым она может поделиться.
5
Анано внесла жестяную печку ко мне в комнату. Комната была маленькая, и дров уходило меньше. Тут мы завтракали, тут же обедали и ужинали. Когда наставало время ложиться спать, Анано уходила в большую комнату, я же оставался один и еще долго читал книгу или журнал, готовил уроки. Книги мне удавалось читать только зимой, в остальное время было некогда: с ранней весны мы, школьники, дневали и ночевали на колхозных полях – мотыжили, пропалывали грядки, ухаживали за лозой и, возвратившись усталые лишь поздно вечером, с грехом пополам справлялись с уроками.
И вот наступила унылая и однообразная зимняя пора… Придя из школы, я сажусь за уроки, читаю сотни раз прочитанные книги, листаю старые журналы, причем без всякого интереса, потому что все книги и журналы знаю наизусть. В моей комнате тепло, и Анано крутится здесь целый день, то вяжет, то гладит, то штопает старые носки. Она не требует от меня никакого внимания и утешения. Довольная уже тем, что я сижу дома, она хлопоча и заботится обо мне… и ничего ей на свете больше не нужно. Лишь бы, вернувшись с войны, ее брат застал своего сына целым и невредимым! Но надо быть бесчувственным слепцом, чтобы не заметить перемены, происшедшей в Анано за короткое время. Анано и раньше не любила много говорить, но последние две-три недели из нее слова нельзя было выудить, она стала более замкнутой и угрюмой. Порой, с жалостью глядя на нее, я думал: если так будет продолжаться, она и до весны не дотянет. Раза два я попытался ее развлечь, вспомнил какую-то, на мой взгляд, смешную историю из детских тбилисских воспоминаний. Она не отозвалась, не заинтересовалась. Я даже не понял – слушала она мой рассказ или нет. А я, как дурак, смеялся вовсю. Настроение мое портилось, ее молчание действовало удручающе, и я уходил в себя.
Тогда, все бросив и сорвавшись, я не знал, от чего бегу, но сейчас, если убегу, то уже буду знать, от чего… Я не могу выдержать заполнившего все вокруг молчания – оно обволакивает меня вместе с Анано оболочкой, из которой не вырваться.
Может, поэтому я решил разрядить наше мертвое молчание воспоминаниями о Зизи, о ее близости и мысленными беседами с ней нарушить эту тишину, которая ужасно удручала меня, постепенно расширяя и углубляя трещинку, возникшую в наших с Анано отношениях. По вечерам думы о Зизи и о близости с ней стали для меня потребностью, и я был почти уверен, что люблю ее. То, что произошло со мной в тот вечер, было не таким постыдным, как мне показалось сначала, из-за чего я краснел и терзался. Единственный непоправимый ущерб двору Маро-учительницы я нанес тем, что, пьяный, истоптал розовый куст. «Будто стадо коров прошло», – сказала Зизи. Зато и ноги я себе здорово исцарапал, они у меня долго горели. Через три дня об этом уже никто не помнил. А то, что теперь неожиданно возродилось во мне, я от Анано скрывал, хорошо зная ее отношение к Зизи и к их семье. Делая вид, что погружен в чтение книг, я тем временем мысленно усаживал Зизи рядом с собой и разговаривал, спорил с ней, шептал ей тысячу глупостей, что-то доказывал… В один из таких вечеров мне пришла в голову мысль, что я – полное ничтожество: заканчиваю десятый класс, среднюю школу и понятия не имею, что буду делать потом, чего хочу. Зизи знала, чего хочет: она свой путь выбрала, я – нет. Она ясно представляла себе цель, дорогу к которой не могло преградить ничто. Я же не знал, где продолжать учебу и, вообще, хочу ли я учиться дальше? Зизи раза два как бы вскользь спросила: что ты думаешь, что собираешься делать? Но я предпочел промолчать, так как не мог ответить на этот вопрос хотя бы потому, что никогда до сих пор над ним не задумывался. Тем временем Зизи шла вперед и ничто ей не препятствовало: она выучивала наизусть стихи, рассказы, монологи, устраивала в школе театрализованные вечера, боролась, действовала… одним словом, поражала всех своей неутомимой энергией и талантом.
А я, сидя по вечерам в своей комнате вместе с Анано, вновь думал о Зизи и о завтрашней встрече с ней. План мой был предельно прост. По дороге в школу Зизи непременно должна была пройти мимо моего дома. Утром я поджидал ее, и мы вместе шли до школы, а часто по дороге уславливались о том, чтобы и обратно идти вместе. Все это – в мыслях…
На такую чушь я тратил время. Зачем было столько думать и готовиться? Во-первых, Зизи не пряталась от меня и не избегала меня, наоборот, даже старалась все время быть поблизости. Во-вторых, встречаться нам никто не запрещал…
Непонятно было другое: как только утром я видел из окна идущую в школу Зизи, у меня тут же пропадало всякое желание с ней встречаться. То же самое в школе – я шел на всевозможные ухищрения, чтобы на перемене не наткнуться на Зизи и после уроков идти домой без нее. Но вечером, когда Анано садилась рукодельничать, а я будто бы склонялся над уроками, мечты о Зизи вновь завладевали мною: я видел ее улыбку, лицо, движения, слышал голос, ощущал запах… А на другой день все, что волновало и притягивало меня прошлым вечером, опять улетучивалось – прекраснейшая гармония исчезала.
В один из таких вечеров я собрался себя испытать: не дожидаясь утра, решил увидеться с Зизи. Невозможно было себе представить, чтобы за десять минут, пока я буду добираться до дома Маро-учительницы, остынет то чувство, которое весь вечер меня держало. Я ведь рвался к Зизи. Что ж, вот тебе и Зизи? Нужно всего несколько минут, ни больше, ни меньше, чтобы дойти до ее дома. Не откладывай до завтра, до завтра еще долго.
Анано я сказал, что забыл узнать задание по алгебру мол, сбегаю к Зизи и узнаю. Накинув пальто, я так бистро выскочил наружу, словно спасался от опасности. На дворе навалило снегу, ноги у меня скользили. В темноте я с трудом нашел дорогу до калитки. У калитки я задержался, так как понял… точнее, я понял, и потому остановился… никуда я не пойду. Это не было ни робостью, ни трусостью. У меня пропало желание идти к Зизи, сейчас я не мог ни видеть, ни слышать ее. Причина оставалась неясной. Хотя я и не старался разобраться в ней, поскольку весь был во власти слепых желаний: «хочу – не хочу».
Я тотчас же вернулся. Не помню, переглянулись ли мы с Анано, когда я выходил из дому. Не могла ли она догадаться по моему лицу, что я вру? Но у самой Анано на лице ничего нельзя было прочесть. Я долго вытирал ноги, отряхивал ботинки, потом с деловым видом зашел в комнату и бросил пальто на тахту.
– Вернулся, – спросила Анано, – или еще не ходил?
– Не ходил. Вспомнил задание по дороге, – придумал я правдоподобную версию.
– Конечно, если по дороге вспомнил, то идти незачем! – Анано была поглощена делом и не поднимала головы. Второй день она вязала мне носки.
– Алгебра – предмет сложный, – сказал я, листая учебник, – но ничего…
– Да, сложный… но если с самого начала в ней разобраться, то потом будет нетрудно. Если тебе тяжело, я помогу, кое-что помню.
Наш алгебраический диалог на этом закончился. Тем временем снаружи кто-то позвал Анано:
– Это почтальон! – воскликнула она и бросилась к двери.
Почтальон ни в какую не согласился зайти в дом и отведать угощение: мол, не вы одни, мне еще в тысяче мест нужно побывать. Он с порога протянул треугольный конверт и ворча ушел, исчез в темноте, как Анано его ни упрашивала. Наш почтальон был угрюмым стариком, но все в деревне его любили, уважали и с замиранием сердца ждали его появления.
– От отца письмо! – сказала Анано. – Открой и прочти.
Мы быстро уселись за стол. Я отодвинул в сторону свои книги, придвинул поближе тускло светящую лампу и осторожно вскрыл треугольный конверт. Из письма буквально вырвалось пламя задора и оптимизма. Что за человек мой отец! Он утешал и подбадривал нас, наполнял терпением, надеждой и радостью. У меня создалось впечатление, что если бы не мой отец, то победить врага было бы куда труднее. Он писал, что к весне все кончится и он вернется, а потом – дело за ним.
– Видишь, какой он! – сказала Анано. – Такого отца, как у тебя, ни у кого нет.
Анано сразу преобразилась. Я давно не видел ее улыбающейся, а сейчас она не могла скрыть внутреннего волнения и радости, они отражались на ее лице, в глазах. У меня тоже камень свалился с души, и я, счастливый, смотрел на хлопоты Анано. Она сразу приготовила ужин, поставила на стол кувшин с вином. При виде мокрого кувшина меня чуть не стошнило, от него в комнате сразу запахло терпким запахом марани. Анано наскоро поджарила на печке яичницу и поставила прямо передо мной сковородку. Поджаренная на свином сале яичница распространяла совсем другой, аппетитный аромат, не то что вино, и мы приступили к еде. Сыр, хлеб, яичница – королевский ужин!
Анано налила вино в маленький стаканчик для водки, произнесла тост за моего отца, за то, чтобы он вернулся с миром и победой, за сегодняшнюю радость, и опорожнила стакан.
– Отпей хоть немного, – обратилась она ко мне, – это ведь тост за твоего отца!
– Не могу, от одного вида воротит!
– А ты как думал, с первого раза захотел кувшинами пить! К вину нужно привыкать понемногу, с ним шутки плохи. Как с ним обойдешься, так оно и ответит… Но сейчас выпей, иначе нельзя. Немного не повредит, и уснешь хорошо.
Что поделаешь, я не мог обидеть Анано и отпил несколько глотков, стараясь не почувствовать запаха. Я думал, что меня будет тошнить, но вышло наоборот: вино приятно разлилось по телу. Анано опять наполнила стаканы, и я уже заранее знал, что она скажет.
В ту пору, да и на протяжении многих лет потом, тост за павших на войне был обязательным. Даже если пилось всего три стакана, один тост непременно произносился за павших. Тост этот ввела и узаконила сама жизнь, и он стал внутренней потребностью людей.
Анано помянула павших, конечно, подразумевая Сабу. Она сразу сникла, и ее живые берилловые глаза застлал туман пепельного цвета. А это значило, что недавняя радость прошла. Я выпил за павших молча, всем своим видом выказывая Анано, что душою я с ней. Анано взглянула на меня и в знак благодарности наклонила голову, пообещав: расскажу тебе одну старую историю. Я слушать больше ничего не хотел, ибо радость, вызванная письмом отца, уже улетучилась. Одним словом, праздника у нас с Анано не получилось. Между нами вновь встала тень Сабы, которая сразу отбросила нас на два противоположных берега.
Пока я думал о своем, Анано начала рассказывать обещанную историю. Поначалу я не разобрался, но потом понял, что речь шла о некоем Иотаме, крепком семидесятилетием пастухе, который жил в одном из кизикских селений. В Нислаури… Биография Иотама интересовала меня мало, я все ждал, когда Анано заговорит про Сабу. Но она гнула свое: оказывается, у Иотама было тысяч пять овец. Мне сначала не понравился Иотам: я подумал – человек, у которого столько овец, не может быть порядочным. Анано же убеждала меня в другом: оказывается, он слыл человеком умным, честным и трудолюбивым, оказывается, тем, кто шел к нему в пастухи, он через два года выделял от стада до ста голов…
История звучала как сказка, в душе я над всем этим смеялся. Да и само словцо «оказывается» делало всю историю нереальной, вымышленной.
Не поверил я и тому, что, оказывается, Иотам был одержим идеей – возродить и обогатить сначала родной Кизики, а потом и всю Кахетию. Источником же будущего богатства он, оказывается, считал разведение овец тушинской породы.
Опять это «оказывается»!
Когда началась коллективизация, в деревню прислали некоего Барнабишвили, который, как говорили, хорошо знал свое дело. Он сразу же принялся хозяйничать. Создал колхоз, стал председателем. Потом он порасспросил людей, и его испытанный взор обратился на Иотама. Он поразился: по какому праву один человек держит столько овец?!
– Никто меня не ограничивал, – объяснил Иотам. – Вот я и разводил этих овец на благо села. Ежели в чем виноват, то вот он я, никуда не убегаю!
– С сегодняшнего дня эти овцы будут собственностью села и народа, – отрезал Барнабишвили.
– Пусть так, воля ваша! Я этого и хочу. Одному мне не справиться с такой отарой.
– Не хитри, Иотам, меня не проведешь! Нет у тебя другого выхода, вот и прикидываешься. А на самом деле ты кулак и частный собственник!
– Что ты ко мне привязался, я же отдаю! И загоны для овец в Шираки и Мта-Тушетии пусть будут ваши! Чего вам еще?! И я буду с вами. Дело я знаю, пригожусь вам, ей-богу!
– Не обманешь, Иотам! – надрывался Барнабишвили. – У кого по сто, по двести овец, и тех в коллектив привести не могу, а ты-то чего ангелом прикидываешься? Пять тысяч голов хочешь выбросить?! Так я и поверил!
– Почему выбросить, кацо, а не сдать? Я пастух, умею с овцами управляться, вот и используйте меня!
– Наша мельница так не мелет, Иотам, – сказал Барнабишвили. – Ты пиявка, и мы от тебя должны отделаться. Пока ты будешь вертеться в этой деревне, ты и овец своими будешь считать. И для тебя, и для дела, и для села лучше, если ты заберешь свои пожитки и уберешься куда подальше.
– Куда мне идти, кацо?
– Куда хочешь, мир велик!
– Что я потерял в другом месте! Мои предки здесь жили, здесь и померли… Здесь их могила, их земля… Куда мне идти, кацо, бога что ли нет больше?!
– Нет бога! Не понял?
– И не пойму! Как это понять можно? Прогоняешь меня, безбожник этакий?
– Не прогоняю, Иотам. Говорю: подобру-поздорову собирай пожитки. Не то сами прогоним. Сначала раскулачим, ославим на весь свет, а потом вон тебя вышвырнем.
– Почему ты так нагло со мной разговариваешь, Барнабишвили? Ты ведь рядом со мною мальчишка, не подобает тебе так! Кому я помешал? Я думал, что делаю добро… а все против меня обернулось.
– Таково решение Советской власти.
– Советской власти или твое?
– Я – представитель власти!
– Это ты-то власть?! – взволнованный Иотам не мог больше сдерживаться. – Такой подлец, как ты, властью быть не может!
Иотам много еще наговорил крепких слов, даже рвался побить Барнабишвили, но тот был не один, и Иотама не подпустили к нему, сдержали, Барнабишвили и бровью не повел.
– Уйдешь по собственной воле или нет?
– Уйдет, уйдет, куда денется! – успокоили Барнабишвили его прихлебатели.
– Иотам, хоть семью пожалей! – было последнее предупреждение Барнабишвили. – Вместе с семьей тебя сгноим.
Иотам понял, что Барнабишвили не шутит: он угрожал и был в силах угрозу исполнить. И подумал Иотам, что лучше уж уйти по доброй воле, чем силком. Он отвел Барнабишвили в сторонку и сказал:
– На что вам моя семья, разве меня мало? – У Иотама был единственный восемнадцатилетний сын. Он родился поздно, и родители его холили-лелеяли, нарадоваться не могли.
– Если будешь вести себя с умом, то твою семью никто и пальцем не тронет.
– Как это, с умом?
– Что я скажу, то и делай… То, что здесь произошло, здесь же должно умереть!
– Как это? Ты сюда целый батальон привел – как ты их заставишь молчать?
– Это не твоя забота: они не проговорятся.
– А твоему слову верить можно?
– Я свое слово сдержу.
На этом разговор их окончился. Иотам тут же сел на лошадь и поскакал по направлению к деревне.
– Это произошло ранней весной, – продолжала Анано. – Я забыла сказать, что в то время Иотам спустился с Ширака, с зимних пастбищ, где он готовился двинуть отары в горы. В Шираке он сказал пастухам, что вернется через неделю, и по дороге, у Алазани, встретил Барнабишвили с его людьми, там они все и решили. Дома Иотама ждал сын: отец с сыном должны были вместе ехать сначала в Ширак, а оттуда – в Мта-Тушетию. Иотам ничем не выдал дома своей озабоченности, на третий день оседлал коня, наполнил на дорогу хурджин, обронив только, что едет по делу… Уехал и уехал, с того дня Иотама в деревне не видели, словно сквозь землю провалился, пропал, исчез человек… Его искали и мертвого, и живого, все кругом обшарили, но понапрасну. Иотама и след простыл!..
Анано задумалась, на некоторое время замолкла. Я перевел дух. По выражению ее лица я понял, что рассказ еще не кончается. Воспользовавшись паузой, я стая, гадать, зачем Анано рассказывает мне эту историю. Внезапно у меня возникло сомнение, но разрешить его времени не хватило. Анано продолжила рассказ.
После исчезновения Иотама прошло года три-четыре, а может, и больше. Сколько лет нужно, чтобы забыть человека?.. Про Иотама уже никто не помнил, так только вспоминали изредка: бедняга, хороший был человек, добрый… не вынес горя, когда овец у него отняли, мир праху… Только в Шираке загоны для овец все еще носили его имя. Но если у одного из пастухов и срывалось с языка, что, мол, в Иотамовом загоне стоим, то звучало это так, будто Иотам жил в незапамятные времена.
Итак, прошло три или четыре года. Была ранняя весна, пастухи снимались с ширакских полей, шли в горы. Весь день они укладывали багаж, сгоняли овец и собак. Собирались отправляться наутро. Вечером, уставшие, развели они перед стоянкой костер. Эти стоянки построил когда-то из камня Иотам, чтобы пастухи могли переночевать, укрывшись от дождя и непогоды.
…Пастухи сидят теперь вокруг костра, поставив на огонь кастрюлю для хинкали, ждут, пока вскипит вода. Перед дорогой захотелось им кутнуть. Здесь же лежат собаки, они уже получили свою похлебку и лениво дремлют.
Вокруг огромное поле, уныло и однообразно растянувшееся почти до горизонта. Весна тут пока еще не видна, поле все ржавого цвета, местами почерневшее, будто по нему прошлось огненное колесо – вырвало всю сухую траву и в спешке, что успело, на корню сожгло.
Слева горизонт кажется ближе: с этой стороны поле идет под уклон, в трехстах шагах от стоянки пастухов постепенно опускается и потом опять выравнивается… Идущий с этой стороны путник появляется на поле неожиданно, как бы вырастая из-под земли.
В тот вечер именно отсюда показался странник с палкой в руке. Первыми его заметили собаки, подняли лай, но незнакомец не остановился, даже шагу не сбавил. Он напрямик шел к стоянке. Собаки ощерились, залились яростным лаем, как бы предупреждая незнакомца: еще шаг, и мы на тебя набросимся. Пастухи сразу же почуяли опасность, вскочили на ноги, прикрикнули на собак, велели им лечь. Но псы не послушались хозяев, с лаем и рычанием сорвались навстречу незнакомому путнику.
Пастухи с палками погнались за взбешенными овчарками, но где было угнаться за ними! Издали пастухи замедли, что незнакомец – нищий седой старик с бородой, в старой шинели. Пастухи с отчаянием закричали ему, стараясь перекрыть лай и визг собак: «Садись, садись, не подходи!» (Я тоже слышал, что сидящего человека собаки не тронут.) Нищий не останавливался, он, опираясь на палку, упрямо шел вперед. «Наверное, надеется на палку, – подумали пастухи, – и не знает, несчастный, что они его сожрут вместе с палкой». Старик даже не пробовал замахнуться палкой. «Если он и слепой, то по крайней мере не глухой же, – сокрушались пастухи, – неужели не слышит собачьего лая?!»
Десять псов вместе набросились на старика, подмяли его под себя, стали рвать и трепать. Пастухи прибавили ходу – может, еще успеем и спасем несчастного, потом запыхавшиеся, все в поту, палками стали разгонять разъяренных псов.
Но приблизившись, они не поверили собственным глазам: уж не сон ли это? На земле и правда происходило нечто удивительное: сбившиеся в кучу собаки жалобно скулили, лизали лицо и руки лежащего на земле старика, несколько овчарок растянулись рядом, положив лохматые головы ему на одежду, другие ластились к нему. Старик с блаженством на лице лежал, откинув голову на землю, и дрожащими, огрубелыми руками цеплялся за собак, гладил их…
Это был Иотам – пастухи узнали его и теперь с удивлением наблюдали это странное зрелище. Как видно, овчарки быстро опознали бывшего своего хозяина и, выразив таким образом радость, повалили его наземь.
Пастухи окриками и угрозами с трудом отогнали собак от их прежнего хозяина, помогли ему подняться, отряхнули пыль с одежды, подняли с земли его пустую суму и повели к дому. «Узнали, кацо, узнали!» – твердил по дороге Иотам и утирал рукой слезы.
Приблизившись к стоянке, он стал разглядывать коней: сделал несколько несмелых шагов в их сторону, улыбаясь, постоял, оглянулся и подошел к коням вплотную.
– Сагара! Нисла! Шамиль! – шептал старик, разглядывая и узнавая коней. – Шете! Шальной, ты все такой же отчаянный или поумнел?
– Отчаянный! Разве он поумнеет? – отвечали пастухи, не глядя старику в глаза. А некоторые даже отворачивались.
– Эх, Мирабо! – узнал Иотам черного коня, на лбу у которого отпечаталась белая луна. – Мирабо, хайт, Мирабо!
Мирабо навострил красивые черные уши, потом встряхнул головой и ответил Иотаму ржанием.
– Мирабо!
Конь опять заржал.
– Мирабо! Ты жив, жив!
За Мирабо последовали и другие кони, почти весь табун заржал: повернувшись к Иотаму, кони били копытами и вставали на дыбы…
Иотам воздел обе руки к небу и рухнул на землю.
– Будь благословен господь, да святится имя твое! – прошептал он, а потом еле-еле поднялся на ноги.
За это время пастухи успели сделать многое: вывалили из кипящей кастрюли хинкали, забили и освежевали овцу, отдельно приготовили мясо для шашлыка, отдельно – для каурмы…
А Иотам сидел у огня на покрытом овечьей шкурой седле, руки его покоились на коленях, он смотрел на огонь. Вокруг него сидели, завернувшись в тулупы и войлок, пастухи. С заходом солнца стало прохладнее. Пастухи хотели потолковать, но как будто не знали, с чего начать, переглядывались, как заговорщики, и не могли вымолвить ни слова. Молча ели хинкали, в тишине слышался лишь треск огня, прихлебывание и причмокивание.
– Эхма! – вырывалось время от времени у Иотама, и он опять возвращался к хинкали.
На пастбища легла безлунная ночь. Непролазная, тяжелая тьма подступила так близко, что постепенно сжимала кольцо света, падающего от огня.
Пастухи вывалили из костра угли и жарят шашлыки. Но суетятся они гораздо больше, чем нужно для шашлыков и каурмы. Показная суета вызвана неловкостью, все это чувствуют, но никто не может первым нарушить молчание.
– Жаль, что выпить нечего! – говорит сидящий рядом с Иотамом сухой и жилистый саркал[20]20
Саркал – старший у пастухов.
[Закрыть] Тома Бикашвили, чья тушинская шапка надвинута до самых бровей.
– На них разве напасешься водки да вина?.. И когда они успели все вылакать?
– Мирабо, – улыбается Иотам. – Крепкий был конь…
– Он и сейчас крепкий! – говорит Тома Бикашвили.
– Узнал, он меня узнал! – радуется старик.
– Как же! – подтверждает старший пастух и, словно стараясь, чтобы опять не воцарилось молчание, говорит: – Ведь это ты его так назвал, Нотам.
– Сколько лет этому коню?
– Пятнадцать…
– Пятнадцать лет. – Опять улыбается Иотам. – Сколько времени прошло. Я и не помню, почему так назвал этого коня.
– Ты об этом не думал, вот и не помнишь.
– Конечно, не думал. До этого ли было?
Потом пришли тушинские пастухи и принесли немного водки. Иотам к ней даже не прикоснулся, но выпивка все же сделала свое дело, люди развеселились, и удручающее молчание развеялось.
Ужин длился недолго, наутро нужно было выступать в горы. Иотам оставил у огня Тому Бикашвили и, когда вокруг все угомонились, спросил про своих родных. «И жена твоя, и сын живут хорошо, – сказал старший пастух. – Печалит их лишь то, что ты пропал без следа, а так они живы-здоровы», – Тома старался избежать откровенной беседы, дабы не проговориться о том, что так тщательно скрывал весь вечер.
Потом Иотам заговорил о Барнабишвили: сдержал ли тот свое слово?
– О каком слове ты говоришь, Иотам, я что-то не понял? – растерялся Бикашвили.
– Я слова не нарушил… а он?!
– Говорю тебе, я не понял, о чем ты.
– Мы же дали друг другу слово, я и Барнабишвили.
– Какое слово, что за слово, ничего не знаю!
– Да, ты не знаешь. – Иотам задумался. – Может, и я не должен говорить? Но жизнь прошла, и пусть кто-то знает! Тома, я верю, что ты сохранишь в тайне то, что я тебе скажу. – И он подробно поведал саркалу об обещании, которое дал на берегу Алазани, объяснил, почему вынужден был бесследно исчезнуть из родных краев… «Барнабишвили привел бы в исполнение свою угрозу. Сначала от меня бы отделался, а потом и сына погубил бы».
– Что ты говоришь, кацо! – поразился Тома Бикашвили. – Как же это так, кацо! – Как безумный повторял он одно и то же, но все-таки Иотаму не открылся.
«Не мог же я рассказать старику о кознях Барнабишвили, это значило бы поразить его в самое сердце, убить», – скажет впоследствии Тома Бикашвили. А рассказать было о чем. Как только Иотам ушел из деревни, Барнабишвили не замедлил исполнить свои темные намерения: из этих пяти тысяч овец он учел в колхозе только две тысячи – мол, власти все равно ничего не узнают, наоборот, останутся даже довольны. Откуда, мол, властям знать, сколько овец было у Иотама. Потом он вместе со своими дружками продал две трети Иотамовых овец за пределами Грузии. Как говорят, выручил на этом хорошие деньги.







