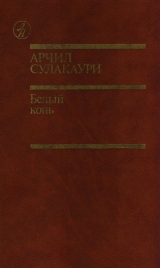
Текст книги "Белый конь"
Автор книги: Арчил Сулакаури
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 29 страниц)
Мною овладела печаль, на сердце стало тяжко.
– Анано! – вырвалось у меня вдруг.
– Ты что, не спишь? – Анано тоже не спала.
Зачем я ее позвал? Раз позвал, то нужно сказать что-то или спросить. Ну, а если я не знаю – что? Анано словно бы впустила меня в лабиринт своих воспоминаний и переживаний, а нить Ариадны дать забыла. Трудно мне, наверное, будет выбраться оттуда…
7
Весна пришла так скоро, и события развивались с такой быстротой, что я едва успел прийти в себя и встряхнуться от зимних застоявшихся дум. К концу апреля исход войны был решен, но официальному объявлению Победы придавалось особое значение. Пришла весна, и мы ждали этого дня с минуты на минуту, но, когда радио объявило о полной и безоговорочной капитуляции фашистской Германии, мы будто услышали нечто совершенно неожиданное. Все словно обезумели от радости: кричали, плакали, смеялись, обнимались и целовались, ругались, махали кулаками – угрожали кому-то в небе…
Вся деревня высыпала наружу, столы выносили прямо на улицы и на шоссе. Мужчина ли, женщина, свой ли, чужой, старый ли, малый – пройти мимо накрытого стола не мог никто. Нужно было выпить хоть стакан вина, сказать хоть один тост. Пир по случаю Победы длился до вечера, люди без конца ходили друг к другу, пробовали вино, много говорили, а если представлялась возможность, то даже гели. Одним словом, жизнь всколыхнулась, словно подул живительный ветер! Вечером праздник переместился в дома. Здесь уселись основательнее – песни, танцы, музыка и грохот ружей не смолкали до утра.
Назавтра после Победы Зизи устроила в школьном клубе обещанный концерт. Перед концертом провели небольшой митинг, на котором выступили трое – Маро-учительница, Кариаулева вдова и отличница из восьмого класса. Маро-учительница и восьмиклассница в своих выступлениях говорили о гордости за победителей, а Кариаулева вдова посвятила свое выступление геройству павших и их бессмертию в памяти людской. Неожиданно для всех попросил слова председатель колхоза Фидо Квалиашвили, который прочитал письмо, присланное из Австрии. Это была благодарность. Командир танкового соединения N сообщал, что построенный на средства наших колхозников танк с честью прошел тяжелый путь войны, сейчас воюет на австрийской земле и совсем скоро примет участие в освобождении Вены. Письмо было написано задолго до конца войны, но впечатление на нас произвело огромное. Громом аплодисментов и восторженными возгласами встретили мы это известие…
Потом (возможно, это было подготовлено заранее) на сцену вышли трое – две сестры и брат. Девочки вынесли гармонь и пандури, а у мальчика за пояс был заткнут саламури[26]26
Саламури – грузинский музыкальный инструмент, свирель.
[Закрыть], который он, подойдя к краю сцены, выхватил наподобие кинжала. Очевидно, в связи с тем, что наш танк участвовал в освобождении Австрии, трио исполнило «Сказки Венского леса». До этого я не представлял себе эти три инструмента вместе – гармонь, пандури и саламури. Дети оказались просто виртуозами! Сейчас я утверждать не берусь, а тогда мне показалось, что у каждого из них абсолютный слух и блестящая техника. Сестры сидели на стульях; одна из них – кажется, пандуристка – даже не доставала ногами до пола. Взлохмаченный брат стоял между ними. Все трое были одинаково бледны, и на их лицах выделялись огромные грустные глаза. Кого я ни спрашивал, никто не знал, как их зовут, просто всех троих величали Илоевыми детьми. Я Илоевых детей видел впервые, хоть они и учились в нашей школе, в младших классах… Наверно, втроем они не попадались мне, а поодиночке я их, может, и видел, да не запомнил.
Тем временем сцену оккупировала Зизи: она прочла стихи, спела и исполнила танец… А у меня весь вечер не шли из головы умные и грустные Илоевы дети, которые, наверное, и нот-то в глаза не видели, но волею божьей прибились к берегу звуков. Об их дальнейшей судьбе я тогда не задумывался – просто счастлив был тем, что вижу и слышу их, что они существуют на свете – талантливые маленькие грустные музыканты, несущие радость другим.
Илоевых детей мне довелось видеть еще, и я запомнил их навсегда. Странно, но видел я их всегда в одной обстановке – в центре деревни, где провожали отъезжающих в Тбилиси.
Если не ошибаюсь, одной из первых после войны покинула деревню и отбыла в Тбилиси Зизи. Хорошо помню центр деревни и повозку с двумя лошадьми, которую в деревне называли «линейкой». На этой повозке ездили в Телави до станции, а уж из Телави кахетинским поездом – до Тбилиси. Как только мы окончили школу, Зизи заладила: хочу в Тбилиси. Она считала дни до отъезда и наконец своего добилась. В одно прекрасное июльское утро она стояла в центре деревни со своим чемоданчиком – сияющая, довольная, счастливая. Она ехала учиться, и мать с ней: сниму, дескать, ей комнату, устрою и вернусь… Может, попадутся добрые люди, и я им отплачу добром. Провожать Зизи вышла почти вся деревня, столпились вокруг линейки, суетились, галдели, напутствовали отъезжающих молитвами и добрыми пожеланиями. В этой кутерьме чуть поодаль, через дорогу, увидел я Илоевых детей. Взявшись за руки, они с любопытством и грустью смотрели на суетящихся людей. Некоторое время я наблюдал за ними, но вот кучер тронул лошадей, все смешалось, и я об Илоевых детях позабыл. Лишь возвращаясь домой, вспомнил, как они с улыбкой махали рукой вслед двинувшейся повозке.
Между прочим, многие учиться дальше захотели в Тбилиси. Раньше почему-то никто, кроме Зизи, этого желания не обнаруживал. Но стоило Зизи уехать, как мне пришлось чуть не каждый день провожать своих одноклассников – вместе с ними уезжали и те, кто окончил школу в прошлом и позапрошлом году. И всегда на одном и том же месте, как на посту, стояли, взявшись за руки, Илоевы дети и с грустной, но светлой улыбкой махали рукой уезжающим в Тбилиси односельчанам. Я всегда с невольным почтением присматривался к этим детям.
Вот я и проводил всех. Остался в деревне почти один – я, который еще в прошлом году пасмурным осенним днем сломя голову бежал отсюда.
Окончание школы – событие само по себе большое и важное. После этого сразу, без промедления, нужно оторваться от вчерашнего дня, от вчерашнего быта и образа жизни. Наступает конец однообразной и регламентированной жизни, на смену приходит новое. И нужно быть внутренне готовым к переменам.
Я на второй же день почувствовал дуновение новой жизни. Да и немудрено. Не нужно было идти в школу и учить уроки, возникало ощущение каникул. Все чаще я думал об Илоевых детях и о самом Ило. Я не знал его, но всерьез беспокоился, вернется ли он с войны. А вдруг не вернется – что будет с его детьми?
Судьба Зизи меня волновала не меньше. Я не смог постичь тайну ее безумного стремления, которое казалось мне показным и неискренним. С ее отъездом деревня будто обезлюдела, утратила голос и слух, потеряла всю свою прелесть и привлекательность… Получалось, что деревня была прекрасной, лишь пока в ней царил дух Зизи.
Думал я и об Иотамовых конях, о сивых скакунах. Не хотелось верить, что они выродились, и, завидев коня, я с волнением вздрагивал: уж не грузинский ли это лурджа?
С тех пор, как Анано столько мне рассказала, я преобразился, словно приобретя жизненный опыт: я знал то, чего никто вокруг – ни сверстники, ни взрослые – не знал. Это переполняло меня тайным превосходством.
Времени для размышлений у меня было вдоволь. Целыми днями я сидел один – Анано с наступлением весны перевели то ли главным экономистом, то ли бухгалтером колхоза, и она с утра до вечера была на работе. Заняться мне было нечем, и я либо бесцельно слонялся взад-вперед, либо сидел дома и ждал Анано. Порой казалось, что Анано обо мне забыла, рассказала сокровенное, отвела душу и успокоилась, хотя заботилась она обо мне по-прежнему. Но я чувствовал, что высказалась она не до конца. О главной своей боли не рассказала. Однажды утром, заметив, что Анано не собирается выходить из дому, я спросил: «А дальше что было, почему не рассказываешь?» Анано притворилась, что не поняла, о чем речь, но я почувствовал, что настроение у нее мгновенно изменилось. Она куда-то ушла, но вскоре возвратилась, заглянула ко мне в комнату и улыбнулась: «Ты здесь?» Мы уже не могли обманывать друг друга. Я понял, что она готова рассказывать дальше.
Итак…
За месяц до начала войны к Анано приехал на лошади смуглый худощавый человек и, не спешившись, заговорил с ней: «Я из Нислаури, сосед Сабы, хочу его видеть». Из-под глубоко, чуть ли не до бровей надвинутой тушинской шапки проглядывали посеребренные виски. Судя по загорелому лицу и обветренной коже, большую часть жизни гость проводил под открытым небом. Анано пригласила его в дом: «Добро пожаловать, гость послан богом, но Сабы здесь нет». «Знаю, – ответил ей гость и многозначительно улыбнулся. – Но в деревне мне сказали, что он, возможно, здесь появится». Анано открыла ворота, гость привязал коня к тутовому дереву, а сам вошел во двор. Подожду, мол, немного, и если он не появится вовремя, то передам ему кое-что и поеду своей дорогой.
Анано догадалась, что гость – Тома Бикашвили. И верно – войдя во двор, он представился; Анано сразу вынесла стул и усадила его на балконе. Вопреки первому впечатлению Тома Бикашвили оказался человеком словоохотливым. Он все сокрушался, что Саба кинул отчий дом без присмотра и тот приходит в упадок. Вовремя не спасти его – значит бросить на произвол всякой нечисти. Да что там говорить: она и так гуляет по дому, как ветер.
Анано приготовила закуску, но Тома Бикашвили полдничать не остался – опоздаю в дорогу. Он поднял тост за Анано, благословил ее дом, выпил стакан вина и уехал. Анано расстроилась: «Только вошел, а уже за порог».
Не успела Анано подумать, что он уже далеко, как Тома Бикашвили появился вновь. «Передай парню, что Барнабишвили объявился в деревне, всего неделя, как вернулся», – сказал он, извинившись, что так забывчив.
Интересно, правда ли Тома Бикашвили вспомнил про Барнабишвили лишь на обратном пути или, объехав всю деревню и не найдя Сабы, решил сказать Анано то, что вначале скрыл?
– Озо, хочешь верь, хочешь нет, но как только я увидела Тому Бикашвили, то сразу почуяла, что он скажет. Не возвратись он, я все равно бы знала, зачем он Сабу искал. Да я и так давно ждала. Все думала, не сегодня завтра приедет кто-то и скажет: «Барнабишвили вернулся». И вот человек с этой вестью. Если бы ты знал, Озо, как я разволновалась, сердце у меня заколотилось, я запылала, как стог сена, и потеряла голову. Не знаю, какой бес в меня вселился. Меня словно чужая воля вела. И радость была не моя, на мою не похожая, беспричинная. Радовалась… а радоваться-то было нечему.
Я одна знала, зачем вернулся Барнабишвили. Чему быть, того не миновать! «Судьба заставила его вернуться, – думала я, – а как она распорядится дальше?» Теперь я все думала, как бы отправить Сабу в Нислаури. Я и раньше ему твердила: «Поезжай, присмотри за домом, нельзя, чтобы пришел в упадок очаг предков». Но он ехать не думал. «Что было, то было, – говорил он. – Не хочу ни дома этого, ни имущества, хочу жить свободно, как птица, я злобы людской боюсь». На миг у меня мелькнула мысль, что Саба с Томой Бикашвили договорился, чтобы тот сообщил ему, если Барнабишвили появится. Но ведь с тех пор много воды утекло… Семь или восемь лет прошло с тех пор, как арестовали Барнабишвили и Саба покинул деревню, отчий дом. А это срок немалый. Как изгнанник, скитался он по деревням да по дворам, находил приют где придется, жил лишь своим трудом и верил в свой путь. Кому стену возведет, кому крышу настелит, кому землю вскопает… И все задаром. Стоило слово сказать, и он тут же приходил на помощь. Но своего достоинства ущемлять не позволял.
Анано перевела дух, задумалась, потом продолжала.
Саба в тот день не появлялся, лишь назавтра пришел, и я сразу сказала, что Тома Бикашвили его ищет. «Да что ты, – обрадовался он. – Жаль, что меня дома не было». «Тома велел передать, что дом твой рушится и чтобы ты приехал на денек-другой», – сказала я. «Рушится – ну и пусть, – ответил он. – Я туда не поеду». Тут я сразу поняла, что Тома Бикашвили приходил по своей воле. Наверное, он решил: «Исполню долг – сообщу Сабе, что Барнабишвили вернулся». С той минуты я как пристала к Сабе, так и не давала ему покоя. Все твердила: «Зачем человеку жертвовать домом своих предков?»
А он уперся – и ни в какую. Но и я была хороша, не отставала от него, всю душу вымотала. Про Барнабишвили я не упоминала. Скрыла от него.
САБА. Не старайся столкнуть меня с пути. Кончено, и все тут!
АНАНО. Эх, ты! Да ты шагу не должен был ступить оттуда, там должен был осесть, где твоя родина.
САБА. Останься я там, не заболел бы тобой!
АНАНО. Все шутишь?
САБА. А что, не правда разве? Разве не так? Ты встала на моем пути, не то я давно бы уже был по ту сторону Ципского туннеля.
АНАНО. Сам не хочешь домой ехать – хоть меня повези, покажи свой очаг. Должна же я знать, где ты родился, где вырос, откуда пришел.
САБА. Повезу, но сначала заглянем в сельсовет.
АНАНО(будто не поняв). А что мы в сельсовете забыли?
САБА. А то не знаешь – что!
АНАНО. Но ведь ты говорил, что осенью.
САБА. Зачем ждать осени?
АНАНО(смеясь). Пока не покажешь свой дом, пока не узнаю, кто ты и откуда, не пойду за тебя…
Не знаю, к какой еще женской хитрости прибегла Анано, к какой ворожбе – об этом она не сказала. Согласия Сабы она, конечно, добилась, и они решили ехать вместе. Все воскресенье они тщательно собирались. Даже купили в сельмаге конфет для соседских ребятишек. Саба пошутил: «Пока меня там не было, наверное, и новая ребятня успела народиться». После долгих сборов они верхом на лошадях пустились в сторону Нислаури.
Ехали почти до вечера. Дважды останавливались. Она не думала, что до Нислаури так далеко. Под конец они долго ехали вдоль берега Алазани, и когда Анано решила, что скоро край света, Саба воскликнул вдруг: «Ну, вот и Нислаури!» Анано увидела деревню, стоявшую высоко на склоне и утопавшую в зелени (оказывается, снизу не вся деревня была видна). Берег Алазани, вязы, холмы и пригорки, лиственный лес за деревней… Она знала это по рассказам Сабы.
– Я не думала, что Сабина деревня так оторвана от мира, – рассказывала Анано. – Мы поднимались на лошадях по узкой тропинке, а в деревню вела колея. До этого я чувствовала себя сносно, а тут стало не по себе – близилось время, когда мне нужно было сказать Сабе о главном. Да, я должна была сказать: «Мы приехали сюда потому, что Барнабишвили вернулся, и ты обязан с ним встретиться!» Я волновалась. Но Саба этого не заметил, он ехал рядом и чему-то удивлялся. Сначала я не поняла, что его беспокоило, но потом уловила: «Куда делись люди, где вся деревня?» Я ничего такого не заметила, люди нам навстречу попадались. Они с любопытством присматривались к нам и, как правило, здоровались. Мы остановились перед покосившимся забором у низенького старого дома, и Саба сказал: «Вот и наш дом», – спрыгнул с лошади, помог спрыгнуть мне и, улыбаясь, уставился на старое свое гнездо. Я знала, что дом у них одноэтажный, но представляла его другим. Дом был сложен из камня. Балкона не было. Поднявшись по трем каменным ступенькам, мы оказались прямо перед тяжелой дубовой дверью. Во дворе в ту пору цвели старые яблони. Цветы были осыпаны роящимися пчелами. Вдруг перед нами предстали три женщины, одетые в черное, с черными косынками на головах…
Соседские женщины, одна из которых была пожилой, не признали Сабу, но в разговор вступили охотно. Сабе этот разговор кое-что прояснил. За семь лет деревня и впрямь опустела. Народ разбрелся по другим деревням. Особенно не сиделось молодежи.
– Одно мне не понравилось, – вспоминала Анано. – Когда Саба спросил про Тому Бикашвили, женщины ответили, что он, дескать, уехал первым. Собрал свои пожитки и вместе с женой и детьми переселился в Мирзаани. Этого я не ожидала, у меня чуть колени не подкосились, и я невольно схватилась за седло. В пути надеялась, что Тома Бикашвили в деревне нас встретит.
Прежде чем войти в дом, Саба соседкам представился. Женщины своим оханьем и аханьем всполошили всю деревню. Они вошли вместе с нами в дом, быстренько все прибрали, подмели, почистили. Кто вино притащил, кто – хлеб, кто – мясо. Снял с седла свой хурджин со снедью и Саба – стол был накрыт… «В этом печальном доме вновь должна зазвучать песня», – говорили настроившиеся на кутеж нислаурцы. А Анано, оказывается, в каждом мужчине, входящем в дом, видела Барнабишвили. Но ее ожидания не оправдались. Барнабишвили в тот вечер не появился, да и мог ли он там появиться?
Теперь Анано думала: «Барнабишвили не пришел, но хоть кто-то о нем упомянет. Неужели ни один о нем не вспомнит?» Но вот прокричали первые петухи и, шатаясь, ушел последний гость, а про Барнабишвили никто не вспомнил, словно не было его на свете. Когда они остались одни, Саба сказал: «С ума, что ли, сошел этот Тома Бикашвили, разве дом рушится? Ни одной черепицы не упало с крыши. Все здесь, как я оставил!» В конце концов Анано пришлось сказать, зачем приезжал Тома Бикашвили и что просил Сабе передать. Она сказала.
САБА. Если Барнабишвили вернулся, то где он? Почему не явился?
АНАНО. Не знаю. Тома обманывать не стал бы, он прямо сказал – Барнабишвили вернулся.
САБА. Хорошо, пусть так… вернулся… А мне что делать?
АНАНО. Не хочешь с ним встретиться, поговорить?
САБА. А зачем? О чем нам говорить?
АНАНО. Ты же мужчина! Неужели тебе сказать нечего?
САБА. Ладно, давай спать… Утро вечера мудренее.
Всю ночь Анано не спала… Словно бес вселился к ней в душу. Она с нетерпением ждала рассвета, будучи глубоко уверена, что встреча с Барнабишвили неизбежна.
Саба встал ни свет ни заря – и сразу за дело. Анано увидела из окна, как он седлал лошадей. Потом ускакал куда-то на лошади. И, вернувшись вскоре, снаружи позвал Анано – пора ехать. Они наспех закусили и двинулись в путь, ни с кем не попрощавшись. Деревня еще спала.
– Был последний день мая, я хорошо помню, – продолжала рассказ Анано.
Они возвращались той же дорогой, какой приехали. Саба спешил, и Анано тоже приходилось свою лошадь подгонять. Нетрудно было догадаться, что, спеша, Саба хотел избежать встречи с Барнабишвили. Анано так и решила: «Не хочет он этой встречи». Ее прежние страсти как будто улеглись. Она думала о чести Сабы, о том, что грех ему сносить обиду за своего отца безропотно. «Если ему все равно, то чего ради я сюда ехала?» – размышляла Анано. Но спокойствие Анано оказалось мнимым. В душе ее вновь проснулись демоны, изгнать которых она не могла.
Спуск они одолели пешком, а у Алазани вновь сели на лошадей. Анано только сейчас заметила, как вздулась и помутнела река. Здесь они должны были взять влево. Но Саба поехал вправо, быстро миновал вязы, свернул вверх по тропинке и остановил лошадь на маленьком, усыпанном цветами пригорке. Внизу, шагах в ста от пригорка, у реки, Анано увидела стоящего к ним спиной человека. Он копал яму.
– Вон Барнабишвили! – показал Саба рукой.
Анано охватило волнение. Загорелся прежний огонь.
Но внешне она осталась спокойной и сказала:
– Давай к нему подойдем.
Они оставили лошадей на пригорке и спустились вниз пешком. Барнабишвили копал яму самозабвенно и, как они подошли, не слышал.
– Я же тебе сказал, это Барнабишвили! – засмеялся Саба.
Барнабишвили вздрогнул и резко повернулся, держа лопату в руках.

Был он приземистый, почти квадратный, кругломордый и лысый. С густыми, закрученными наподобие усов бровями. Маленькие, близко посаженные, бегающие глазки. Прямой, тонкий нос с большими ноздрями. Запавший, как ямка, безгубый рот. Старая рваная сорочка цвета хаки, того же цвета галифе, заправленные в грязные белые деревенской вязки носки. Ноги в старых остроносых калошах…
Таким Анано Барнабишвили и запомнила.
– Кто вы такие, чего надо? – встревоженно спросил он надтреснутым басом, не выпуская лопаты из рук – видно, решил защищаться.
– Мы здешние, нислаурские, – успокоил его Саба.
– Что-то на здешних не похожи, – с сомнением произнес Барнабишвили.
– И ты не похож на здешнего, а вот ведь здесь… Успокойся, Барнабишвили, и положи лопату. – Саба присел там же и посмотрел Барнабишвили в лицо. Анано он велел тоже: – Присядь, – но она не села.
– Вот. Положил лопату. – Барнабишвили выпрямился, стоя у ямы с опущенными руками.
– Если ты деревья сажать собираешься, помогу.
– Я сам знаю, что мне делать. – Он опять схватился за лопату.
– Чего ты злишься, кацо, мы не с враждой пришли.
– Но, должно быть, и не с миром. – Барнабишвили жалко захихикал, дыхание у него сперло.
– Может, выпьешь водки за утреннюю благодать?
– Я-а-а?.. Никогда не пил, никогда не пил!.. – пробубнил он.
– Так, значит, все, что ты совершил, совершил по трезвости?
– Да, все! – подтвердил тот самодовольно.
– Странно видеть тебя спозаранку – да с лопатой в руках.
– Что тут странного? Разве я не тружусь всю жизнь?
– Трудишься, но… Кто бы мог подумать, что тебе придется работать лопатой?
– Да-аа… Кто мог подумать, кто мог подумать…
– Второго такого председателя на свете не сыскать было.
– Ты, видно, и вправду здешний…
– Был здешний, потом собрался и уехал… Но про добрые твои дела не забыл.
– И на том спасибо!.. Свет стал такой неблагодарный. – Тут он понизил голос и шепотом, словно поверяя тайну, сказал: – Сколько я для них сделал, сколько сделал… день и ночь, день и ночь трудился на их благо… а они взяли и весь мой труд в воду бухнули.
– Кацо, и ты этим светом не доволен?
– Я в этой глухомани коллектив создал, чего им еще?! Кто бы еще в такую дыру поехал? А они все бухнули в воду.
– Как тех лошадей, да?
– Ты откуда знаешь? – Сначала у Барнабишвили как бы случайно вырвался этот вопрос, потом он повторил его другим тоном – Откуда это тебе известно?
– Известно.
Саба четко описал, как выгнали с опушки леса сотню скакунов и как здесь, именно в этом месте, согнали их в Алазани криками и палками.
Барнабишвили сразу обмяк и как-то уменьшился. Он безвольно сел и опустил ноги в вырытую яму, с трудом просунув меж ляжек дрожащие руки.
– Я же признал, что ошибся, – он виновато понурил голову. – Не должен я был продавать их, менять на золото…
– На золото?
– Пристали ко мне, проклятые, и совратили с пути истинного… Кто не ошибался хоть раз? Простите меня.
– Сколько ты продал?
– За каждую лошадь мне дали двадцать пять рублей… золотом… откуда мне было знать, что это контрабандисты, что они коней в Иран продадут?.. Откуда мне было знать, а? Они со мной по-человечески разговаривали, я думал, они порядочные люди, а они контрабандистами оказались.
– Сколько коней спаслось?
– Не знаю… Помню, они отсчитали мне триста золотых пятирублевок. Блестящие были…
– Это ты хорошо запомнил.
– Шестьдесят коней спаслось, – быстро подсчитала Анано.
– Да, наверное, так… – согласился Барнабишвили. – Триста золотых пятирублевок… только не помню, где я их зарыл. Я вам скажу и это, вспомню и скажу…
– А скажи, – спросила теперь уже Анано, – ты и за овец Иотамовых золотом брал?
– За Иотамовых овец? – смущенно улыбнулся Барнабишвили и потупил глаза. – Нет, я взял за них нашими деньгами. Да и кто бы дал за овец золото? Золото – дело другое! Золото… золото… не помню, где я его зарыл…
– Поняла, зачем он ямы копает?
Саба поднялся с земли и подошел к Анано.
– Золото ищет, – сказала Анано.
Внезапно у Барнабишвили помутнели глаза и челюсть скривилась. Он неожиданно выпрыгнул из ямы и стал нервно ходить взад-вперед. Дойдет до определенной черты и – назад. Долго он ходил таким манером, но за черту не переступал, словно на стену натыкаясь.
– Видишь, в каком он состоянии? – Саба повернулся спиной к Барнабишвили. – Идем отсюда.
– Подожди! – Анано, наоборот, глаз с Барнабишвили не сводила. – И эта мразь справилась со всей деревней?
– Сейчас говорить легко… Давай уйдем! Видишь, не человек он больше.
– Нет, подожди! – Анано сделала несколько шагов вперед. – Барнабишвили!
Барнабишвили повернулся чуть вбок, потом упал на землю и пополз, словно лазейку нашел. Так ползком он добрался до лопаты и схватил ее. «Вспомнил, вспомнил», – закричал он и с лопатой в руках побежал. Анано на расстоянии последовала за ним. Барнабишвили раза два оглянулся и поспешил убраться прочь…
– Он будто убегал, будто от кого-то прятался, – рассказывала мне Анано. – А я шла за ним, шаг за шагом. Спиной я чувствовала взгляд Сабы. Один раз он даже позвал меня. Остановить хотел, но не смог. Сквозь ветви я увидела, как Барнабишвили остановился у большого вяза, внимательно осмотрел его, дважды обошел вокруг, снова остановился и уставился на дерево. Потом подошел к вязу вплотную, прислонился к нему спиной и отсчитал семь шагов в мою сторону. Да, я хорошо помню, семь шагов… На седьмом шагу земля словно разверзлась и поглотила его. Я поняла, что нога у него провалилась в яму… Он искал, где копать яму, но она кем-то была уже выкопана. Он притих, потом, лежа на животе, потянулся, засунув в яму голову и руки. Яма была выкопана давно, она заросла травой и сверху была незаметна. Барнабишвили больше не двигался, и я испугалась, не умер ли он в яме. Я позвала его:
– Барнабишвили!
Барнабишвили вздрогнул и высунул голову из ямы, но встать не встал.
Саба еще раз окликнул Анано: «Уйдем отсюда».
– Барнабишвили, помнишь Иотама? – не унималась Анано.
– Иотама?
– Помнишь или нет?
Барнабишвили не ответил.
– Это Саба – сын Иотама!
– Иотама я не убивал.
– Это сын Иотама! – еще раз повторила Анано и показала рукой в сторону Сабы.
Барнабишвили даже не пытался встать, он лишь поднял голову, осмотрелся кругом и ползком, не оглядываясь, двинулся к Алазани, вприпрыжку сокращая себе путь к реке. Добравшись до берега Алазани, он за долю секунды, не успели они и глазом моргнуть, прыгнул в реку, как лягушка, на которую замахнулся палкой мальчишка и которая плюхнулась в воду, чтобы спастись… Он словно смешался со своей стихией, нашел путь к спасению, единственное убежище…
Пораженная, Анано смотрела на поверхность реки, ожидая, что вот-вот голова Барнабишвили высунется из воды!
Напрасно.
Вдруг она услышала голос Сабы:
– Этого ты хотела?!
Как могла Анано подумать, что слышит голос Сабы в последний раз! Домой они вернулись в ссоре, за всю дорогу слова не проронили.
– Он проводил меня до дому, – рассказывала Анано, – даже не попрощался, не взглянул на меня, ушел и увел лошадей. Ушел молча. После этого я его не видала, больше он не приходил… Вскоре началась война.
Глаза Анано наполнились слезами, но удивительно: ни одна из них не скатилась. Слезы так и высохли, не пролившись, словно горечь и мука впитали их.
Я вышел в большую комнату, бесцельно покрутился, потом подошел к окну, выглянул на задний двор: перед саманником копошились куры, и только теперь я вспомнил нашего красного петуха, который, взмыв на саманник, переменил цвет и улетел.







