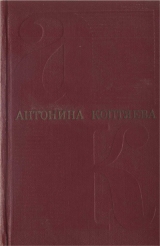
Текст книги "Собрание сочинений. Том 3. Дружба"
Автор книги: Антонина Коптяева
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 35 страниц)
– Ну, я побегу. – Хижняк, не прячась, вытер глаза, еще раз тиснул руку Логунова, сообщил ему номер своей полевой почты и, сразу заспешив, побежал дальше.
– Денис Антонович! – крикнул Логунов, кинувшись за ним. – О Варе известий не получали?
– В Сталинграде она. На переправе.
– На переправе. – Логунов счастливо-взволнованно блеснул глазами – и побледнел: ведь фашисты бомбят теперь Сталинград непрестанно. – Вы ее видели?
– Как же!.. – уклончиво отозвался Хижняк и опять заспешил, крича на ходу: – Ничего, жива-здорова!
Он не смог бы сейчас сообщить Платону, что на свидание с Варей ходил не он, а Иван Иванович.
Проголосовав на дороге, фельдшер перемахнул через борт остановившейся машины и через какой-нибудь час был уже в расположении своей воинской части. Санитары как раз кормили собак, подобранных ими на военных дорогах и в сгоревших поселках для подготовки к санитарной службе. Разномастные Дружки, Шарики и Верные, толкая друг друга, иногда переругиваясь незлобно, наперебой хлебали жидковатый супец из цинкового корыта и деревянных лоханей.
– Ну, чем не свинушки? – почти с умилением сказал большерукий, нескладный солдат, пробиваясь к корыту и вытряхивая из полы затрепанного халата мелко нарезанные куски черствого хлеба.
– Ты хлеб-то положил бы заранее в суп. Оно было бы лучше. – Хижняк поискал взглядом своего выученника, которому дал громкую кличку Джульбарс, и полез в карман за гостинцем. – Ежели тебе дать такую водянистую бурду, тоже небось зачавкаешь. Эх ты, голова-а! – добавил он, отвечая улыбкой на широкую, простодушную улыбку своего санитара. – Нет, братец, собака – самое благороднейшее существо. Помирать она тоже не хочет, от бомбежек вперед нас в щель заскочит, но раз ты вместе с ней тянешь упряжку под обстрелом, она тебя не подведет. – Отдавая припасенную кость бывшему дворовому, а теперь военнообязанному Джульбарсу, грудастому криволапому псу с лихо заломленным ухом над широкой добродушной мордой, Хижняк ласково огладил его и с одолевшей сердце тоской сказал: – Собак тоже крова лишили, изверги!
– Хуже всего бои в голых степях! Ни на повозке, ни на машине не обернешься, – говорил Хижняк вечером на полковом медпункте, куда доставил последнего выхваченного им из-под огня раненого. – Только вот на собаках и возим сейчас. Но тоже невесело: осколки так и свистят. Собачонки приноровились – ползут. А раненому на тележке каково? То ли он живой еще, то ли добитый!
Выйдя из землянки медпункта, Хижняк заботливо и строго оглядел своих санитаров, куривших возле собачьих упряжек под низким навесом крыши.
– Сейчас тронемся обратно, только письмишко жене отправлю, пока не кончилась передышка после атаки. Целые сутки с собой его ношу.
Тоже присев под навесом, фельдшер вынул из нагрудного кармана помятое, уже потертое на сгибе письмо и стал перечитывать неровные, местами расплывшиеся строчки. Потом и порохом пахнет от фронтового послания, но переписывать некогда, не отправлять – нельзя; вдруг стукнет самого лекаря горячим осколком снаряда и не получит от него жена ни ответа, ни привета. А тут какое ни есть письмо, и знает Хижняк, как обрадуется ему Елена Денисовна…
«Здравствуй, дорогая моя жена!
Здравствуйте, милые дети Наташенька, Миша и Павлик!
Пишет вам ваш батько – кубанский бывший казак, а теперь фельдшер санитарного взвода Денис Хижняк. Очень я скучаю по вас, мои родные, хотя скучать нам здесь некогда. Давит подлый враг со всей силой, не успеваем отбиваться. Поэтому домой меня пока не ждите, разве только буду ранен, тогда увидимся».
Тут автор, поставив точку, явно задумался (в письме образовался пробел). Возможно, последняя фраза показалась фельдшеру жестокой, и он представил, как голубые глаза жены заволокло слезами, а может статься, пришлось бежать за солдатами в атаку.
«Особенно не волнуйтесь, – написал он ниже, – не один я здесь такой, а все, кто может держать оружие. К тому же работа моя не опасная. Иду я со своими санитарами позади бойцов, вернее – ползем мы с ними и подбираем раненых. Мальчишки пусть учатся, не сдавая темпов. Наташеньку берегите. Сделайте ей летнее пальтецо из моего белого пиджака. Ей оно пойдет. Я на тебя, Лена, полагаюсь, как на самого себя. Много хорошего ты мне дала, женка! Теперь я тебе и за то благодарен, что через твое упрямство Сибирь полюбил. Заняли немцы Украину, Крым и родную Кубань. Очень это мне больно, но знаю, как велика и сильна наша страна. Здесь тоже хорошо, если бы не война. Помидоры растут по блюдцу, а тыквы… Вот где тыквы-то – не обхватить! Растут себе на степном приволье без всяких ухищрений.
Привет вам от Ивана Ивановича. Он работает в госпитале ведущим хирургом. И знаешь, Лена, по всем приметам, влюбился он здесь в военного врача Ларису Петровну Фирсову. Очень даже стоящая женщина, но семейная. Понимаешь, какой трудный оборот опять получается? До свидания, мои дорогие. Крепко вас обнимаю и целую.
Ваш отец Денис Хижняк».
Фельдшер бережно свернул письмо, вложил его обратно в конверт, крупно написал над адресом: «Авиапочта», и зашагал к блиндажу, где находился почтальон.
47
Полевой подвижной госпиталь превратился фактически в медсанбат. Все врачи приняли это как должное и продолжали работу по-прежнему. Один Смольников был словно на иголках. Румяные щеки его заметно побледнели за последнее время, даже лысина утратила блеск и розовость. Он еще жевал что-нибудь по старой привычке через каждые два-три часа, но упитанность заметно спадала с него.
– Григорий Герасимович, что вы такой тощий? Кушали бы, как наш красавчик Смольников, «понемножку, но часто» – глядишь, и похорошели бы! – пошутила бесцеремонная Софья Вениаминовна перед началом смены.
Решетов нахмурился. Иван Иванович иронически усмехнулся.
Софья тоже чувствовала, что Смольников ненадежный человек, а обстановка складывалась очень серьезная… Софья даже забросила ежедневные обливания холодной водой и в ожидании Ларисы научилась скучать.
– Проснулась сегодня ночью и так затосковала, не могу одна в избушке находиться, да и только, Бояться стала, что ли?.. – громко говорила она Решетову. – Вышла во двор – вроде легче. Вытащила постель и устроилась на открытом воздухе. Лежу и слушаю – в Сталинграде дикий рев, на западе и на юге бухают; лежу и думаю: «В огненном кольце находимся!» Встала опять. Хожу, смотрю на зарево над Волгой: небо прозрачно-красное, будто раскалилось. Повернулась к Дону – там все горит. Заплакала я, ну просто разревелась, – каково теперь нашим бойцам.
– Всем достается, а солдатам особенно. Вчера я одного оперировал… Могучий парнюга, батареец. Кулачище – во! – Решетов, действительно очень похудевший за последние дни, сложил свои кулаки, тряхнул ими. – «Ты, говорит, доктор, починяй меня как следует. У меня работа тяжелая, горячая. Чтобы выдюжить». Я думал, он в тыл собирается, а он в строй обратно хочет.
– У немцев тоже свои герои есть, – вмешался в разговор Злобин. – Сегодня наши трех снайперов взяли в плен, на всех троих оказалось три ноги…
– Как же это? – удивились врачи.
– Смертники, наверное. Ведь фашисты иногда своих пулеметчиков на цепь приковывают, – сказал Решетов задумчиво и даже сочувственно.
– Все одноногие инвалиды, но снайперы сверхметкие, – продолжал Злобин, еле заметно усмехнувшись. – Их специально на машинах подбрасывали. Наши солдаты заинтересовались: как они рискнули пойти снова на фронт после таких ранений? «Что, мол, вас потянуло?» Думали, скажут: за идею, за родину… Хотя бы за фюрера! А ответ был совершенно в духе гитлеровской грабь-армии: будто фюрер обещал им по имению, если они истребят достаточное число русских.
– Я думаю, мы должны теперь обратиться в санотдел армии, – сказал Смольников, когда Решетов объявил начало очередной пятиминутки. – Подадим рапорт всем коллективом.
Решетов, сутуля широкие плечи, удивленно посмотрел на него.
– О чем?
– Мы не имеем права подвергать риску своих раненых, – ответил Смольников, не сумев скрыть волнения: обычно плавные движения его рук сделались неловко суетливыми. – Мы полевой подвижной госпиталь, а стоим на линии медсанбата. Это накладывает большую ответственность… Не тот профиль. Нельзя здесь, в непосредственной близости от фронта, в обстановке, так сказать, полуокружения, госпитализировать раненых.
– Что же, прикажете оставлять их на поле боя? – непривычно побагровев, спросил Решетов. – Мы должны заботиться не о названии своего госпиталя, а всеми силами помогать защитникам города. Я лично одного лишь боюсь: чтобы нас не отозвали за Волгу.
В землянке, заменявшей и ординаторскую, и конференц-зал, послышались восклицания:
– Правильно!
– Пусть будем медсанбатом, в чем дело?
– Кому нужно переваривать пищу спокойно, пусть отправляется в тыл.
– Ну что вы, товарищи! Ведь я о раненых хлопочу, – запротестовал сконфуженный Смольников.
– О них здесь нужно хлопотать! – сказала Софья Шефер.
– Тем более что переправиться сейчас через Волгу – такое же серьезное дело, как побывать в атаке, – напомнил Логунов.
Проводив Коробова с эшелоном раненых, эвакуированных на левый берег, он сам остался в госпитале, хотя всей душой рвался в Сталинград, где находилась Варвара; простреленная нога его распухла, появились покраснение, сильная боль, и поневоле пришлось лечиться. А как только в политотделе дивизии стало известно, что Логунов задержался здесь, его назначили комиссаром госпиталя.
Услышав слова Логунова насчет переправы, Иван Иванович понял, что Платон беспокоится о Варе.
«Милая Варенька, как она сожалела, что ей приходится воевать по тылам, и вот попала в самое пекло».
Выйдя после работы из блиндажа операционной, Иван Иванович поднялся на бугор и посмотрел вокруг. Восточная линия горизонта тонула в сплошном дыму, в голо-холмистой степи тоже повсюду виднелись сизые дымы пожаров, из которых выступала, точно кулак, водонапорная башня железнодорожной станции.
Невеселый вид и днем!
«Уж на что крепкая Софья Шефер, ничем ее не проймешь, и то затосковала. А Лариса? Где же Лариса? Конечно, она уехала совсем. Забрала своих малышей, мать и переправилась за Волгу. Ей это простительно. Она – не Смольников. Ишь ты, о чем он беспокоится: не тот профиль госпиталя!» И снова мысли Ивана Ивановича устремились к Ларисе, такой женственной и такой непреклонной. Хорошо, что уехала, когда-нибудь он все равно увидит ее! Но если… Верно сказала Софья: дикий рев стоит над Сталинградом. Точно сама земля рычит, обезумев от боли и гнева.
48
– У нас новый санитар появился, – сказал Логунов в госпитальной палате.
В подземелье после яркого дневного света казалось темно, но Иван Иванович сразу разглядел среди двухъярусных нар тонкую фигуру Лени Мотина.
– Я его давно знаю! – Хирург улыбнулся Лене, спросил нарочито строго: – Опять, наверно, не спал, не ел, не «чай пил»?
– Никак нет. Покушал основательно, – четко отрапортовал Мотин и сразу сбился на домашний тон: – Томочка нам такой суп сготовила!
– Суп ты только пробовал, – выдал его кто-то слабым голосом. – Гляди, если перестанешь ноги таскать, нам легче не будет.
– Чувствуете, товарищ военврач, как ограничивает свои потребности санитар Мотин? – полушутя заметил Логунов. Ему тоже нравился этот старательный паренек. – Письмо от родных получил?
– Нету. Придет почтальон, выложит письма на стол. Я подойду, смотрю, смотрю, нет ли мне в ответ хоть две строчки, а ничего. – Мотина очень удручало молчание родителей. – Другие каждый день получают, а я жду, жду… Скучно ждать. Мамаша малограмотная, а братишки и сестренки – все мелкота… Отец на фронте… Может, погиб уже… – И, стесняясь, что столько времени отнял своими печалями, Мотин торопливо добавил: – Иван Иванович, вы посмотрите, какой у меня теперь помощник.
Все трое прошли в глубину блиндажа. Аржанов поискал взглядом и увидел мальчика, сидевшего на краю нар. Маленькая ручка смуглела на белой повязке, охватившей плечо и грудь раненого, ножонки далеко не доставали до земляного пола.
– Я дружу и с гражданскими, – тоненьким голоском говорил мальчик.
– Значит, ты военным хочешь стать? – спрашивал раненый. – Лучше уж инженером или учителем. А что хорошего военным быть? Видишь, какая она страшная, война-то?
– Страшная, – серьезно согласился мальчик. – У нас бабушку и Танечку фашисты убили. Бомбами. Я тоже был засыпанный. На нас весь дом свалился.
– Чей это? – Иван Иванович, уже догадываясь, взволнованно обернулся к Логунову.
– Сынишка Фирсовой.
– Ларисы Петровны? Где же она? – Голос хирурга зазвучал глухо. – Зачем она ребенка сюда затащила? Что за безумие?
– Конечно, безумие. Хотя я ее понимаю, – тихо ответил Логунов. – Во время бомбежки города у нее погибли мать и дочурка. Мальчика она отходила и не хочет отправлять через Волгу, говорит: «Погибнем, так вместе».
– Решетов знает?
– Да, она к нему сразу пришла, когда вернулась.
– Лешечка, – позвал Леня Мотин, – покажись-ка нашему доктору!
Круглая головка с маленькими оттопыренными ушами быстро повернулась, и из-под коротко остриженной челки глянули черные глазенки. Мальчик осторожно высвободил руку из ладони раненого, слез с койки и подошел.
Приподняв носик, он вопросительно взглянул на Логунова и очень внимательно – на высокого нового доктора.
– Здравствуй, герой, будем знакомы! – полушутя сказал Иван Иванович, хотя ему было совсем не до шуток.
– Я не герой.
– Подрастешь, будешь героем.
– Лучше маршалом.
– Ого. – Доктор взял на руки мальчика, гибкого и легкого, как перышко, радостно всмотрелся в его лицо. Ни одной черты, напоминающей Ларису.
«На отца похож», – подумал Иван Иванович, и на сердце у него защемило.
– Скучно тебе здесь будет, Алеша. Играть не с кем, по улице бегать опасно.
– Я раньше играл…
– Побьем, прогоним немцев, опять хорошо заживешь. А пока поскучать придется, – сочувственно говорил хирург, в то же время понимая, что сейчас этот блиндаж единственное убежище для ребенка.
– Мне не скучно. Я помогаю тут, – сказал мальчик. – Попросили пить, я чайничек подал. Я с ними, ранеными, разговариваю. Мне дядя Леня позволил.
– Вот ты какой! – прошептал Иван Иванович и не удержался – поцеловал мальчика в плечо и в тонкую шейку. – Действуй, товарищ маршал!
Выходя из блиндажа, Аржанов с особенной остротой ощутил свое одиночество.
«Тосковал, с ума сходил от беспокойства, а она даже официально не доложила о своем приезде. Решетову известно о ее большом горе, а я так… случайный, чужой человек!»
Почтальон торопливо прошел по балке. Туго набитая сумка его привлекла внимание доктора.
«Сколько писем! А у меня, как у Лени Мотина: „Скучно ждать“. Да и ждать-то не от кого: всех родных растерял, только раненые пишут!»
49
– А вам письмо! – весело сообщил Хижняк, сидевший за столом в землянке, где он теперь помещался вместе с Иваном Ивановичем и Злобиным.
Изба в поселке – квартира врачей – сгорела, и они перебрались на «новоселье» в верховье балки, рядом с госпиталем. Воинская часть, в которой находился в последнее время Хижняк, направилась на переформирование, а фельдшер выпросился обратно в «свой» госпиталь.
– От Вареньки, – пояснил он, протягивая хирургу легкий конвертик.
Аржанов обрадованно взял письмо, но задержался взглядом на сияющем лице фельдшера.
– Вы тоже получили?
– Два. От Елены Денисовны и от старшего сына, из-под Воронежа. – Хижняк помедлил, но взглянул на письмо в руках Аржанова и сказал: – Жена пишет, что Ольга Павловна вместе с Тавровым пошла на фронт. Его направили на строительство рубежей, а Ольга Павловна – газетным работником. Писала она Лене… Видно по всему, дружно с новым мужем живет. Теперь они недалеко отсюда, на Клетском направлении.
Хижняк посмотрел в точно окаменевшее лицо товарища и добавил:
– Вы на меня не обижайтесь, я вам хорошего хочу. Ей-богу! Кого вам искать лучше Вареньки? Конечно, свет не клином на ней сошелся, а только такую милую, такую верную вряд ли найдете. Ведь здесь нашего брата мужчин хоть Волгу пруди, да все молодежь, да еще жизнь рисковая: сегодня жив, а завтра исчез, как дым в облаках. Однако девушка, кроме вас, никого в мысли не держит…
– Да?
– Я вам говорю! – Хижняк подтянул к себе свою санитарную сумку, лежавшую на нарах. – Вот смотрите: письмо за письмом.
– Так она вам пишет!
– А о ком пишет?! Вы прочитайте. – Хижняк разложил конверты веером на столе. – Выбирайте любое.
Аржанов взял одно.
«Денис Антонович! – писала Варвара. – Вы хоть немножко присматривайте там за Иваном Ивановичем».
– Как будто у Дениса Антоновича иного дела нет! – усмехнувшись, пробормотал хирург.
Он взял другой конверт, вытянул из него свернутый лист бумаги.
«Вы бы попросили Ивана Ивановича, пусть он возьмет меня к себе хирургической сестрой. Я боюсь, что в один жаркий день пойду ко дну, так и не повидав вас».
– Что же вы ответили на это?
– Ну что я мог написать ей, когда здесь положение хуже некуда!
– А вообще-то как ответили?
– Вообще? – Хижняк покраснел, казалось, вся кровь бросилась ему в лицо, и оно потемнело в скудном свете окопной «молнии». – Пока еще никак.
– Ни на одно письмо?
– Ни на одно…
– Эх, Денис Анто-но-вич! – упрекнул доктор. – К самой милой, самой верной такое отношение!
– Работа! Пора горячая! – оправдывался Хижняк. – Сами знаете… Вырвешь минутку – семье написать надо.
– Да, да, да! – В ушах Ивана Ивановича снова прозвучали слова Лени Мотина: «Скучно ждать», вспомнились слезы Варвары на берегу далекой Каменушки, недавнее свидание на Волге.
«Родная, хорошая девушка! Тоже, наверно, подходит всякий раз к почтальону и смотрит, смотрит: „Нет ли и мне хоть двух строчек?“»
Он разорвал конверт.
«Я все ждала, что вы напишете мне хотя бы несколько слов. Неужели я не нужна вам как медсестра? Когда-то вы хвалили меня, вам нравилось со мной работать… Может быть, я назойлива, но мне хочется иметь хоть крошечное местечко в вашем сердце. Наш маленький пароход тащит под огнем врага большую, неповоротливую баржу. Ему тяжело с ней, но страшно подумать, что бомба избавит его от этой тяжести. Моя привязанность к вам тоже тяготит меня. Но что я без нее! Я тоже не могу, не хочу ее лишаться. Однако мне кажется (так оно и бывает у других): не тяжесть, а радость приносит любовь в жизнь. Иначе зачем она?! Похоже, я противоречу сама себе. Немножко запуталась, но это ничего, дорогой Иван Иванович. Хорошо и то, что есть на свете человек, о котором болеешь душой. Это тоже прекрасно. И пусть я буду болеть всю жизнь, лишь бы вы жили и трудились для народа.
Навсегда преданная вам Варвара Громова».
– Ах ты, Варя-Варюша! – прошептал Иван Иванович и взглянул на Хижняка.
Тот быстро-быстро строчил письмо.
– Елене Денисовне?
– Нет, Вареньке. Пишу, что вы обещали похлопотать о том, чтобы ее перевели в наш госпиталь хирургической сестрой.
– Хорошо. Но пока мы будем разговаривать об этом с начальством, нам, наверное, придется отойти на новый рубеж. Слышишь, что творится на воле?
– Еще бы не слышать! – Хижняк стряхнул с письма сухую как золу землю, потекшую с потолка после очередного сотрясения. – Вы далеко ли? Разве спать не ляжете?
– Расхотелось. Пойду посмотрю, что делается в операционной. Привет Вареньке передайте. Я не стану копить столько писем без ответа, как вернусь, так и напишу.
– Надо бы сразу написать! – сказал Хижняк, глядя на дверь, за которой исчезла крупная фигура хирурга. – Здесь все минутой держится. Не любит он тебя, Варюша! Бывало, от Ольги письма получал… И-и, как взвивался, ответ слал без промедления. А ежели она неделю-другую промолчит, так с лица спадал, ожидаючи. Нет, не выйдет с Варенькой. Ничего не получится.
«Дружно живут! И прекрасно, пусть живут! – думал Иван Иванович, выходя из землянки. – Давеча кольнуло меня, а сейчас уже прошло. Даже рад за Ольгу. Все-таки хорошая она была. А сейчас, наверно, еще лучше: богатство жизни красит людей». Однако, несмотря на эти рассуждения, он не ощущал никакой радости. Даже наоборот: ему стало очень грустно. Любил человека, был предан ему телом и душой и жестоко прогорел! Ну допустил ошибку, ну сплоховал. Но разве он не захотел бы исправить эту ошибку? А Ольга молчала, копила гнев про себя, а потом вылила все сразу.
«С Тавровым на фронт пошла, а со мной в тайгу не поехала. Совсем близко отсюда находится! Еще и встретимся, чего доброго! Нет, я этого не желаю. Дружно живут! А я разве не хотел дружно?!» И снова такая волна горечи, обиды, оскорбленной гордости поднялась в душе Ивана Ивановича, что он покачнулся, и не только покачнулся, но и упал.
Уже растянувшись в пыли, хирург понял, что упал не просто так, а ранен.
«Как же это меня? Наверное, опять десант сбросили… Вот не вовремя!» – с досадой подумал Иван Иванович, не испытывая ни боли, ни испуга, протянул руку – цела, другая – тоже, пошевелил ногами – в порядке.
«Что же? – Доктор сделал усилие, сел, пощупал бока, грудь, спину и ощутил: горячее потекло под рубашку с плеча. – Ах, черт! – Он тронул рану на шее, чего не разрешал своим больным, стряхнул с пальцев кровь. – Зазевался, вот и толкнуло».
Иван Иванович встал, но сразу нагнулся – пули посвистывали над степью, – согнулся еще и зашагал по балке к операционной, то и дело встречаясь с бойцами, связистами и легкоранеными, которые в сопровождении санитаров шли к эвакопункту. До операционной хирург не дошел: закружилась голова, и он чуть не сбил с ног женщину в шинели, накинутой на белый халат.
– Товарищ Аржанов, голубчик, вы ранены? – услышал он испуганный голос Софьи Вениаминовны, которая подхватила его под мышки и, крепко обняв и придерживая, повела.
Ветер дул с северо-востока, окрестность тонула в дыму, багровом от зарева, охватившего почти все небо, и отовсюду доносились взрывы, как удары гигантских кувалд, отдававшиеся звоном в ушах.
– Осторожнее! – приговаривала Софья Вениаминовна, сводя доктора вниз по ступеням в блиндаж, где он был недавно и где лежали раненые после операций. – Вот и хорошо! Тут мы вас и посмотрим! – сказала она, усадила его на табурет в перевязочной и подняла лампу так, чтобы рассмотреть рану. – Ничего, могло быть и хуже. На несколько миллиметров поправее, и был бы полный выход в тираж. Товарищ Фирсова! Идите сюда, дорогая! Требуется маленькая обработка.
«Лариса!»
На душе у Ивана Ивановича захолонуло.
50
Лариса не могла вспомнить, сколько времени она провела со своим сынишкой в уцелевшем подвале какого-то разрушенного дома. Долгое время мальчик не приходил в сознание, потом открыл мутные глазенки, поводил ими бессмысленно и снова точно заснул. Он не говорил ни слова, ничего не слышал и не узнавал мать.
Прижимая его к груди, она ходила под низкими сводами, словно уносила от опасности уцелевшего детеныша, боясь хоть на минуточку присесть с ним: внизу стояла сизая пелена, в которой раздавались то хрипы, то стоны – дым душил людей в подземельях. Прибежавшие дружинницы вытащили из подвала раненых и увели Ларису, обезумевшую от горя.
Она попала в береговой медсанбат. Когда у нее хотели взять сына, она начала бурно сопротивляться и плакать. Тогда возле нее очутилась Наташа Чистякова.
– Лариса Петровна, миленькая! – сказала девушка усталым голосом, глаза ее были красны и слезились, изъеденные дымом. – Ведь вы уморите себя и Алешу убьете так. Ребенку требуется покой, ему лекарство нужно, а вы его таскаете, как кошка котенка. Успокойтесь. Он будет здесь, я сама буду за ним присматривать.
Наташа погладила Ларису по голове и тихо взяла у нее мальчика, совсем так, как брала мертвых детей из рук матерей, сошедших с ума. Чего только не насмотрелась она за эти сутки!
Потом Лариса очнулась где-то на полу. Возле нее на сене, прикрытом простыней, тихо, как мышонок, сидел Алеша. С минуту они молча смотрели друг на друга. Все пережитое встало перед Ларисой, страшной болью стиснуло сердце. Она чуть не закричала. Но ее сын был тут, рядом, и задумчиво, совсем по-взрослому, смотрел на нее.
– Алеша! – еле слышно прошептала она.
– Спи, мамочка. – Алеша заботливо прикрыл ее полой шинели. – Доктор сказал: это хорошо, что ты спишь.
– Алеша!.. – Она прижала к губам его маленькие руки. – Ты меня слышишь?
– Конечно, слышу, – серьезно и немножко удивленно ответил он. – Только я не помню, как мы пришли сюда.
Вздох, похожий на стон, вырвался у Ларисы, но она взглянула на сына, увидела его готовность заплакать вместе с нею и резким движением села на постели, подавляя подступившие рыдания.
– Тебе лучше стало? – спросил мальчик, обнимая ее. И по тому, как он заглянул ей в глаза, как ласкался, женщина угадала его желание спросить о чем-то и смутную боязнь снова расстроить ее.
И все-таки он спросил:
– Фашисты убили их? Да?
Лариса промолчала, не в силах произнести ни слова.
– Сказали: «Воздушная тревога! Воздушная тревога!» И мы побежали прятаться. Не сразу побежали. Бабушка лежала в постели. А потом как застреляли, как затряслось все, она вскочила. Пошла и упала. Мы ее поднимали. Мы еще вернулись, взяли узел. Танечка надела новую шубку. И уж тогда побежали в подвал. И другие туда побежали. А на улице лежала лошадь… Лежит, лягается всеми ногами, и кровь кругом. А возчик сидел на тротуаре и держался за голову. И пока мы шли, так сидел. А в фартуке на коленях у него тоже была кровь. И туда еще текло с головы. Бабушка все кричала: «Алеша, скорее! Не оглядывайся, Алеша!» И тащила меня за руку. А Танечка тащила узел. И все тряслось… Как сейчас, – заключил Алеша и заплакал, наконец-то осмыслив, что произошло…
Лишь к утру следующего дня Лариса смогла подумать о том, куда им податься. Ей предлагали переехать на левый берег. Сначала она согласилась, но когда увидела Волгу, серую, дымную, покрытую всплесками огня и воды, то переправа испугала ее. Ей показалось, что она должна взять своего мальчика и, подняв его над головой, пойти навстречу вражескому обстрелу.
Многие жители бежали с детьми в голую степь, точно во время землетрясения, и Лариса подумала о своем полевом госпитале… Воспоминание об Аржанове вызвало у нее новую боль и вместе с тем стыд. Теперь она готова была обвинить себя в том, что, увлекшись этим человеком, не узнала вовремя, уехали ли ее дети. Мысль о том, что она стремилась к нему, когда дорогие ей беспомощные существа были оставлены на произвол судьбы, одна эта мысль приводила Ларису в неистовое отчаяние.
И все-таки молодая женщина решила вернуться в госпиталь: там сейчас было единственное убежище для ее ребенка и работа, которую надо выполнять по долгу воинской службы.
51
– Ой, Иван Иванович! – воскликнул Леня Мотин, по-бабьи всплеснув ладонями, и захлопотал, толкая всех острыми локтями.
– Мотин, не суетись! Давай сюда по порядку: спирт, скальпель, бинты, – властно распоряжалась Софья Вениаминовна.
Иван Иванович в это время нетерпеливо смотрел на дверь, завешенную простыней.
– Здравствуйте, Лариса Петровна! – волнуясь сказал он, увидев знакомую руку и полуобернутую назад гордую голову; входя в перевязочную, Фирсова заканчивала с кем-то разговор.
Когда она подошла, Иван Иванович поразился ее сурово-отчужденному выражению. Перед ним стояла совсем другая женщина. Перемена в ее лице, точно обтаявшем за последние дни, тоже поразила его. Огромными стали глаза – широкий траур ресниц еще увеличивал их, – почти просвечивали полукружия век и тонкие крылья заострившегося носа, а горькие складочки отяжеляли углы скорбно сомкнутых губ. Это было лицо смертельно раненного человека, и тем не менее оно было прекрасно!
«Милая! Бедная моя! Сколько пришлось тебе перестрадать!»
Иван Иванович даже забыл, что его ранило, смотрел на Фирсову, ощущал прикосновения ее рук, и наперекор всему росло в нем желание большой любви и счастья.
– Удачный случай, – сказала Лариса Софье Вениаминовне, обращая к ней глаза, которые, кажется, никогда не освещались блеском улыбки.
«Очень удачный, – мысленно повторил Иван Иванович, следя, как она привычным жестом надевала белую маску. – Хоть это помогло увидеть тебя вблизи!»
Но глаза женщины напоминают ему о ее горе, и лицо его тоже тускнеет.
– Вам хуже? – тревожно спрашивает Софья Вениаминовна, отыскивая кончиками пальцев биение его пульса. – Нет, ничего, – отвечает она сама себе. – Держите голову, вот так. Сейчас мы все устроим. И до утра придется вам здесь полежать…
– Лариса Петровна, товарищ Решетов вызывает вас в операционную, – сказал среди ночи Леня Мотин.
Иван Иванович, лежавший на нарах в угловом отсеке, увидел, как Лариса осторожно высвободила руку из ручонок спавшего сына, возле которого прикорнула не раздеваясь, как прикрыла его серым солдатским одеялом, поправила прическу и быстрой походкой прошла между нарами. Иван Иванович ждал: может быть, подойдет, спросит о самочувствии… хоть взглянет мимоходом. Он бы подошел и спросил любого из своих врачей. Пусть пустячная была бы царапина, но спросил бы. А она – нет. Ушла!
– Мама! – испуганно позвал сразу проснувшийся Алеша.
Иван Иванович шевельнулся – встать, но возле мальчика появился Леня Мотин.
– Спи, хлопчик. Мамочка ушла на работу.
– Я боюсь, когда она уходит… Уйдет и не придет… Как бабушка…
– Не надо вспоминать, Лешечка! – сказал Леня Мотин, садясь возле на койку и по-матерински поглаживая круглую головку, темневшую на подушке. – На войне всегда так: сегодня живой, а завтра нету.
– Мы дома жили…
– Что поделаешь, раз война пришла прямо в дом. Вот прогоним фашистов, и опять хорошо у нас будет.
– А командир живой, которого в лицо ранили?
– Нет, умер. Только что унесли.
– Мой папа тоже командир. Танкист. Мамочка была веселая, когда мы жили вместе. Один раз она смеялась даже до слез. Это когда мы с папой устроили театр, я нарочно играл на пианино, а он плясал. Он покупал нам игрушки и носил нас на руках. Меня, Таню, мамочку тоже носил… Или всех сразу…
Душно в блиндаже. Пахнет лекарствами, стонут раненые. За занавеской, в перевязочной, дежурная сестра выговаривает за что-то санитару, который пришел сменить Леню Мотина. И сквозь все звуки пробивается тоненький встревоженный детский голосок:
– Моего папу тоже ведь могут убить?
– Спи, хлопчик, спи!
«До чего хорош этот Леня Мотин, – думает Иван Иванович. – Вот такой же хороший парень был Никита Бурцев».
52
В откосах балки норы блиндажей. Возле одного из них устроена полевая кухня: низкий навес под тростниковой крышей, сверху слегка прикрытый дерном, печь из кирпичей. Труба от печи выведена по земле в сторону, топить приказано с опаской, главным образом по ночам. А чего тут опасаться, когда кругом дымят пожары? Но ночью и перед рассветом был сильный артобстрел, бомбили самолеты, и кухня с завтраком запоздала.
Тамара Спирина дула на шипевшие дрова, щурила глаза, влажные от едкого дыма. Поварской колпак ее сбился на затылок, курносое лицо под колечками кудряшек все раскраснелось и было запачкано сажей.








