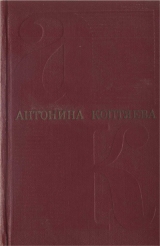
Текст книги "Собрание сочинений. Том 3. Дружба"
Автор книги: Антонина Коптяева
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 35 страниц)
Иван Иванович не ответил, крепко сжав ее теплую ладонь.
– Я не хочу лицемерить и не предлагаю вам только дружбу. – Лариса открыто и сразу серьезно посмотрела на него. – Но давайте не будем говорить и о любви. Я не могу быть откровенной сейчас, и все слова будут неправдой.
– А что же правда?
Лариса промолчала. Ветер шевелил пряди ее густых волос, выбившихся из-под пилотки, теребил у дороги сизоватые кустики низенького полынка. Совсем по-летнему жгло солнце, и голубые миражи струились вдали по бурым просторам, откуда несло горечью и дымом пожарищ. Отовсюду доносились глухие уханья взрывов…
– Что же правда? – настойчиво повторил Иван Иванович, глядя на Ларису и видя ее такой, как вчера во дворе, возле белевшей в сумерках степной хатенки.
Фирсова хотела нахмуриться, но неудержимая, обжигающая улыбка помимо воли заиграла на ее лице, зовуще-ласково вспыхнули глаза – все, чем была переполнена душа, само пробилось наружу.
– Правда то, что мы все-таки вместе.
29
– Газовая гангрена, – определил Иван Иванович, осмотрев лейтенанта Бережкова, который был ранен в окружении и два дня с боями выводил свое подразделение на линию фронта.
Небольшая рана в мякоть над коленом. Слепая. Осколочная.
Иван Иванович снова прощупал опухшую ногу лейтенанта. Раненый глухо застонал, все в нем было напряжено до крайности, и он реагировал остро и жадно на каждый жест главного хирурга.
Процесс уже зашел далеко. Картина ясная: неживого вида и цвета мышца пучком выпирала из раны… И отек, и легкое поскрипывание под туго натянутой кожей, покрытой бронзовыми пятнами. Впрочем, пятна бывают разного цвета.
Хирург взглянул в серовато-бледное молодое лицо с обострившимися чертами и запавшими глазами. Дома, в Сибири, мать ждет, жена с ребенком…
– Крепитирует? – вполголоса спросил подошедший Решетов.
– Определенно. – Иван Иванович, слегка нажимая кончиками пальцев на кожу, прошелся по всем направлениям от раны. – Чувствуете? Явная крепитация.
Раненый тревожно смотрел на хирургов. Здесь, в обстановке госпиталя, он, храбрый офицер, превратился в обычного больного и очень нервничал, беспокоясь о том, чтобы ему сохранили ногу. «Крепитация? Шут его знает, что это такое, но явно нехорошее, судя по выражению лиц обоих докторов».
– Вы слышите, как скрипит кожа, когда я на нее надавливаю? – угадав его мысли, обратился к нему Иван Иванович. – Вот, словно капустный лист… Это и есть крепитация.
– А почему?
Главный хирург на минуточку замялся. Человек смотрел на него со страхом и надеждой, ожидая решения своей судьбы… Но скрывать истину было невозможно.
– Воздух. Пузырьки газа от омертвения и распада тканей. – Иван Иванович придвинулся к лейтенанту и прямо поглядел в его глаза, наполненные теперь смертельной тоской: – Голубчик, придется вам пожертвовать ногой ради спасения жизни.
Бледное лицо офицера стало совсем восковым.
– Неужели нельзя иначе? Неужели это нельзя остановить?
Хирург взял его за горячую, потную руку – недавно такая сильная рука, а сейчас она дрожит…
«Как помочь здесь? До чего же мы, врачи, еще слабы! Инженеры овладели и огнем, и водой, и воздухом, а нас какой-то микроб, ничтожное существо, не видимое невооруженным глазом, ставит в тупик! Вот гангрена газовая: все, что захватила, – ее!»
– Неужели нельзя остановить? – повторил Бережков, прерывая мучительные мысли Ивана Ивановича.
– Разве мы не остановили бы, если бы могли? – В голосе хирурга прорвалось столько горячего сочувствия, что раненый зажмурился, кусая губы.
Гордость боевого командира превозмогла отчаяние, однако взгляд его устремился на второго хирурга.
– Да, иного выхода, кроме ампутации, нет, причем на уровне почти паховой складки, – вздохнув, подтвердил Решетов.
Высказанное прозвучало как приговор. У Бережкова больно защемило сердце, в пот и озноб снова бросило его… Ампутация! А проще сказать: вырвавшись из окружения, уйдя от позора плена и смерти, добрался он сюда, чтобы стать калекой. И так страшно показалось ему это, что он подумал: «Уж лучше разнесла бы меня в клочья та мина, в горячке и не почувствовал бы ничего! Ну куда я без ноги?!»
Ему вспомнилось, как, окончив семь классов школы, он стал заведовать магазином сельпо, где был и продавцом, и счетоводом, и рабочим. Полы мыла его мать, вдовуха, жившая вместе с ним в крохотной квартирке возле магазина. Когда требовалось поднести что-нибудь со склада, он шел и один приносил тюк мануфактуры, выкатывал бочку с рыбой или подхватывал за уши мешок с солью и тащил его в магазин на весу, радуясь удивленным взглядам покупателей. Девчата были от него без ума. Ему тоже крепко нравилась одна юная сибирячка. И еще вспомнилось Бережкову, как однажды приехало с ревизией начальство из райторга… В этот день и накануне он продавал жирную селедку, которую брали нарасхват. Пол в магазине закапали рассолом. Молодой завмаг решил навести порядок и сам, вооружась ножом, стал скоблить пол. Грязные стружки так и летели из-под его рук. Мать сметала их веником и смывала водой белые плахи.
В это время вошли его начальники, и он, раскрасневшийся, растерянно остановился перед ними, в шароварах, заправленных в ичиги, с грязным ножом в руках.
– Ничего! Физический труд – это полезно, – успокоил Бережкова начальник, открыто позавидовав его красивой молодости и силе.
Работал всегда исправно, только раз в магазине сельпо оказалась недостача, когда кошка погрызла и испортила около фунта маслозаготовки.
Получил премию. Женился. Поехал на курсы торговых работников – и вдруг война. Бережков мечтал о поездке на Чукотку или на охотское побережье. Наладить бы там культурную торговлю. Изучив местные языки, помогать освоению Севера. И вот на тебе – отрежут ногу! Дома сын растет. Второй год ему. Пишут – сорванец. А какова теперь будет жизнь для молоденькой жены? Как работать теперь?
– Ну как, дорогой? – грустно, но явно не ожидая возражения, спросил Иван Иванович.
– Вам виднее, – прерывисто дыша, ответил раненый. – Раз я обречен на то, чтобы сгнить заживо… о чем же разговаривать…
Когда Бережков уже засыпал на столе, сестра, поправляя намокшую вату, приподняла маску и увидела слезы, так и бежавшие по его лицу.
30
– А если бы широкие рассечения? – спросил хирург Леонид Злобин, зашедший, когда Бережкова уже унесли после операции в блиндаж госпитального взвода.
Злобину было лет тридцать. Высокого роста, плечистый, широкогрудый, необыкновенно сильный, он вопреки своей фамилии отличался ровностью, даже кротостью характера и обладал железным здоровьем. Казалось, ничто на свете не могло вывести его из равновесия. Однажды на подступах к Дону рядом с блиндажом, где он делал перевязки раненым, свалилась бомба в двести пятьдесят килограммов.
– Спасайтесь! Бомба замедленного действия! – закричал диким голосом санитар, заметивший при выходе у самой насыпи кровли хвостовое оперение авиаснаряда.
– Ну чего кричит? – Злобин спокойно положил бинт, отставил флакон с коллодием. – Раз не взорвалась – значит, и не взорвется, а если замедленного действия, надо ее убрать.
Он вышел, строгим голосом окликнул санитара, заскочившего в ближнюю воронку. Вдвоем они отрыли бомбу, с помощью подоспевших солдат оттащили ее в сторону и возвратились в землянку, где находилось десятка четыре тяжелораненых, но едва перешагнули через порог, раздался гул взрыва…
– Нехорошо, братец! – сказал тогда Злобин санитару. – Вместо того чтобы сразу действовать, ты поднимаешь панику.
– Ведь я не сапер! А бомба могла оказаться и в тонну весом.
– Тем более! Значит, раненых пришлось бы выносить.
Злобин не видел лейтенанта, которому сделали ампутацию.
Неужели ничего нельзя было сделать?
– Поздно. Вы представьте… – И Иван Иванович, все еще под впечатлением тяжелой операции, стал рассказывать.
– А я все-таки оставил бы ему культю пониже, – упрямо сказал Злобин, не считаясь с настроением товарища.
– Невозможно, Леонид Алексеевич! Крепитация ощущалась даже вот здесь. – Иван Иванович показал место на своей ноге.
– Но у меня были такие случаи. Применял открытое, без повязки, лечение ампутационной раны с постепенным натяжением кожного лоскута и мышц.
– А палатная инфекция? – с живым интересом к известному в хирургии, но не применявшемуся на практике методу спросил Аржанов.
– Не опасна. Наоборот: открытый доступ воздуха и свободный отток выделений из раны убивают гангрену.
– Сколько же придется держать раненого в госпитале?
– Очень долго. Здесь, в условиях отступления, трудно, конечно…
– Ну вот, видите! – слабо оправдывался Иван Иванович.
– Можно было бы наложить под повязку нити для натяжения и срочно отправить раненого на транспортном самолете в Саратов. В саратовском госпитале есть хирург, с которым мы в этом методе единомышленники.
– Ах, черт возьми! – сказал опечаленный Иван Иванович. – Если бы я знал раньше.
И снова он подумал о беспомощности медицины.
«Отрезать недолго, а вот пришить… Почему тут началась гангрена? И ранка-то пустяковая была! Ведь какие страшные бывают ранения – и ничего, обходится! Даже при наличии анаэробных бактерий в ране не все заболевают гангреной! Значит, существует какой-то контрудар в организме, подавляющий инфекцию. Значит, если организм не справляется, надо ввести в него батальоны, атакующие бактерию, создать этот необходимый контрудар. Задача – обойтись без ампутации при гангрене, а то до сих пор ампутация остается на первом плане».
Лицо Ларисы, полузакрытое маской, мелькнуло над одним из столов, и от ее беглого ласкового взгляда на душе у Ивана Ивановича потеплело. Он вздохнул свободнее, пошел мыть руки, но снова обернулся в сторону Фирсовой. Она уже была погружена в работу.
Сделано еще несколько операций. Нет-нет да и звучали в ушах хирурга слова, сказанные Ларисой накануне: «Правда то, что мы вместе». Да, это прекрасная правда! «Пусть не вовремя пришло чувство, – думал он. – Пусть и счастья не будет. Но так дороги для меня наши встречи, что я на все согласен, лишь бы ты не пожалела о знакомстве со мной».
В час дня в операционную зашел Решетов, постоял у столов, понаблюдал, потом тихо сказал:
– Плохи наши дела на Дону.
Иван Иванович строго взглянул на него:
– Почему?
– Немцы прорвали оборону, и наши отошли на левый берег, на последние рубежи перед Сталинградом.
Аржанов не успел собраться с мыслями, его поразило выражение лица подходившей Ларисы. У нее был очень расстроенный вид: не сурово нахмуренный, не сердитый, а растерянно-подавленный и что-то жалкое вздрагивало в уголках рта, казалось, она вот-вот заплачет.
– Что с вами, Лариса Петровна?
– Я… Мне принесли сейчас письмо. Моя семья все еще не эвакуировалась из Сталинграда… Заболела мама.
– Поезжайте немедленно! – приказал Решетов. – Даю вам отпуск на пять дней. Отправляйтесь с первой попутной машиной, а я тут все оформлю.
– Спасибо. – Лариса повернулась к двери.
– Лариса Петровна! – Иван Иванович так и рванулся за нею. – Может быть, я чем-нибудь помогу?
– Нет, я должна сама. До свидания… дорогой мой человек. Не провожайте меня. Вам некогда, и я тоже страшно спешу. Если бы вы знали, до чего мне нехорошо и неспокойно!
Едва Лариса вышла, доктор затосковал – хоть беги следом! С трудом он заставил себя работать; раненые поступали один тяжелее другого, и скоро хирург подчинил в нем все остальное. Радостная искорка погасла. Вчерашние слова Ларисы вытеснялись другими: «Страшно спешу! Если бы вы знали, до чего мне нехорошо и неспокойно!» Ее уже нет, и это была новая, жестокая правда. Обедать Иван Иванович не пошел, есть не хотелось, но примерно в пятом часу дня томительное беспокойство заставило его выйти из операционной. Хотя бы издали взглянуть на место, где вчера стояли с Ларисой. Нехорошо ей! Неужели раскаивается, сожалеет о своих словах. Нет, нет, она ведь сказала на прощанье: «Дорогой мой человек!»
Теперь в душе Ивана Ивановича господствовала одна Лариса. Он думал о ней, видел ее перед собой, как наяву: вот идет, говорит, улыбается. Только ему так улыбается она…
Выдалась минута удивительной тишины. Солнце светило, запах полыни – теплое дыхание степи – веял в лицо.
Хирург хотел было вернуться в операционную, но в это время где-то за его спиной грохнул взрыв невероятной силы. Охнула вся степь, будто раскололась она, истомившаяся от жажды, и из неведомых глубин раздался нескончаемый, все нараставший гул.
«Ведь это в Сталинграде! Неужели там бомбят? А Лариса? А ее семья?» – Доктору показалось, что земля заколебалась под его ногами.
Но она в самом деле колебалась.
Мысль о раненых заставила Ивана Ивановича поторопиться в операционную. Он шел, слушал адский гул, похожий на беспрерывный грохот внезапно проснувшегося вулкана, и не мог представить, что же происходило. Со стороны поселка быстрыми шагами спешил очень бледный Злобин.
– Два тяжелых известия сразу! – еще издали крикнул он. – Фашистские танки проскочили к Тракторному заводу, а сейчас начался небывалый воздушный удар по Сталинграду. Куда я иду? Работать, как и вы. Не допускать же, чтобы наши люди здесь истекали кровью!
«Здесь? А в Сталинграде?..» И еще два дорогих друга вспомнились доктору Аржанову: Денис Антонович Хижняк, опять отчисленный в распоряжение санчасти гвардейской дивизии, и Варенька Громова…
31
Тихой августовской ночью чуть слышно шевелится у берега сонная вода. Не поймешь, где небо, где земля: всюду неоглядно светятся, переливаются звезды. Еле ощутимый ветерок, играя, проходит по звездным этим просторам, и невольно расширяется грудь в глубоком вздохе.
Варвара сбросила гимнастерку, сняла сапоги и пошла по прохладному песку. Вода показалась ей теплой, как парное молоко. Девушка потуже закрутила косы на голове и стала умываться, плеща в лицо полными пригоршнями.
«Искупаться бы!» – мелькнула соблазнительная мысль.
С помощью Наташи Чистяковой Варвара все-таки научилась плавать, но влезть ночью в черную глубину, да еще в одиночку, не решилась. Она представила, как ее подхватился бы и понесло на быстрине, как она спешила бы к берегу, захлебываясь и повизгивая от страха, точно щенок, выкинутый из лодки, и невольно отступила от воды.
Одеваясь, девушка всмотрелась в далеко черневший правый берег, на котором раскинулся город. Там ни искорки, ни огонька. А дальше, в степи, где уже идут бои, работает в полевом госпитале Иван Иванович… Острая тревога снова овладела сердцем Вари: фашисты подходят все ближе.
Ей тоже хотелось выносить раненых с поля боя и уничтожать врага, к чему призывали все плакаты у переправы. Вспоминая, как приходилось в тайге убивать рысей и даже медведя, подошедшего однажды к юрте, она брала автомат, прикладываясь к ложе смуглой от загара щекой, прижмурив глянцево-черный глаз, азартно целилась в пустую синеву неба.
Днем и ночью Варя сопровождала раненых солдат на барже, ведомой буксиром через водный разлив, подавала им пить, прикрывала от солнца, отхаживала тех, кому делалось плохо. Глядя на их страдания, она все сильнее ненавидела фашистов, иногда ей становилось трудно дышать от этой ненависти, но, как нарочно, на баржу, где она работала, недавно попали пленные раненые эсэсовцы. Когда баржа была уже на середине реки, красноармейцы, оттеснив охрану, окружили немцев, чтобы выкинуть их в Волгу. Они порывались бить фашистов костылями, а Варя, тоненькая и легкая, яростно заслоняла гитлеровцев от побоев. Чуть не плача, она кричала своим бойцам: «Вы видите, мне самой противно подходить к ним. Но они тоже раненые, и я не дам их бить!» Солдаты даже растерялись от такого отпора и, притихнув, отодвинулись.
Бесконечный поток беженцев тоже шел через переправу днем и ночью, но у всех сложилось убеждение: город сдан не будет. И то, что за Доном шли ожесточенные бои и число раненых все увеличивалось, вселяло уверенность: армия не пропустит врага.
«Да, мы не уйдем отсюда!» – думала Варя, направляясь к своему пароходу «Гаситель», на который она перешла после того, как «Ласточка» была выведена из строя. Теперь и быстроходный «Гаситель» получил пробоину, и командир его, Трофим Петрович Чистяков, отец Наташи, спешно производил ремонт.
– За тобой тут уже приходили, дочка! – сказал он Варе, вылезая вслед за механиком из отсека машинного отделения и вытирая руки ветошкой; от него так и несло запахом технического масла.
Его седые усы, несколько вислый нос, то добрые, то сердитые темные глаза под твердым козырьком фуражки, манера говорить по «телефону», когда он стоял на мостике, – так же не похожем на мостик, как и «телефон» не походил на телефон, – были теперь милы Варваре, как в свое время нравилось ей все в Хижняке. Девушке не хватало семьи, и она льнула к друзьям по работе.
С Чистяковым Варвара подружилась во время обратных рейсов в город, когда она возвращалась не на барже, забитой здоровыми бойцами и военной техникой, а на борту «Гасителя». Тут всегда тоже находилось дело: то надо проверить пароходную аптечку, то обучить матросов, как накладывать повязки и шины при оказании первой помощи, как пользоваться индивидуальным пакетом.
– Кто за мной приходил, Трофим Петрович? – быстро спросила Варвара.
– Из эвакоприемника. Нужно сопровождать до Владимировки тяжелораненых командиров. Возьми вон хлебца мягкого, только что получили ребята. Помидорчиков женка моя принесла…
На ходу кусая ломоть свежевыпеченной пшеничной булки, Варвара быстро прошла по трапу: надо было выполнять приказание. Неужели не мог Иван Иванович похлопотать о том, чтобы взять ее с собою!
32
Машина, обыкновенная полуторка, закрытая сверху и с боков коробом из фанеры, шла среди пышного пойменного леса. Черные во мраке купы деревьев сливались в дремучие чащи, иногда они расступались, и в прогалинах светлели зеркала воды. Колеса звучно пересчитывали бревна мостов, людей в коробе обдавало речной свежестью и снова душила пыль большой военной дороги.
На рассвете машина остановилась у наплавного моста через Ахтубу – главную водную артерию займища – и долго ожидала своей очереди: навстречу все шли и шли к волжским переправам войска.
– Товарищ! Везите нас осторожнее, – обратилась Варя к шоферу, заглядывая через окошечко в кабину. – Раненые ведь…
– Тут и так не раскатишься, – озабоченно ответил водитель. – Дорога занята военной техникой и мотопехотой. Хорошо, что кругом в займище лес, вроде культурное укрытие, а дальше целина голая, один ковыль, солончаки да пахота – чугунные кочки. Вдруг налетит – начнет кидать. Степь эта, будь она неладна! Пустая, страшная.
Еще что-то приговаривая, шофер взвел машину на доски, положенные на длинный бревенчатый настил, плававший на воде и обнесенный по бокам перилами. Светлые брызги летели из-под тяжелых колес, качались и мост и машина, одолевавшая отдельные его звенья, примкнутые цепями.
Варвара сидела точно наседка, стараясь уберечь от толчков вверенных ее попечению раненых, снова и снова думала об Иване Ивановиче.
Во время встречи он поцеловал ее совсем не так, как при прощании на Каменушке. Но было ли это выражением любви, которой желала Варвара? Почему он не хочет, чтобы она была с ним? Почему ни строчки не напишет? Нет, права Наташа: сейчас надо отбросить все личное. Но личное опять одолевало, и все стоял где-то рядом с Варей и улыбался Иван Иванович.
Едва машина поднялась по улице на бугор, едва удалилась от Ахтубы, светлевшей в зелени поймы, как по сторонам дороги распахнулась степь без конца и края, все вокруг обернулось пустыней: желтые пески, верблюжьи колючки, седые глины солончаков. Заструились под знойным с самого утра солнцем голубые миражи, отражая в расплеснувшихся призрачных озерах телеграфные столбы, с гудением шагавшие по степи, домики, похожие издали на кроны садов, а то и на кочаны капусты, над которыми – точно серый заяц на дыбках – ветряная мельница, медленно поворачивающая тяжелым деревянным крылом.
Навстречу спешат, торопятся к переправе войска. Танки и артиллерия. Пехота едет, поднимая въедливую, густую пыль, ползущую рыже-бурыми клубами по шоссе и боковым проселкам.
«Что за пылища ужасная, сроду такой не видела! – думала Варя, прислушиваясь к стонам задыхающихся раненых, то и дело увлажняя их спекшиеся губы и запорошенные лица сырыми марлевыми салфетками. – Милые вы мои, стали от грязи как арбузики полосатые! – И сама задыхалась от пыли, бьющей в нос, в горло, в глаза. – Вот мучение! Впору противогазы надевать. Будто перину, взбили дорогу, и все висит в воздухе».
От раскаленных солнцем машин и танков, идущих почти впритирку в этой рыжей мгле, так и пышет жаром, бензином, масляной гарью. И было удивительно, как могли петь солдаты, проезжая мимо запыленных домиков степных поселков. Все молодежь. Поют, а во взглядах печаль и большое раздумье:
Стоим на страже
Всегда, всегда,
Но если скажет
Страна труда…
…Врагу мы скажем:
Нашу родину не тронь,
А то откроем сокрушительный огонь.
– Голубчики, родные! – шепчут старухи, притулившиеся у калиток.
– На подмогу идут! – с тоской говорят солдатки.
На привалах бегут девчонки, мальчишки, женщины, суют красноармейцам теплые булки, калачи, помидоры, тащат крынки с молоком, варенные вкрутую яйца, арбузы, воду в ведрах и жбанах.
– Бейте врага, ребятушки! Бейте его там хорошенько. Не пускайте фашиста на Волгу!
33
Пробежав степью, дорога спускается опять к зеленеющей пойме. Мазанки из самана, тесовые домики под железными и соломенными крышами. Районный центр Ленинск. Нелепо большие трубы, обмазанные глиной, напомнили Варваре камины родных юрт. Вдруг покажется вверху голова, повязанная темным платком, выдвинутся плечи; держась грязными руками за деревянный край – остов трубы из неровно опиленных жердей, – выглянет женщина. На груди ее на веревке котелок с глиной. Окинет взглядом соседние крыши, синюю даль и скроется. У дворов военные и загорелые босоногие ребятишки. Вокруг неимоверно пыльной площади белые каменные дома – раньше жили местные богачи, а теперь здесь везде госпитали.
Снова бурая степь и удушающая пыль, окатывающая волнами кабины и кузова машин, и снова возникает поселок на плоском горизонте. На окраине ни кустика. Шоссе входит в широкую серо-бурую улицу: деревянные домики с тесовыми крышами кажутся обсыпанными золой.
– У нас на переправе и то легче! – решила вконец измученная Варя, хрустя песком на зубах. – По крайней мере, воздух… когда не сильно бомбят.
– Владимировна! – сообщил грузноватый здоровяк шофер, пиная сапогом колеса машины. – Думал, спустил баллон. Нет ничего. – Он подтягивается повыше, заглядывает в короб самодельного автобуса; красивая медсестра явно интересует его, и он старается завязать разговор:
– Отсюда дорога на Баскунчак и грейдер на Астрахань – триста километров. Жара, пески да сайгаки – козлы степные шайками бегают…
Сообщение никого не заинтересовало, и шофер, по-богатырски вздохнув, снова взгромоздился за руль.
В госпитале, большом деревянном здании бывшей школы, Варвара сдала раненых.
– Поцелуй меня, сестрица! – попросил ее командир, раненный в голову. – Мне всю дорогу казалось, будто моя сестренка была со мной.
Варвара, не задумываясь, поцеловала его. И, раз уж так вышло, поцеловала она и полковника, у которого подскочила температура оттого, что его растрясло в дороге и чуть совсем не задушило пылью, и красавца старшину, раненного в живот, и ослепшего летчика, и обожженного моряка, и молодого казаха с перебитыми, уложенными в гипс ногами.
– Ваша жизнь, надо сказать, тоже беспокойная: ни уснуть, ни отдохнуть, – сразу заговорил шофер с Варей, севшей на обратном пути в кабину. – Между прочим, я сам с Баскунчака. Родился и вырос на соляных промыслах. У нас в озере воды нет, а сплошной пласт соли на всю глубину. Бело в берегах – аж как снег. Летом непривычному человеку чудно кажется. А шоферам – красота: ездят по соли, как по асфальту. Там и я начал гонять машину. Будем знакомы. Меня зовут Петя Растокин. Трудная, однако же, ваша работа, сестрица? – не то осведомился, не то опять посочувствовал он.
– Война! – кратко напомнила Варвара.
– Ну ясно, война. Всем достается, – согласился Петя Растокин. – Между прочим, вы не глядите, что я такой комплекции. Мне только двадцать четыре года. Просто с детства выпер, как на дрожжах.
– Я и не гляжу, – успокоила Варвара, не поняв, впрочем, озабоченности спутника. – Я вот, что бы ни ела, все равно не толстею.
Петя покраснел, как спелый помидор.
34
– Хорошо то, что мало бомбил сегодня: успели раненых разместить. С тех пор как подошел к Сталинграду, каждый день здесь бомбит. Понятное дело: скопление войск. Но мирных жителей больше того гибнет. – Петя Растокин переключил скорость, покосил на Варвару блестящим глазом. – Молчите? Ну, помолчите. Устали? Само собой разумеется.
Разговаривая, он не то для форса, не то от самоуверенности, то и дело выпускал из рук баранку руля.
«Неужели он ночью так же ехал? – с досадой подумала Варвара. – Толстый, солидный человек, а трепач невозможный! Видно, у него горло луженое».
– Вот давеча вы сказали насчет еды, – снова заговорил Петя Растокин – видимо, уязвленное самолюбие не давало ему покоя. – Полнота у меня от доброты, то есть от доброго характера. Где другой рассердится – я сроду нет.
– Ох! Надо вам жену завести сердитую, – вспылила Варвара.
– Что же, сердитая – это неплохо, лишь бы хорошая была… Из себя хорошая, – пояснил Петя и, снова взглянув на спутницу, успел заметить, как дрогнул в мимолетной усмешке уголок ее маленького рта, особенно яркого на измученном лице.
– Вы, между прочим, не татарка по национальности? – спросил он чуть погодя.
– Татарка, – угрюмо буркнула Варя.
– Тогда я могу вас заинтересовать…
Но разговор был опять прерван: военный регулировщик, подняв флажок, остановил машину и приказал Пете Растокину вынуть из станков носилки и подвезти до Средней Ахтубы целый взвод отставших пехотинцев.
– А прошлой ночью мне в кабину старика глухонемого подсунули, – начал Петя Растокин, едва машина тронулась с места. – Вот так наскучался я с ним!
Варя не лучше глухонемого продолжала хранить упорное молчание. «Пусть поговорит. Выдохнется. Не на круглые же сутки заведен».
Однако мысль, что шофер тоже работает круглосуточно, вызвала невольное сочувствие к нему, и с губ девушки сорвалось какое-то неопределенное восклицание. Обрадованный собеседник ее сразу так и взвился:
– Вы обратили свое внимание на постройки в Цареве возле Ленинска? Их сделали из кирпича, взятого из города татарского хана то ли Мамая, то ли Батыя. Ей-богу! Тут была столица орды. Тянулась верст на шестьдесят по Ахтубе. А потом кто-то татар побил, город разорил, и все замело песком. После стали раскапывать и строить из того кирпича дома. Говорят, семьсот лет ему, а звенит, как стекло. Я пробовал, – бил, ужас до чего крепкий! – Петя Растокин передохнул и сказал, немножко робея: – Вы будто царевна из того города.
– Хватит вам выдумывать! – оборвала Варя и поперхнулась от сухости в горле.
– А чего мне выдумывать! Еще бы на вас одежду хорошую!.. При раскопках тут находили бусы всякие, сережки, браслеты. В двадцать втором году американцы приезжали, нанимали людей и разрывали курганы. В одном месте нашли они золотого коня с брильянтовыми глазами…
– Большого?
– Не так уж большого, но порядочного. А у вас какое семейное положение?
– Вам-то что?
– Ну как же… Могу я поинтересоваться как человек холостой…
Девушка нахмурилась. Сначала ее так и потянуло сказать, что она замужем и что муж ее находится на рубежах под Сталинградом, но это показалось ей чуть ли не кощунством.
– Слушайте вы, Петя Растокин, – сказала она осипшим голосом. – Если вы скажете еще хоть одно слово, я вас презирать буду. Вы добрый, а я недобрая. Я очень злая сейчас. Столько страдания, столько горя кругом, а вы треплетесь, как балаболка.
После того в кабине установилось молчание, только звонко пощелкивал мелкий щебень, ударяясь о низ машины, да гудели, натужно шумели моторы, гусеницы, колеса медленно движущейся в тучах пыли воинской техники.
– Я молчу не потому, что вы меня пристыдили, – сказал Петя Растокин, когда впереди забелели высокие дома Царева, сложенные в самом деле из кирпича древнего татарского города. – На страдания и горе я тоже нагляделся, и сам о том понятие имею. А вот такую девушку славную как будто в первый раз вижу. Оттого и разговорился, оттого и замолчал, чтобы вы на меня совсем не рассердились.
Варя ничего не успела ответить: на западе раздался оглушительный ужасающий грохот и, разрастаясь, слился в сплошной дикий гул.
– Что это? – вскричала девушка.
Петя Растокин, тоже встревоженный, приостановил машину, да и движение на дороге совсем замедлилось: шоферы, солдаты, танкисты напряженно смотрели на запад. Тот же яркий день светился над пыльными бурьянами, над сизыми плешинами солончаков, так же жгло солнце, ушедшее далеко за полдень, а гром гремел и гремел беспрерывно.
– Это в Сталинграде! – Петя выскочил из кабины и растянулся на обочине, прислонясь ухом к земле. Полное лицо его утратило добродушное выражение. – Не то бомбят, не то артобстрел невозможный! – Он ступил на подножку, рывком кинул свое могучее тело на сиденье. – А ну, нажмем! Эхма, кабы попросторней было на шоссе!
Когда въезжали в Ленинск, солнце казалось совсем мутным и красным. Так могло быть и от пыли, стоявшей над городком, но все ужаснее становился грохот на западе.
«Да что же там происходит?» – думала Варвара с отчаянной тревогой в сердце.
Сейчас она была готова лететь туда сломя голову, как будто при ней события могли принять совсем другой оборот.
Возле почты Петя Растокин опять выскочил из машины и сразу вернулся.
– По телефону и радио сообщили: Сталинград в опасности. С пяти часов началась бомбежка.
Машина шла в общем потоке по степи, накрытой синим куполом неба, на котором с западного края клубилось теперь желто-сизое, местами черное облако: то был дым невиданного пожара – горел Сталинград.
35
Город в опасности! Его разрушают. Он уже горит, прекрасный, светлый город, окаймленный зеленью садов, высоко поставленный над величавой рекой, точно врезанный белизной стен в знойную синь южного неба.
«Сколько теперь раненых! Девчата, наверно, с ног сбились. А я тут езжу! Цел ли наш катер? Жив ли Трофим Петрович? Город бомбят! Как же теперь воевать в нем?! Кто не сгорит, задохнется в дыму. Люди побегут на берег, а немцы столкнут их в Волгу! Неправда! – кричит негодующий голос в душе Варвары. – Не столкнут! Мы ведь едем туда! Почему же побегут другие?»
Ей вспомнился далекий весенний день в родном наслеге и толпа якутов, высыпавших в поле, распаханное первым трактором.
«Смотрите, люди! – важно сказал широкоскулый тракторист в красной сатиновой рубахе. – Смотрите и запомните: я, якут Гаврила Слепцов, научился управлять машиной. Моего отца, Егора Слепцова, урядник насмерть забил нагайкой. Он зазвал к себе отца, будто оказал уважение, а на самом деле хотел посмеяться. Хотел удивить его новой штукой, которую купил в городе. Ту штуку – ящик с большой трубой – звали „граммофон“. Урядник поставил моего отца поближе и завел пластинку. Когда из трубы человечий голос закричал прямо в ухо отцу, старик испугался, хотел бежать и нечаянно толкнул подставку. Граммофон упал. Труба помялась. Урядник ударил Егора по лицу толстой плетью, сплетенной, как бабья коса, и сразу выбил ему глаз. Он бил его долго, и никто не посмел заступиться за бедного якута. Егор Слепцов ползком добрался домой и ночью умер. Я, его сын, не испугаюсь никакой машины. Я вспахал наше поле трактором».








