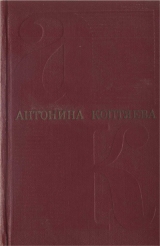
Текст книги "Собрание сочинений. Том 3. Дружба"
Автор книги: Антонина Коптяева
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 35 страниц)
– И я сибиряк, – буркнул Коробов. – Из енисейской тайги.
– Скажи на милость! Мы с Леной больше трех лет там отработали… – И Хижняк сразу задумался, вспоминая о жене и детях, о милой сердцу семейной жизни.
– Вчера продырявленную бочку из-под горючего на нас сбросили. Шум страшный получился, просто мороз по коже продрал, – рассказывал матросам Оляпкин, со вкусом раскуривая цигарку. – Все на психику хотят воздействовать. И между прочим, действует, хотя мы и так уж осатанели: после этой бочки мы их били зверски. Ведь никакого покою нет!
Махорочный дымок повис в полутемной норе, смешался с запахом пороховой гари, вдруг напомнил бойцу о деревенской улице, поросшей травкой-муравкой, по которой бегают ребятишки и бродят белогрудые гуси. Далеким сказочным сном представлялись здесь такие картины.
– Плохо фашисты разбираются в психике, – сказал Коробов. – Чем они нас напугать смогут? Да мы теперь со дна морского вынырнем, чтобы еще злее драться.
– Вы знаете, ребята, как я вынырнул в Черном море, когда погиб теплоход «Сванетия»? – Я плыл на нем из Севастополя в Новороссийск. – Нечаев ощутил, как сдвинулись вокруг него бойцы, сидевшие в укрытии, и лихорадочное волнение снова опалило его ознобом. – Какое страшное преступление совершили тогда фашисты!
…Не видно было ни синих бухт, ни белых обрывов береговых гор с черными пещерами каменоломен. Не видно и города – все окутала дымовая завеса. В этой адской мгле, выедавшей глаза, гремели гулко, грозно, раскатисто непрестанные взрывы бомб и снарядов… Что там творилось? Может быть, враг уже захватил весь Севастополь?
Город строился из крепких светлых известняков… Раскинутый на холмах по берегам бухт, он так и врезался белизной домов в густую синеву неба и моря. Гряда известняковых гор, тянувшаяся отсюда на восток по всему побережью полуострова, тоже связывала небо и море: смугловатая белизна скалистых вершин и снеговая кипень прибоя у подножий.
Город-порт… Окруженные зеленью дома его выносили узоры своих балконов в сплошной шелест листьев, в птичью болтовню. Открытые с боков трамвайчики летели по улицам, покачиваясь и звеня, насквозь овеваемые ветром, дышащим солоноватой свежестью моря. Асфальтированные проспекты переходили в нагорные окраины с заборами из ноздреватого рыжего ракушечного камня, с мощеными уличками-переулочками. Дома-дворцы и особняки, увитые виноградом и глициниями, уступали место древней простоте чистеньких рыбацких хижин.
В городе жили люди самых разнообразных профессий, но он по праву принадлежал морякам, а моряками здесь были почти все: матросы флота, рабочие завода морского судостроения и грузчики порта. Даже те, кто обслуживал огромное курортное хозяйство Крыма, не без основания причисляли себя к этому почетному званию: курорты тоже жили морем. Но все жители без исключения были патриотами своего прекрасного города.
Стоило выйти в любое время дня или ночи на Приморский бульвар, взглянуть на свободно дышащий голубой простор, и самый сухопутнейший из людей, впервые ступивший на севастопольскую землю, чувствовал себя навсегда очарованным.
Когда началась оборона, патриоты Севастополя на деле доказали свою преданность любимому городу. Но уже полгода длилась героическая борьба за него… Сначала эвакуировали отсюда детей. Беспрерывным потоком отправляли раненых. Теперь шла погрузка на последний теплоход. Душила пороховая гарь, пыль и дым завесы. Но без завесы нельзя: теплоход «Сванетия» был пришвартован к причалу, а наверху, над клубящейся мглой, гудели «юнкерсы», «хейнкели», «мессершмитты» – хищники охотились за санитарным судном. То и дело вздрагивала «Сванетия» всем громадным корпусом, шаркая бортом о бревна причала. Волны с разбегу хлестали по ней – бомбы падали на рейде. А погрузка продолжалась: с берега двигался бесконечный поток носилок, женщины с детьми, опять носилки. Кто в гипсе, кто без ног. Все морская пехота. На восковых, без кровинки, лицах – слезы, в запавших глазах – смертная тоска, – тяжко покидать то, что было любимым городом, товарищей жаль оставлять…
Принесли на носилках и Семена Нечаева, изрешеченного осколками. Места в каютах уже не нашлось, и его вместе с другими положили на палубе. Около двух с половиной тысяч человек взяла на борт «Сванетия», иного выхода из города для раненых не было. Ночью она отвалила от берега, тонувшего в багровом дыму. Семен, с трудом приподнявшись на матрасике, жадно вглядывался в отсветы береговых пожаров, сердце его больно билось. Потом он опрокинулся на свое ложе и уже неподвижно слушал, как сотрясался мелкой дрожью корпус корабля, как плескали в борт встречные волны. Теплоход шел во мраке полным ходом. Моряк знал курс судна: направление к Турции, на границе советских вод поворот к Новороссийску. Плыть вдоль побережья нельзя: Ялта занята фашистами, Феодосия тоже…
Совсем еще мало жил на свете Семен Нечаев. Родился в Туле. Вырос в Орле. Туляки – народ смелый, они блоху подковали, если верить старым сказкам. Семен, токарь по профессии, работал в железнодорожных мастерских. Его сразу направили во флот; так он попал на Черное море. Море… Когда едешь поездом на Евпаторию и по обе стороны – степь, усыпанная красными маками, то его не видно, и, словно видение, возникает над сплошными полями колосящейся пшеницы плывущий океанский пароходище. Но если проскочить на грузовике из Севастополя к Южному берегу, то с высоченного обрыва у Байдарских ворот море вдруг выпуклится синей горой вполнеба. И шут его знает, что это за синева! Красивое место Крым! Только на суше мало приходилось бывать Семену, пока не разразилась военная гроза. Но тут уже все заслонили дым, да гарь, да грохот боев.
Однако видел Семен в первую весну своей службы в пригородном колхозе, как цвел миндаль, а под деревом, осыпанным желтым пухом, стояла девушка, смуглая, черноглазая, в красной, как огонь, кофточке, и громко смеялась, поправляя загорелыми руками копну густых волос. Юбка на ней была в обрез, и не один Семен засмотрелся на стройные голые ноги девушки, всунутые наспех в стоптанные шлепанцы. Откуда-то из глубины дворика вынесла она морякам ведро воды и, пока они пили, все стояла и смотрела, посмеиваясь. Так и осталась в памяти Семена, никогда больше не встретившаяся на его пути.
Апрель!.. Опять цвели у Черноморья японские магнолии, желтым пушком покрылись мимозы, и прозрачно, юно розовели в нежнейшем наряде тонкие ветки миндаля.
Шла весна по крымскому побережью. И где-то стояла девушка, поправляя загорелыми руками небрежно подобранные волосы. Но весенний ветер нес над зацветавшей землей запах тлена и гари, повсюду рыскала смерть.
Это она, смерть, разбудила на рассвете людей на «Сванетии», и далеко над пустынной, безбрежной гладью разнесся ее хриплый голос – завыла пароходная сирена.
«Дорвались!» – подумал Семен, увидев, как закружились над судном гитлеровские бомбардировщики. Громадные фонтаны воды выплескивали из глубин, окатывали палубу. Звенели, сыпались вылетавшие стекла, а на теплоходе все замерло… Притихли и раненые, перестав стонать. Судно так и кренило из стороны в сторону, трещала обшивка, что-то лопалось; громко стуча ногами, пробегали матросы команды. Там, слышно, пробоина, там загорелось что-то.
«Спасибо капитану – маневрирует мастерски! – думал Семен Нечаев. Страха не было в его душе, но тосковала она. – Лежи, как козявка, и жди, наступят на тебя ногой или нет. Вот, вот… Нет, мимо! И опять свист. Ну и голосок у фашистских моторов! Наши шумят, а эти завывают».
Забыв о своих ранах, Семен вцепился руками в туго натянутый канат, чтобы не сбросило за борт воздушной волной, и считал взрывы бомб, ложившихся кругом «Сванетии». Чем же еще заняться?! Насчитал больше сорока и бросил… С рассвета и до трех часов дня продолжалась эта игра со смертью.
Наконец затих мрачный вой бомбардировщиков. Ай да капитан! Спасибо тебе, и рулевому спасибо, и всей команде «ура»! Спасли пароход дружной своей, умелой работой!
Сразу послышались стоны раненых, захлопотали сестры и санитарки: появилась надежда: «Поживем еще», – и то, что болело, напомнило о себе.
А как заискрилась под лучами солнца бескрайняя морская лазурь, как заголубели воздушные просторы! И море синее, и небо синее – сплошная синева, пронизанная солнечным светом. Стая черных дельфинов прошла стороной, кувыркаясь и взбивая якорями хвостов белые брызги. Ветер, дохнув, принес запахи зацветающих садов… Но так только кажется свободно вздохнувшему человеку. Далеко до садов, километров сто, не меньше. Однако проскочили. Теперь добраться бы до Новороссийска…
Но едва люди успокоились, опять раздался хриплый голос сирены.
«Тревога, а в небе тишина. В чем дело?»
Нечаев повернулся на своем жестком ложе, посмотрел и ахнул: фашистские самолеты-торпедоносцы сидели на воде и поджидали «Сванетию». Уже в виду корабля они стали подниматься в воздух…
У Семена перехватило дыхание, когда была сброшена первая торпеда, как хищная рыба, прорезавшая светлую толщу воды. Но капитан был начеку, и теплоход уклонился. Охота продолжалась… Минута, другая… Потом раздался страшный взрыв. Торпеда попала и оторвала всю носовую часть корабля. «Сванетия» сразу погрузилась, приняв положение вверх кормой, и вода начала заливать каюты. Держась за поручни борта, к которому его кинуло, Семен смотрел на врачей и сестер, выносивших наверх раненых. Ступить некуда, сбилась сплошная толпа; рыдают женщины, кричат дети, палуба все больше накреняется, а фашистские летчики, кружась над тонущим кораблем, расстреливают погибающих из пулемета.
Матросы «Сванетии» – сплошь комсомольцы – успели спустить две шлюпки и начали стаскивать по трапу раненых и усаживать их в лодки. Но люди, оказавшиеся за бортом после взрыва, и те, что прыгали сверху, барахтались вокруг, крича, захлебываясь, топя друг друга. Они, обезумев, хватались за борта шлюпок и одну опрокинули… Но Семен видел и то, как самоотверженно матери пытались спасать своих детей. Он увидел, как раненый матрос махнул за борт, держа под мышкой мальчугана лет четырех, как он подплыл, гребя одной рукой, к плававшей доске и, перекосясь от боли, вытолкнул на нее ребенка. Спасти себя у него не хватило сил, и он затонул камнем.
И вдруг откуда-то из кают послышалась песня:
Раскинулось море широко,
И волны бушуют вдали…
Пел кто-то так звучно, так страстно, будто вызов бросал самой смерти, готовой схватить его в темноте, наполненной шорохом и плеском подступавшей воды. Дрогнуло не одно сердце, и сразу десятки, сотни голосов подхватили родной напев, заглушая гул вражеских моторов и трескотню пулеметов. Одни плакали, другие пели, третьи и пели и плакали…
Теплоход все погружался. Раненые прыгали за борт. Бросился, собрав все силы, Семен Нечаев, и только отплыл, дрогнула палуба. Круто заваливаясь, утягивая в водяную воронку близко плававших людей и тех, кто стоял на палубе, словно окаменев, и тех, что не могли покинуть ее по долгу службы, пошла «Сванетия» на дно моря.
Каким образом спасся Нечаев, он сам не помнит: сначала плавал на бревнах, а очнулся на борту сторожевого корабля, подошедшего к месту катастрофы уже в сумерках. Корабль этот сопровождал «Сванетию» из Севастополя, но был изрешечен осколками при бомбежке и отстал, потеряв скорость. Он подобрал тех, которые, как Семен, плавали на обломках теплохода, и раненых в шлюпке, не раз обстрелянных фашистским самолетом. Люди в шлюпке уцелели только потому, что, побросав весла, прикинулись мертвыми. Всего спаслось около сорока человек.
56
Нечаев не успел рассказать, как он попал в Сталинград: бомба разорвалась рядом. Уже надтреснутая железобетонная пластина с торчащими по краям прутьями арматуры зашевелилась над головами бойцов, и они невольно замерли на дне ямы, вырытой в укрытии саперами.
– Ну, этот ас окосел: на своих бросил… – сказал Коробов. – Да, Сеня, мы им ни-че-го не простим! Мы им за все отплатим сполна! Ясна вам задача, ребята? Имейте в виду: цех здесь равен городу на широком фронте, – повторил он слова Логунова и вспомнил, как сам говорил то же Яблочкину о трансформаторной будке. – Значит, заходим с тыла. Автомат на шее, десяток гранат под рукой, отвага в сердце – действуй! Вы вбегаете вдвоем: ты да граната, – обращается Коробов к новичку в штурмовой группе Василию Вострикову. – Оба будьте одеты легко: ты без вещевого мешка, граната без рубашки. Врывайтесь так: граната впереди, а ты за ней. Попался среди перекрытий лабиринт, полный опасностей… не теряйся. В каждый угол гранату – и вперед! Прочесывай автоматом, не медли! Бой внутри объекта бешеный. Противник может перейти в контратаку. Не беда. Инициатива в твоих руках. Штурмуй злее, но будь готов к неожиданностям. Вот вместе с Нечаевым и моряками ударите на правую половину цеха. Моя группа пойдет налево. Мы впереди, вы за нами, врываемся в пролом. Каждый по своему отведенному участку проходит с боем весь цех… – Коробов говорил, а Востриков слушал его с жадным вниманием, слушали и остальные. – В цехе ты до определенного момента, пока я не дам сигнал «ворвался», будешь предоставлен самому себе. Во время боя никто не даст тебе разъяснения. Поэтому получи задачу сейчас.
– Но сколько их там? – нерешительно спросил Василий Востриков, кивнув в сторону цеха. Он был смел, ему приходилось участвовать в боях, и, однако же, его смущала самоуверенность Коробова.
– Все будут наши. – Коробов усмехнулся. – Больше врагов – граната крепче сработает.
«Черт возьми! – подумал Востриков, оглянув снова громаду разрушенного цеха. – Как же это мы перед Тракторным-то? Если бы нас тогда вот так же организовали, в какую силищу мы превратились бы!»
А Коробов еще раз проверял распределение людей.
– Будь готов, если вздумают пойти в контратаку с флангов, отражай все попытки, – говорил он командиру группы резерва. – Твоя группа закрепления сразу захватит все верхние перекрытия и оборудует там огневые точки, – наказывал он Яблочкину. – Как только я даю сигнал «ворвался», бросайтесь за нами. Не давай фашистам опомниться. Занимай огневые точки, создавай свою систему огня и не позволяй противнику подтягивать резервы. Ясно? Саперов, как только они подорвут стену, снова вооружи взрывчаткой: в цехе может оказаться перемычка – окопались, наверно.
«Совсем как мой Борис», – думал Хижняк. Он уже дал распоряжение своим санитарам и теперь с интересом прислушивался к тому, о чем толковали его ребятки, как он называл про себя молодых командиров. Рассказ Семена Нечаева очень расстроил фельдшера. Он сразу вспомнил игру Наташи на баяне и то, как бешено вспылил моряк тогда у Чистяковых. «Понятно, отчего эта песня так действует на него!»
57
Близко хлопнула ракетница. Ракета распустилась в воздухе, словно цветок на тонком светящемся стебле, изогнулась, надломилась и, угасая, с шипением пошла вниз. Край немецкой передовой освещается непрерывно. Фашисты боятся ночных атак.
«Дадим им сейчас жару! За все ответят, – накаляясь злостью, думал Востриков, лежа возле груды кирпича, поминутно трогая то автомат, то гранаты. – Оружие на месте, и отвага в сердце бушует!»
Василий Востриков перед войной работал на Тракторном в кузнечном цехе… Шумная, горячая работа. Востриков вспоминал о ней с увлечением. Страшным днем в его жизни стал день разгрома комсомольской дивизии, когда враг захватил всю территорию Тракторного и сразу вышел к Волге. Два удара сразу!
В развалинах цеха заиграли губные гармошки.
«Значит, пожрали уже!» – с острой враждебностью подумал Коробов, и в это время раздался оглушительный взрыв.
Мгновенная вспышка огня, точно молния, осветила покачнувшуюся стену цеха, черные трещины разлома на ней, и все окуталось облаком кирпичной пыли.
Тогда раздался второй взрыв.
– А-а-а! – нарастающе грозно раскатился гул человеческих голосов.
Кричали все, кто подготовился к штурму, но в пролом бросились, как и было условлено, только автоматчики. Загремели рвущиеся гранаты…
На ближних участках передовой прислушивались и свои и чужие, не вмешиваясь в свалку: бои то и дело вспыхивали повсюду.
Коробов вбежал первым, вдруг уперся во что-то живое, при свете ракет, пролившемся сквозь обрушенные перекрытия крыши, увидел чужую каску, короткой очередью и толчком всего тела мгновенно опрокинул врага и помчался дальше. Штурмовые группы, прочесывая закоулки цеха очередями автоматов и гранатами, прошли по нему словно огненный ураган. Штурм еще не окончен, но Коробов чувствует: пока враг подавлен, медлить нельзя, – и дает сигнал; в пролом сразу хлынули те, что должны были закрепиться. Цех взят. Через минуту передышки – свистки наблюдателей: угроза – черный провал, подземелье между станками и путаницей железа. Короткая суетня. С обеих сторон полетели гранаты… Огнеметчики залили черноту струями горящей жидкости.
– Отсюда и в прошлый раз ударили, – прозвенел возбужденный голос Володи Яблочкина. – Здесь нужно усиленное охранение!
Едва избавились от этой опасности, как фашисты пошли в контратаку.
– Хорошо, что они ракет не жалеют, – светло, а то тут сам черт ногу сломит! – громко кричал Растокин.
Он и Оляпкин забрались со своими напарниками куда-то наверх и поливали из пулеметов гитлеровцев, суетившихся на подступах к цеху. Те не выдержали – кинулись обратно, но часть успела проскочить. Началась рукопашная. На мгновение стало темно, и в темноте еще сильнее раздавались глухие удары, тяжелая возня, громкое дыхание, ругательства и предсмертные хрипы.
Когда свет новой ракеты озарил мрачную картину завершавшегося ночного боя, Семен Нечаев столкнулся еще с одним врагом грудь с грудью. Действовать прикладом было невозможно. Нечаев первый отшвырнул автомат и схватил фашиста за горло, сбив с него каску. Мелькнуло низколобое, под целой шубой волос, искаженное злобой лицо командира роты Аппеля Хорста. Если бы Нечаев знал, кого он держал за горло, ненависть его не могла бы усилиться – так он был переполнен ею. Но Хорст, увидев морскую тельняшку, осатанел совершенно. Советские люди, которых он замучил, не хватали его за горло, а матрос схватил и может отомстить за всех сразу. Отчаяние удесятерило силы фашиста, но Семен, более молодой и тонкий, не поддался, и они покатились по земле, стукаясь то головами, то каблуками сапог о железные и каменные обломки, душили друг друга, грызли зубами.
Их едва растащили.
– Да отцепись ты от него! – орал на Семена Володя Яблочкин. – Отпускай, не ускользнет, гадюка, я его придержу!
Коробов, в свою очередь, сильно тряхнул Семена за плечи, тогда тот застонал; зубы его разжались, и он выпустил врага из рук. Задышав, точно рыба, выкинутая из воды, он сел на землю, но тотчас вскочил с легкостью необычайной и снова кинулся к Хорсту.
Петя Растокин едва успел перехватить его.
– Ты опять ранен, Семен! Смотри, весь в кровище. Тебя в госпиталь надо, – сказал Коробов.
– Не хочу я в госпиталь! – кричал Нечаев. – Вы глядите, что он со мной сделал! Руку мне изгрыз! Вот тут вцепился… Вот, вот! – Семен рвал воротник форменки, обнажая крутое плечо с глубокими отметинами укуса. – Может, он бешеный какой!
– Ты сам взбесился, братушка! – укоризненно говорил Растокин, с трудом удерживая Семена. – Это уж ты в истерику впал. Цех взяли – чего же тебе еще? Фашиста добить? Да черт ли в нем?! Ты и так ему горло перехватил: аж свистит у него.
– Ага-а! Свистит!! Я из них из всех свистульки понаделаю!..
– Психическая контузия у него, – важно определил Петя. – Когда я работал в Баскунчаке, у нас был случай…
58
– Опять повезло тебе. Попал в переделку, – говорил Хижняк, разглядывая раны Нечаева. – Жить еще можно, только старую рану разбередил – смотреть страшно. Держите его, ребята, крепче! Сейчас я ему укольчик сделаю, он и придет в себя.
Когда фельдшер закончил перевязку, Нечаев, правда, притих, но сразу ослабел; испарина покрыла лицо, на щеках проступили красные пятна. Он достал из-за пазухи бескозырку, отер ею лоб и щеки, машинально расправил черные ее ленточки и сказал задумчиво:
– Чудно! Раньше писали в садах: «Цветы не рвать», «По траве не ходить!» А теперь что творится?!
И Семену вспомнилось, как этим летом, вскоре после своего выхода из госпиталя, он гулял с Линой Ланковой в парке на Малой Франции.
День был влажный после сильного ливня, ослепительно солнечный. Лина вся разрумянилась, карие глаза ее блестели, золотистые кудри так и искрились, разлетаясь на ветру. Совсем не похожа она была на ту милую крымчанку в красной кофточке, которая год назад поразила юношеское воображение Семена, но только появилась – и сразу живым своим весельем заслонила тот образ. Семену хотелось схватить девушку и носить по аллейкам на руках, целовать ее, спрятаться с нею в манящую тень акаций и кленов… Но чем больше ему этого хотелось, тем сдержаннее он становился. А она щебетала возле него, как птица, пела, смеялась, совсем по-птичьи сощипнула цветок, яркий, как ее губы, и, клюнув его тонким носиком раз и два, приколола себе на грудь.
– Красиво?
Он взглянул исподлобья. Они встретились уже не в первый раз, но ему казалось, что она просто играет, кокетничает с ним, а он ждал чувства, такого огромного, чтобы ему тесно было под этим синим, как море, небом.
– Цветы рвать не разрешается!
– Подумаешь! Да ты понюхай, как пахнет.
Он наклонился, увидел у самых глаз слегка откинутую шейку и, обняв девушку, поцеловал ее в грудь, позолоченную солнцем в скромном вырезе платья.
– Ой! – сказала Лина испуганно и сразу серьезно.
Руки его опустились, он выпрямился. С минуту они смотрели в глаза друг другу…
Где те сады? Когда они расцветут снова?
На правый фланг соединения, в котором находились Нечаев, Коробов, Логунов, Хижняк и Наташа, переправилась дивизия имени Щорса. Полки ее рассредоточились, дав возможность уплотниться обескровленной дивизии Гурьева, и сразу рванулись в бой: богунцы, таращанцы, тираспольцы и Донской артиллерийский полк.
Лина была направлена санинструктором в батальон Богунского полка. Суровые условия боевой обстановки разлучили подруг-комсомолок. В первый день боев на лестнице у Дома техники и на шлаковой горе богунцы понесли большие потери. Зато они взяли обратно лестницу и шлаковую гору и залегли в окопах за развалинами Дома техники. Позиция сразу расширилась метров на сто. Таращанский полк отбил северный угол завода. Тираспольцы и Донской полк заняли берег вдоль Большой Франции и устье балки, прозванной «Логом смерти», где беспрерывно шли страшные бои.
Дом техники стоял на берегу, у завода. Здесь, в светлых залах заводского дворца, рабочие превращались в мастеров, из мастеров вырастали инженеры. От Дома техники спускалась к Волге широкая бетонная лестница. Площадка, затем восемь ступеней, опять площадка и опять восемь ступеней… И так пятнадцать раз… Лина особенно запомнила эту лестницу, все ступени которой омыты теперь кровью. Совсем иное было летом…
Лина и Семен приплыли тогда к заводскому причалу, поднялись наверх и целый день бродили по зеленым улочкам рабочих поселков, по тенистым аллеям парка… Там он впервые поцеловал ее… А когда вечером спускались к Волге, подолгу останавливаясь на площадках лестницы, залитой светом луны, Семен заговорил о семейной жизни. Гуляющие натыкались на них, подшучивали над ними, но они ничего не замечали. Шла война, страшная, жестокая, но жизнь тоже шла своим чередом: и влюблялись, и радовались, и даже танцевали. В тот вечер Семен Нечаев впервые забыл о пережитых им страданиях.
«Сенечка, – говорила ему Лина. – Я тоже стала скучать без тебя! Мне тоже хочется быть всегда вместе».
Они спустились вниз, но сразу пошли обратно, легко, точно на крыльях, поднимаясь по широким ступеням лестницы, а когда поднялись наверх, снова повернули к Волге, серебряной и голубой в лунном сиянии. Завод дымил рядом гигантскими трубами, но дым, клубясь в недосягаемой вышине, тянулся над западными буграми.
Сейчас корпуса цехов походили на железный лес из погнутых, обгорелых ферм, балок, спутанной проволоки, скрюченных рельсов, и там рыскали фашисты в грязно-зеленых шинелях, в касках с плоскими макушками. Они захватили сады, выкошенные снарядами, захватили и верх лестницы, недалеко от которой дрался вместе с гурьевцами Семен Нечаев, выбрасывая немцев из заводских корпусов.
Вчера Семен пришел-таки в медсанбат. Раны его не успевали заживать; он все время бередил их, и оттого начал лихорадить. Отлеживался целую ночь, но утром, когда Лина привела в перевязочную раненого бойца, уже собрался уходить.
– Я думала, что больше не увижу тебя, – сказала ему девушка грустно и ласково.
– Как ты можешь решать такой серьезный вопрос, не поговорив со мной? – ответил он полушутя, но взгляд его выразил глубокую сердечную тревогу. – Береги себя, дорогая! – попросил он и при солдатах обнял и поцеловал ее, словно жену.
– Я не могу сказать тебе таких слов. Я знаю, что это напрасно, – ответила Лина с мудростью матери, видящей и понимающей жизненный путь сына. – Желаю успеха, Сенечка!
И, уползая в сторону, крикнула:
– До свидания, Сеня!
…Сейчас она лежала, раненая, у подножия той самой лестницы, по которой ходила с Семеном, такая счастливая несколько месяцев назад.
Отсюда, снизу, ей ничего не видно.
Если бы здесь была Наташа, то помогла бы раненой подружке добраться до медсанбата. Сколько раз девчата выручали друг друга! Лина вспомнила, как только что тащила с передовой бойца, раненного в обе ноги. Когда она втаскивала его в траншею, осколок снаряда пробил ему грудь. Девушка быстро расстегнула разорванную шинель, разрезала гимнастерку и услышала характерный свист: свистел воздух, врываясь в открытую плевральную полость. Лина увидела, как розовое, в черных прожилочках легкое билось в отверстии раны, пузырясь и вылезая наружу при каждом вздохе. Однако воздух, врываясь в рану, сжимал легкое, и оно опадало, темнело, съеживалось, утопало в крови, и все это за какие-нибудь полторы минуты, пока сестра доставала и разрывала индивидуальные пакеты, чтобы наложить давящую повязку.
Она сделала раненому укол морфия и камфоры, и с помощью проходившего бойца унесла его в катакомбы медсанбата, где задержалась лишь для того, чтобы услышать мнение хирурга: доставлен вовремя. После того Лина помогла добраться до временного укрытия еще пятерым раненым. Она перевязывала их и снова отправлялась в свои опасные поиски.
А теперь сама ранена и не может даже посмотреть, куда ей досталось. Наверху идет бой. Кричат что-то фашисты, кричат свои…
Мысль, что раненые бойцы истекают кровью на передовой, подтолкнула Лину, заставила ее шевельнуться. Они не должны попасть в те ямы под береговым обрывом, где, чуть присыпанные землей, лежат в ожидании настоящих похорон трупы убитых. Бывает, что взрыв бомбы поднимает мертвых на ноги… иные взлетают высоко, будто стремясь взглянуть на оставленные ими рубежи… Даже фашисты шарахаются в сторону, увидев такое.
«Но ведь это дело ваших рук, проклятые! Вот и я лежу… Надо торопиться, надо попросить, чтобы меня перевязали, и я пойду туда, где Семен…»
Девушка приподнялась и застонала. Лицо ее, испачканное грязью, просвечивало восковой бледностью, и сразу заметно выступила на нем золотая пыльца веснушек. Глаза впали, утратив блеск, кудри, обильно смоченные кровью, завернулись крупными кольцами, – каски на ней не было…
Она не смогла проползти и двух метров. У нее не хватило сил, руки подломились под тяжестью странно огрузневшего тела, и она легла ничком на изрытую, холодную, неласковую землю.
«Зато теперь меня виднее, – подумала Лина. – Командир увидит меня с КП и пошлет за мной санитара. С КП все видно…»
И вдруг она услышала громкий свист…
«Значит, попало в легкое!» – мелькнуло в ее затуманенном сознании.
В тот же момент огненный взрыв рванул землю у подножия лестницы, уже разбитой снарядами, и, подхватив хрупкое тело девушки, с силой бросил его на обломанные бетонные ступени.
59
– Потерял я Семена Нечаева, – с сокрушением сказал Хижняк Логунову, забежав на наблюдательный пункт. – Всю передовую обшарил – как в воду канул парень. Ведь я у него вроде лечащего врача…
– Он у нас в блиндаже спит, – неохотно положив трубку телефона, ответил Логунов, который только что разговаривал с командиром дивизии.
«Не дадут пополнения», – подумал Логунов и снова взглянул на Хижняка.
Мало похож военный фельдшер на прежнего Дениса Антоновича, доброго семьянина, азартного игрока в городки и огородника, самозабвенно роющегося в грядках. Синие глаза ввалились, морщины изрезали обветренное лицо, широкий нос выдался. Увидела бы мужа Елена Денисовна, заплакала бы.
– Нечаев ходил в разведку. Только что вернулся. Я приказал ему отдохнуть. – Логунов неожиданно весело усмехнулся. – Выкрал Семен снайпера из фашистского блиндажа… Не надивлюсь, как он его добыл оттуда! Теперь он на них до остервенения злой…
– Еще бы! Обидно, что не удалось спасти девушку! Бежал ведь к ней санитар, да не успел. Как заметили ее с командного пункта, тотчас его послали… А Семен благополучно вернулся?
– Повязки сбил. Наташа там что-то поправляла.
– Везет моряку на осколочные! На нем ведь места живого нет – всего исковыряли. Но что делать с этими моряками: не подчиняются приказу, даже слушать не хотят. Ведь говоришь ему русским языком: солдатская форма для маскировки – защитный цвет и опять же сапоги… куда как ловко против черных ваших клешей да ботиночек. Нет, своя форма ему милей жизни! Дорого морякам то, что паникуют фрицы перед ними. Но зато ведь и охотятся специально! – Хижняк увидел задумчивые глаза Логунова и умолк.
Логунов опять был удручен тем, что мучило всех в последние дни: шаг за шагом прижимал противник защитников завода к береговому обрыву, прорывал таранными ударами цепь обороны. Вот Тракторный захватил, вот вклинивается между «Красным Октябрем» и «Баррикадами».
«Что же дальше?» – все чаще читал Логунов в устремленных на него взглядах.
Но он и сам начал задавать себе этот вопрос: отступать было уже некуда, а враг нападал все яростнее, заваливая трупами подступы к Волге. Фашисты вводили в бой одновременно до десяти дивизий при поддержке четырехсот – пятисот танков… Как будто всех своих солдат решил Гитлер уложить под Сталинградом, лишь бы взять город.
Логунов вошел в блиндаж, устроенный рядом с наблюдательным пунктом. Связной сразу вскочил, поправил коптилку и начал звякать посудой в углу, отделенном занавеской из плащ-палатки. Семен Нечаев спал по-прежнему, раскинув руки, сильно дыша забинтованной грудью; черная куртка, покрытая бурыми пятнами крови, скатилась с нар на земляной пол. Логунов поднял ее, осторожно накрыл спящего и с минуту смотрел на него, огрузневший от усталости и в то же время опустошенный кровавыми событиями очередного дня.








