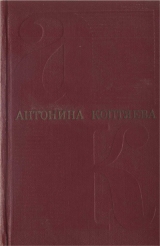
Текст книги "Собрание сочинений. Том 3. Дружба"
Автор книги: Антонина Коптяева
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 35 страниц)
– Все-таки придется. Кроме вас, эту операцию никто не сделает, – сдержанно ответил Решетов.
– Почему?
– У него гвоздь в голове.
– То есть?..
– Самый натуральный гвоздь. Разведчик ударил гитлеровца доской, чтобы оглушить, а в доске был гвоздь.
В глазах Ивана Ивановича вспыхнули искорки смеха.
– Причем же тут я?
– Вы нейрохирург…
– Для них я не нейрохирург! – перебил Иван Иванович. – Что обо мне бойцы скажут, если я начну врагов на ноги ставить?
– Выходит, по-вашему, разведчик, который его выкрал, не боец? Человек жизнью рисковал. Это «язык», добытый для штаба дивизии. Потому и нужно как можно скорее привести его в порядок.
Иван Иванович развел руками.
– Вы бы так и начинали.
– Здравия желаю, товарищ Громова, – сказал в это время Петя, подкараулив Варвару в тамбуре операционной.
– Здравствуйте, – сухо ответила она.
– Немца приволок, – тихонько сообщил Петя. – Доктора медицинских наук.
– Зачем он нам? Мы его и близко не допустим к своим раненым.
– Да он сам… – Петя замялся. – Он сам в некотором роде раненый. – И, предупреждая возможные кривотолки, Петя поспешил сообщить, как он ходил за «языком», как подвернулись сразу два офицера и ему пришлось оглушить одного из них доской.
Разговор был прерван появлением Решетова.
– Варенька! Нужно помочь при операции. Сейчас Иван Иванович будет оперировать гитлеровца. Очень важный для штаба дивизии, – сразу пояснил Решетов, предвидя и здесь сопротивление.
Но то, что подействовало на хирурга Аржанова, не дошло до Вари. Она вспыхнула, негодующе взглянула на Растокина.
– Подложили вы нам свинью! Не хочу я работать для вашего фашиста.
– Вот тебе раз! – Петя тоже неожиданно рассердился. – Выходит, вы тут чистюлечки, а мы всю дрянь должны на своих плечах таскать! Нужен он мне был, что ли? Дышать я без него не мог, что ли? Жизнь на кон ставил, а теперь, выходит, я же в дураках. Мой фашист?! Здорово живешь!
Даже слезы навернулись на глаза бойца от возмущения и обиды: вот так отличился!
– Простите, Петя! – сказала девушка, пристыженная его словами, и в порыве раскаяния сжала своими ручками его огромную ладонь. – Вы просто герой! Конечно, мы все сделаем. – И она торопливо ускользнула за занавеску.
Петя поднял свою руку, которую так ласково пожала Варвара, посмотрел на нее, и улыбка широко разлилась по его лицу. Если бы сейчас его вызвали в штаб и снова послали хоть за самим Паулюсом – командующим немецкой армией в Сталинграде, он пошел бы…
37
Плотный, с толстыми плечами, землистым лицом и шишковатой свежевыбритой головой лежал на столе Георг Клюге.
«Из отборной гитлеровской дивизии СС. Вот уж, наверно, людоед настоящий!» Варя работала добросовестно и внимательно, но в лице ее так и сквозило отвращение.
– Тоже интересный случай! – сказал Иван Иванович подошедшему Решетову, показывая захваченный клювом пинцета погнутый гвоздь. – По-видимому, этот парень основательно двинул доской господина Клюге…
– Да уж, наверно! – Решетов хмуро улыбается, взглядывает на Варвару, и та краснеет.
– Есть мелкие костные обломки. Ну-ка, покашляйте! – по-немецки обращается Иван Иванович к Георгу Клюге, заметив, что тот приоткрыл глаза.
– Что со мной? – спросил Клюге, приняв Ивана Ивановича за гитлеровского хирурга.
– Вы ранены, находитесь в советском госпитале. Вы попали в плен.
Глаза Клюге открываются шире, на лице появляется откровенный животный страх.
– Я? В плен? Этого не может быть!
– Не волнуйтесь, вам не сделают ничего дурного, – говорит Иван Иванович, продолжая очищать рану. – Мы будем вас лечить.
– Лечить? – Гитлеровца бросает в пот: как его могут лечить советские люди?!
Клюге был опрошен на другой же день. Он чувствовал себя неплохо и не пробовал симулировать: слишком боялся за свою жизнь.
– Не покидайте меня, – попросил он Ивана Ивановича поздно вечером, когда работники штаба ушли. – Знаю: больше я не нужен, сказал все, и меня могут убить теперь.
– Вы все меряете на собственный аршин, – жестко ответил Иван Иванович. – Это вы убиваете мирных людей и медицинских работников. У вас делают из трупов мыло и сдирают человеческую кожу для изготовления портфелей и сумок.
– Утилитарный взгляд на вещи, и только, – заискивающе улыбаясь, возразил Клюге.
– Пожалуй! Вот вы даже на фронте не расстаетесь с боженькой. – Иван Иванович взял нарядный толстенький молитвенник, полистал его. – Может быть, вы и для Библии сделаете переплет из человеческой кожи? Очень здорово получится. Возьмешь в руки, и сразу мысль о бренности всего живущего. Поневоле настроишься на молитву. Так можно оправдать и людоедство.
– Почему и не оправдать? – Поверив, что его не убьют, Клюге сразу обнаглел. – Если разобраться с научной точки зрения… Чем отличается человеческое мясо от мяса овцы или коровы? Калорийность та же, белки те же.
– Да, белки те же! Но мораль-то у вас какова?! Когда-то люди поедали трупы своих врагов, теперь это немыслимо. Поверьте: пройдут годы, и война – убийство человека – будет тоже представляться отвратительным и невозможным делом.
– Вот уж этого никогда не будет, – устало, но убежденно возразил Клюге. – Насчет людоедства я, конечно, не оспариваю: как-то уже принято, вошло в норму – кушать барашков. А без войны невозможно. Она проветривает мировое общежитие, убирает все лишнее, слабое.
Иван Иванович отошел от своего пациента и посмотрел на него, как на ядовитое, издыхающее, но еще опасное насекомое.
– В одном вы правы, – сказал он. – Я верю, что эта война уберет вас всех, потому что вы не нужны миру со своими бредовыми идеями.
Клюге рассмеялся слабым, булькающим смехом.
– Вряд ли! – самодовольно сказал он. – Хотя я и попал к вам, но ведь Сталинград-то в наших руках, а вы сидите в оврагах под берегом. На чьей же стороне сила?
– Сила на стороне советских людей. Да, да, мы несем народам счастье, а вы смерть им несете. Что же они предпочтут, как вы думаете?
38
Он лежал на узеньких нарах в подземном лазарете и думал: «Есть, конечно, и среди русских ученые. Но важен общий уровень». Проехав сотни километров со своими войсками, Георг Клюге не встретил ни одной приличной уборной. Да, да, это не шутка! Избы, крытые соломой, помазанные белой глиной, и далеко во дворах холодные уборные. Черная земля… Мягкая, жирная черная земля, похожая на русскую паюсную икру. Как процветали бы на такой земле немецкие колонисты! А Украина – это хаты, солома да вышитые полотенца. Не удивительно, что там почти все выгорело. Здесь, в степях, еще хуже. Тут нужна твердая рука помещика-юнкера. Тогда возникли бы богатейшие имения. Ванные комнаты с зеркалами, душами, фарфоровыми раковинами, уборные с пушистой, мягчайшей бумагой, всюду белоснежный кафель, в комнатах паркеты, камины, панели из дуба, карельской березы, орехового дерева, в садах клумбы, аллеи, дорожки.
Георг Клюге не привык ходить «до ветру». «А культура стола! Культура постели! Культура одежды! Русские должны быть побеждены. Это неизбежно. И они не задержат у себя профессора Клюге. Как только немецкому командованию станет известно, что он попал в плен, за ним пришлют. Его выменяют на советских военнопленных. Ведь не мог же он испариться из блиндажа на территории, занятой победоносными гитлеровскими войсками! Кругом были свои солдаты, офицеры, связисты, часовые стояли на посту, и вдруг доктор Клюге, случайно оказавшийся вблизи от передовой, исчезает. Куда? Ясно, что его похитили русские разведчики.
Странно: был в голове гвоздь – и вот ничего.
Лежу, думаю. Интеллект не нарушен. О-о! Этот Иван… Иваныч, дважды Иван – мастер! Он у нас был бы обеспеченным человеком. Как немец работает, стерильно, чисто. Но как надменно разговаривал со мной, точно равный с равным. Ну, конечно, тоже интеллект, немецкий язык знает превосходно. Блестящий хирург. – Георг Клюге вспомнил свою благословенную богом Германию и лагерь смерти, в котором он помогал уничтожать советских пленных. – Кого там только не было, но все умирали. Кстати, почему русские дикари назывались самоедами? По-видимому, поедали своих сородичей. Ах, доктор Иван, вы, конечно, ученый человек и мастер хирургии, даже нейрохирургии, даже немецкий язык знаете. А ваши самоеды?.. Неужели они тоже являются, по-вашему, прообразом людей будущего? Крепко вы загнули, доктор! Нет, я прав: нужна война! Завтра же взамен меня вам пришлют пленных самоедов». Георг Клюге осторожно повернулся на бок, бережно переложив забинтованную голову, и сказал:
– Чушь. Глупости! Хорошая земля, а живут некультурные дикари. И мы должны их завоевать и навести порядок.
Так он лежал и день, и два, и пять. Ждал. Но за ним не шли. Георг Клюге сначала намекал, а потом и прямо спрашивал: не приходили ли парламентеры, не скрывают ли от него переговоры, ведущиеся о нем? Нет, никто не приходил, не интересовался, не слышно никаких запросов. Тогда Клюге впал в уныние. Снова и снова его мысли возвращались к доктору Ивану Ивановичу. А если бы потерялся он? О нем также забыли бы? Профессор смотрел на вещи очень трезво. Он уже успел заметить, какой любовью был окружен в госпитале доктор «дважды Иван».
«Нет, за ним пошли бы. Те же головорезы, которые утащили меня, выкрали бы его у нас. Почему? Потому что они ненавидят нас? Но мы тоже их ненавидим. Однако нашим и в голову не придет пуститься на поиски своего украденного профессора. Украли, ну и шут с ним! И я сам ни за кем не пошел бы».
39
Оставшись в госпитале на хуторе Вертячем, Никита очень волновался. Ведь нужно будет кормить раненых, доставать для них лекарства… Не попытаться ли разместить их у мирных жителей, как советовал Логунов? Хотя бы некоторых спрятать.
Их в самом деле подобрали тогда, когда немцы уже подошли к переправе и ни одна машина не могла проскочить ни в хутор, ни из хутора. Но бой продолжался. Госпиталь стоял в низинке, густо заросшей садами, и санитары поневоле стаскивали раненых в одно место. Пенсионер Горбачев, добровольно заменив убитого хирурга, не прекращал работу, хотя любой снаряд или бомба, сброшенная с самолета, разнесли бы в щепы бревенчатую постройку.
Потом наступил момент, когда солдаты должны были отойти на новые рубежи, подготовленные к обороне… Горбачев, полвека не вылезавший из белого халата, начал готовить раненых к эвакуации. Но эвакуировать оказалось невозможно. Тогда беспомощных людей охватило смятение.
– Как же мы?
– Неужели нас бросят здесь?
– Братишки! Немец уже в хутор идет! – крикнул кто-то.
В это время в одну из палат и вбежал ротный фельдшер Никита Бурцев, придерживая ладонью плечо левой руки; кровь лилась из-под его пальцев.
– Перевяжите скорее! – крикнул он, увидев хирурга.
– Товарищ фельдшер, неужели отходят наши?
– Правда, что немец уже в хуторе? – послышались возгласы со всех сторон.
– Войска отходят на новый рубеж. Мы еще вернемся, отобьем хутор обратно, – неуверенно пообещал Никита, пытаясь успокоить раненых, похожих на испуганных детей. – Сейчас вас вывезти невозможно… Мы пешим ходом.
– Товарищ фельдшер, ведь на верную смерть бросаете!..
– Сынок, милый, поговори с командирами, пристыди их! Разве так можно? – закричал кто-то из пожилых солдат.
И вдруг вся масса искалеченных людей тронулась с места. Безногие, простреленные, прорубленные осколками поползли, потянулись к Никите. Кто не мог двигаться, сел на своей подстилке. Горбачев молча слушал вопли раненых, торопливо заканчивая перевязку.
– Возьмите нас!
Смуглое лицо Никиты сделалось серым и неподвижным. Словно утопающие, хватались за него со всех сторон. Если он не вырвется, то утонет вместе с ними. Они утопят его!
Кто-то охватил его колени, кто-то, умоляя, целовал руки и плечи, слабые, дрожащие пальцы цеплялись за его одежду, и раздавался надрывающий душу плач.
– Вот, дожили!
– Выходит: пропадай моя телега, все четыре колеса, – сказал неожиданно спокойным голосом раненный в голову моряк, лежавший на одной из коек.
Его спокойный, даже насмешливый голос пронял фельдшера сильнее отчаянных мужских рыданий. Никита вспомнил, что рота, в которой он находился, почти вся полегла на этом рубеже, что отступать приходится с разрозненной горсткой людей… И, уже не пытаясь отцеплять от себя протянутые к нему руки, он сказал громко:
– Не надо отчаиваться. Я верю – наши скоро придут обратно. В прошлом году от Москвы немцев отбросили. Неужели в Вертячем не сладят? Я остаюсь с вами.
Горбачев, стоявший в тяжком оцепенении, сердито подергал себя за белые усы и неожиданно улыбнулся.
– Ну, чего вы, ребятки, взревели? – теплым голосом обратился он к своим подопечным. – Ваше дело какое? Вы раненые и к военным событиям теперь отношения не имеете. Значит, и трогать вас никто не будет, потому что есть такие правила международные. Раз не берут нас наши, значит, невозможно взять. А товарищ фельдшер правильно говорит: отобьют они хутор обратно. Видите, не побоялся, остается с вами.
Хирург, точно ребенка, поднял на руки безногого солдата и понес его на место, огромный, костистый и сильный, несмотря на свои семьдесят лет. И оттого, что он никуда не убежал, а начал вместе с Никитой всех устраивать и укладывать, а потом сел и деловито запалил цигарку из самосада, чего раньше не разрешал себе в палатах, люди сразу успокоились…
«Правильно говорил комиссар у Чекановых, – подумал Горбачев, когда гитлеровцы ворвались в госпиталь. – Это не солдаты, а черт знает кто! Не хотел я расстраивать раненых. Наплел им… Да и то: чем тут поможешь?»
Никита испугался, когда увидел, что в дом вошли фашисты. Он не ожидал от них ничего хорошего, несмотря на уверения хирурга. И точно: между койками встал один с автоматом, а из комнаты, где была операционная, другие фашисты в серо-зеленой форме начали выгонять, легонько толкая прикладами, двух молоденьких санитарок. Девушки, приподняв руки, с лицами белее халатов, молча пятились к выходу. Никита оглянулся и увидел, как расширенными, бешеными глазами смотрел на пришельцев раненый моряк, как он искал дрожащими пальцами края кровати и уже оперся, приподнялся, но забинтованная голова перевесила, опрокинула его на подушку. Тогда Никита подбежал к солдатам и цепко схватил за локоть крайнего. Тот обернулся, скорее удивленный, чем рассерженный.
– Это что за образина? – весело обратился он к приятелям. – Он имеет явное намерение помешать нашей маленькой потехе! Как ты думаешь, Отто?
Отто, настроенный не так благодушно, замахнулся и замер: в палату входили офицеры.
– Кто такоф-ф? – спросил один из них не без любопытства. – Калмык?
Никита не ответил: в сенях послышался женский плач, гневный голос Горбачева, затем раздался выстрел.
Никита кинулся туда, но удар прикладом сбил его с ног.
– Калмыки – жители здешних степей, буддисты, – как будто ничего не случилось, продолжал офицер, заискивая перед старшим по чину эсэсовцем. – Мы играем пока что на их национальном чувстве. Вызвали лам из Тибета, бывших князьков. Организовали через них разведку, захват гуртов скота. И для рекламы очень важно – калмыцкий народ подносит фюреру подарок: коня в серебряной сбруе, подкованного серебром. – Говоривший опять обратился к Никите: – Мы тебя будем снимать для пресса: калмык-перебежчик.
– Я не стану перебежчиком!
– Взять! – приказал старший из офицеров. – Остальных закрыть в доме и немедленно сжечь, чтобы не разводить заразу.
40
Снимка для прессы не получилось. Никита закрывал лицо, отворачивался. Его били, сначала слегка, потом жестоко. Он защищался отчаянно.
– Кого ты боишься? – спросил немец-переводчик, которому надоела эта возня. – Вашим коммунистам пришел конец.
– Я не боюсь. Но ты врешь: наши вернутся, и вы еще ответите за раненых, сожженных в госпитале.
– О! Медицинский работник! – воскликнул вошедший начальник полевой жандармерии и подмигнул офицеру, решившему сфотографировать Никиту вместо калмыка для фронтовой прессы. – Тут мы должны проявить гуманность. Старый дурак хирург говорил о международных договорах? Ну, вот мы и поступим гуманно. Отправим этого фельдшера в лагерь, где работают люди, окончившие специальные курсы, как убивать, не применяя оружия. Там он будет сам молить о смерти. Переведите этому косоглазому молодчику, что я сказал. – Начальник жандармерии шагнул к двери, поправил на ходу перчатку, небрежно бросил офицеру: – Приходите завтра. Мы получим партию самых настоящих калмыков. Можете заснять их для прессы перед отправкой эшелона в лагерь.
Эшелоны под названием «Ночь и туман» уходили на запад, в лагеря смерти: в Цейтхайн и Биркенау, в номерные шталаги и адский Бухенвальд.
– Что там, на воле? Куда нас везут? – спрашивал Никита, стиснутый в темноте товарищами по несчастью.
Ему не ответили: никто не видел, по каким местам пробегал поезд. Дверь товарного вагона закрыта наглухо, и в нем стояла нестерпимая духота.
«Забыли о нас! – думал Никита. – Могли ведь и забыть. Поезд большой, вагоны одинаковые. В один сунули еду, поставили питье, а про соседний забыли».
Никита привстал на носки, чтобы легче было дышать, и неожиданно обнаружил в стене крохотную щелку. Он подтянулся еще и припал к ней глазом. Наплывали и уходили карты небольших полей. Поля, пересеченные асфальтовыми дорогами, густо обсаженными фруктовыми деревьями. Добротные, крытые красной черепицей дома. Чистенькие, нарядные дети, масса велосипедистов. Едет женщина в черном платье, только кончики ног мелькают из-под широкой юбки, на голове и плечах топорщится белая повязка; лицо, туго обтянутое ею, похоже издали на яйцо. Монашка, что ли? Везде цветы. Мирно, красиво.
«Врал жандарм, – глядя на все это, думал Никита. – Вон какие дети хорошенькие, какая смешная монашка. Не станут нас убивать».
Пошли леса: ровными рядами мелькают высокие сосны. Вид такого леса вызывает головокружение, болезненные судороги в пустом желудке усиливаются, но Никита смотрит упрямо и жадно. Порядок на дорогах, на полях, на узеньких улицах чистеньких городков. Устроили себе нарядную, сытую жизнь и отправились убивать соседей! Сколько коров, сколько хлеба, горы овощей. А мимо этой сытости, мимо богатых домов, нагло смеющихся зеркальным блеском окон из-под пышных навесов неизвестных Никите ползучих растений, везут куда-то людей, истомившихся от жажды и голода.
– Ребята, давайте протестовать! – сказал Никита на одной из остановок. – Ведь так нас уморят.
Взревели десятки глоток, пленные начали топать ногами, те, что были у стен, принялись дубасить в них кулаками.
Когда раздался этот шумный взрыв, в стене открылось оконце и в него глянуло черное дуло пулемета.
– Молчать! – раздался металлически звонкий окрик. – Считаю: раз, два!
В вагоне затихли.
«Значит, правду говорил жандарм, что у них есть курсы для обучения тому, как убивать беззащитных людей…»
Курсы! Никите вспоминается Иван Иванович, ребята-комсомольцы, учившиеся на фельдшеров, Варя Громова. Сосредоточенно слушая, Варвара прикладывала к губам карандаш, и оттого иногда на ее подбородке оставались чернильные следы. Если бы она лопала к фашистам, ее тоже сунули бы в эшелон «Ночь и туман».
Голова Никиты бессильно клонится на грудь, сон одолевает его. И все уже по-другому. Бурцев едет верхом на олене, и с крутого взгорья видит новый город в тайге. Высоко выпирают над лесом каменные многооконные красивые дома. Тепло зимой в таких домах, и будут стоять они на земле сотни лет на радость людям.
«Здравствуйте, таежные друзья. Капсе, дорогие! Комсомолец Никита Бурцев вернулся домой с войны… Как вы тут жили и работали?..»
По гладкой ленте асфальта мчатся автомобили, и тяжелый многообещающий шум тракторов доносится с полей…
«До сих пор не верю себе, когда вижу якутку за рулем машины!» – говорит Никита и вдруг валится куда-то, и страшная боль пронизывает его тело.
– Что это? – кричит он.
– Приехали куда-то… Да не хватайся ты, браток, за меня! У меня косточки живой нету.
Никита испуганно открывает глаза. Темно. Душно. Да ведь он в поезде! На чужой земле… Громко лязгают снаружи буфера вагонов.
– Ребята, какой сон я видел! – сказал Никита, подавляя чувство отчаяния. – Будто я домой попал, в Якутию…
Шумно отодвинулась дверь вагона, пахнуло через широкий прогал прохладой и чем-то странным еще, гарью какой-то.
– Выходи! – раздались голоса и по-немецки и по-русски. – Не задерживаться! Становись строем!
Ну, теперь здесь все будет по-иному. Пленные приехали в тыл, где народ живет трудящийся. Рабочие, крестьяне, не все ведь потеряли совесть!
– Левой! Левой!
Глухо топает по мостовой колонна, окруженная конвойными и собаками овчарками. Из серых сумерек выдвигаются острые крыши нерусских домов. Тонкая и длинная, как журавлиный клюв, башня. Высокий крест на развилке улиц. Не то утро, не то вечер. Огней в домах не видно. Маскировка. Союзники не хотят открывать второй фронт, но немцы бомбили их города, и они в ответ тоже бомбят.
41
Колонна военнопленных проходит по опушке соснового леса, шагает полем. Впереди длинные унылые бараки, обнесенные проволочными заграждениями. В стороне темнеют приземистые здания и высокие трубы. Над трубами сквозь дым – багровое пламя.
– Домны, что ли?
– Куда это нас привезли?
– Завод какой-то…
– Ребята, а ведь это жжеными костями пахнет…
У ворот лагеря загремела музыка.
«Ну вот, и музыка! Не то что в дороге!»
Лагерная охрана, тоже с собаками, выстроилась у входа. Она принимает прибывших. Отдельной группой стоят начальник лагеря Арно Хассе, начальник зондеркоманды Эрих Блогель – высокий белокурый красавец, и Фриц Флемих – комендант лагеря. Флемих – настоящий альбинос: прозрачные глаза его блестят в белых ресницах, как два стальных лезвия.
– Проведем селекцию? – обращается к Хассе главный врач, профессор Георг Клюге, пожилой крупный эсэсовец с землисто-серым лицом.
– Начинайте! – Арно Хассе не выспался, и сдержанная позевота сводит мускулы его морщинистого, гладко выбритого лица.
Он кадровый офицер, имеет много наград, но почти все они получены им после командировок, не связанных с военной службой. Когда он устал вечно рисковать своей шкурой, то вступил в партию национал-социалистов, окончил спецшколу в Любеке и получил звание обервахмайстера полиции. Потом его послали в лагерь смерти… Для него не прозвучали цинизмом слова Геринга, произнесенные после посещения шталага военнопленных № 304 в Цейтхайне, возле станции Якобстоль: «Мы видели, что такое трупы. Лежали штабеля по пятьсот, по тысяче трупов. Это не повредило нашим душам и нравам». Повредить душе и нраву Арно Хассе было невозможно: тигр в джунглях – вот кем он был в молодости, тигр-людоед – к этому он пришел под старость.
– Начинайте! – повторил он, кивнув Эриху Блогелю.
– Бегом! – закричал Блогель звучным веселым голосом.
«Медицинская комиссия» равнодушно следила за ходом «селекции». Военнопленные, выстроенные по сорок человек, бежали на сто метров… Добежавших отводили в одну сторону, тех, кто упал, – в другую. Охрана лагеря знала свое дело, поэтому начальство могло заниматься разговорами.
– Мой мебельный магазин в Дрездене не приносит мне сейчас никакого дохода, – говорил Арно Хассе Фрицу Флемиху. – Жители боятся бомбежек и предпочитают не делать лишних затрат на украшение жилищ.
– В самом деле! – сказал доктор Клюге. – Какой смысл покупать мебель, когда я не уверен, останется ли в целости до утра моя вилла! Я бы на вашем месте организовал магазин похоронных принадлежностей.
– Я имею в городе порядочную слесарную мастерскую, – вмешался Эрих Блогель, тоже отвлекаясь от привычной процедуры отбора. – Сейчас вырабатываю мелкие детали для самолетов, винтовочные затворы. Мне дали советских рабочих. Ими управляет брат. Я велел ему быть беспощадным. Хотя у русских много говорилось о механизации, но станков они не знают.
– Не хотят знать! – заявил туповатый Клюге. – Им надо не квалификацию вколачивать, а уважение к нам, хозяевам. Это очень упрямый народ. Их надо укротить. Вчера я получил письмо от матери. Мой младший брат погиб на фронте. Хорошо, что старушка не падает духом. Она пишет: «Бог и фюрер с нами».
– Замечательно сказано! – Фриц Флемих хитровато сощурил белесые глаза.
Флемих славился мастерством удара: ладонью в нос снизу по всем правилам – и сразу кровь. Он считал лицемерие ширмой, нужной только для старых баб, и поэтому не любил набожного доктора Клюге, который частенько сентиментальничал. Но иногда Клюге прорывался и рассказывал о своих хирургических опытах в специально оборудованных помещениях на задворках лагеря. Он что-то мудрил с маленькими девочками, делая от них пересадки пожилым женщинам для омоложения. Пока ничего не получалось – и дети и женщины умирали, но Клюге не смущался.
– Чем их сразу газировать, – говорил он, – лучше сначала произвести опыт для науки.
«Знаем мы эту науку, как набивать свой карман», – язвительно думал Флемих.
– А ваша мать знает, чем вы тут занимаетесь? – спросил он.
– Нет, зачем же? Человек старый, пусть себе молится богу и отдыхает. Она заслужила отдых. Я перевожу ей деньги, братья посылают с Востока посылки. У нас еще двое на фронте. Мои братья первыми врываются в советские города.
– Да, героизм армии беспримерен, – сказал Арно Хассе. – Однако город на Волге еще держится, хотя мы должны были овладеть им двадцать пятого июля.
42
Тяжело дыша, Никита Бурцев остановился у финиша.
«Вот тебе и тыл! Зачем они нас гоняют? Собаки как волки. Охранники – еще того хуже». Никита сильнее потянул ноздрями смрадный воздух. Верно: пахло чем-то жареным, жженым. «Что они жгут?»
У него все сводило внутри от голода, но запах этот вызывал отвращение.
Пленных, выдержавших испытание, опять построили, ввели за высоко и ровно натянутую колючую проволоку и остановили у большого барака. Тут же на улице начали стричь. Приказали раздеться.
– Баня, что ли?
– Быстро! Быстро! – кричали охранники.
Нагие люди под ударами палок проскакивали в дверь барака. Там душно. Жарко. В самом деле баня. Но помыться не дали. Горячий пар. Холодный душ. Полуголые тюремщики в трусах и ботинках как черти в серых облаках пара. Хлесткие удары плетей доставались от них всем. Пленные бежали по кругу, ежась от побоев, – где уж мыться! – стали еще грязнее. Потом их погнали одеваться.
Никите тоже дали крашеные сине-зеленые рваные брюки из дешевого сукна и такую же гимнастерку. Он надел их прямо на мокрое тело. Белье и обувь, в которых пленные попали сюда, исчезли, взамен дали деревянные колодки.
Прошли регистрацию. Каждому выбили клеймо – номер на руке, – осмотрели, есть ли золотые зубы и сколько, сделали пометку белой краской на спинах, на пилотках и, голодных, развели по баракам.
Подавленность была такая, что даже есть не хотелось. Барак без окон, только наверху, над проходом, между трехъярусными нарами зарешеченные отверстия в потолке. Духота изнуряющая.
Никита лег на доставшееся ему место на голых нарах. Но не успел сомкнуть глаз, всех подняли и погнали на улицу, на перекличку.
Так началась ни на что не похожая жизнь. На другой же день выяснилось, что здесь занимаются истреблением людей. Газируют и сжигают ежедневно, еженощно целые эшелоны военнопленных и мирных жителей…
Шагая в первый раз на работу, Никита решил ничего не делать для фашистов. Пусть кончится все сразу. Так же решили другие.
– Один черт – погибать!
– Сто двадцать пять граммов хлеба с опилками, а впереди – виселица либо газ…
– Газу дают только одурманить. В крематории полуживых сжигают.
– Надо бежать отсюда, – предложил бывший командир взвода Мурашкин. – Устроить бунт и бежать куда глаза глядят.
Работа оказалась настолько бессмысленной, что от нее никто не отказался. Жилые поселки вблизи лагеря были уничтожены, и пленников заставили переносить с места на место щебень и кирпичи.
Побои так и сыпались. С трудом вытягивая из грязи деревянные ботинки, надетые на босу ногу, Никита нес в руках шесть кирпичей, и ему казалось, что все происходит во сне. И снится ему унылое поле, по которому идут изможденные, оборванные, грязные люди в крашеном тряпье, несут кирпичи, тащат носилки с песком. Идут километр, два, оставят свою ношу, берут снова такие же кирпичи, такие же носилки с песком – и обратно. Как грешники в аду. Чужое, серое небо, разбухшее от сырости, поливает их мелким дождем, мокрое сукно пристает к телу. Гремит всюду музыка: оркестры из заключенных трубят, выстукивают немецкие марши, и чадят, дымят трубы крематориев, где сжигают живых людей. Так с шести утра до восьми вечера.
– Почему же немецкий народ терпит такой позор на своей земле? Разве он не знает об этих лагерях? – спросил Никита у Мурашкина. – Почему не протестуют рабочие? Почему не бунтуют крестьяне?
Мурашкин криво усмехнулся.
– Гитлеровцы загнали честных людей в лагеря, а других развратили и подкупили.
Мысль о побеге так ободрила Никиту и его товарищей, что они сумели заслужить расположение обер-ефрейтора Хорста, здоровяка с голубыми глазами и целой шубой кудрявых волос над низким лбом.
– Вы хорошие парни, – сказал он им, не уменьшая, однако, обычных наказаний. – Если вы будете так же вести себя дальше, я вам дам полный газ, когда придет ваша очередь.
43
Наступило воскресенье – самый многострадальный день в лагере. В этот день всегда громче гремела музыка и сильнее давил запах жженых костей.
– Пришел эшелон из Венгрии. Женщины, дети, – рассказывал Никите Мурашкин. – Заставили их написать письма на родину, что доехали, мол, хорошо, получили работу. Письма отослали, а людей – в газ… В женском отделении еще хуже нашего. Оттуда многие добровольно уходят в крематорий. Это право нам всем дано. Подумать только, до чего изощрились – завод построили для уничтожения людей!.. А рядом лагерь для пленных англичан и американцев… По сравнению с нами как на курорте живут. Даже в футбол играют. Там договора о пленных соблюдают и Красный Крест работает: посылки, лечение… С подпольной партийной организацией удалось связаться, – чуть слышно добавил Мурашкин. – Ну что ты так смотришь? Эх, Никита! Не распускай губы! Нашлись среди немцев-заключенных коммунисты. Они уже раздобыли для саперов кусачки, резиновые рукавицы (ток ведь по проволоке пропущен)… Дымовые шашки достали. Им-то легче… Далеко, конечно, не уйдем, но хоть умрем на воле.
– Страна чужая… Вчера один старик привел беглого. Шестьдесят пять марок получил…
– Берегитесь шпионов, тут разных подсовывают… – шептались на соседних полках.
– Идут! – пронеслось по бараку.
Все вскочили, попрыгали вниз, оправляя одежду, привязывая сбоку миски из пластмассы. На нарах остались лишь те, кто умер ночью.
Быстро затопали из барака, построились.
– Раздеваться! – скомандовал Хорст.
Пленные начали раздеваться. Стало зябко и нехорошо: подходила комиссия по отбору в газ.
– Явились, людоеды! – сказал Мурашкин.
– Как глядишь? Как глядишь, мерзавец?! – крикнул начальник жандармского поста Вейлан, собственноручно расстрелявший несколько сот заключенных.








