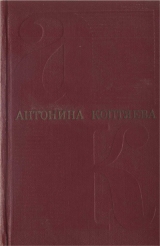
Текст книги "Собрание сочинений. Том 3. Дружба"
Автор книги: Антонина Коптяева
сообщить о нарушении
Текущая страница: 28 (всего у книги 35 страниц)
В отсек вошел Мотин; стараясь не шуметь, открыл шкафчик, достал бинты, бутылку, щурясь, всмотрелся в наклейку, вздохнул, то ли не поняв, то ли не рассмотрев.
– Что, Леня?
– Перекись водорода просили.
– Ну-ка, дай взгляну. Она и есть.
– Темновато тут. Плохо у вас лампа горит. Я сейчас приду, поправлю.
– Хорошо, поправь, пожалуйста.
Когда Мотин вернулся с пинцетом и ножницами в руках, доктор все еще сидел в глубокой задумчивости.
Леня присел возле стола с другой стороны, подвинул к себе снарядную гильзу, налитую керосином, и стал подтягивать, подрезать, очищать от нагара фитиль, сделанный из шинельного сукна. Глядя на симпатичного ему парня, подсвечивавшего себе зажигалкой, Иван Иванович заметил, что он еще побледнел за последнее время.
– Нелегко тебе здесь приходится, товарищ Леня?
– Кому же легко сейчас?
– Похудел ты очень, а запас у тебя и так невелик. Здоров ли?
– Вроде здоров. Ничего не болит. – Мотин вдруг густо покраснел. – Если бы что почувствовал, сам обратился бы. Я понимаю: раненые народ слабый, восприимчивый…
– О чем ты?
– Да вот вчера тетка Настя спросила меня, не чахоточный ли я. Думает: раз худой, так обязательно чахоточный. – Леня закончил возню с фитилем, зажег его, вытер обрывком газеты пальцы. Без нее знаю – худой, некрасивый. А при больных чахоточному, ясно, нельзя работать. Чудная эта тетка Настя. Ну как бы я на одну койку с Лешенькой ложился, имея больные легкие? Правда ведь?
– Конечно. А с Алешей, я вижу, ты хорошо поладил.
– Да. Он со мной словно братишка. И такой заботливый! Как он всполошился, когда Лариса Петровна письмо получила.
– Какое письмо?
– Не знаю. С полевой почты письмо. Она прочитала, вскрикнула дурным голосом и упала. Совсем без чувств сделалась. А Лешечка тут же топчется, в лицо ей засматривает и все спрашивает: «Убили? Убили?» Он всякого насмотрелся здесь… Раз крикнула и упала – значит, убита.
– От кого это письмо было?
– От какой-то женщины, фамилию я забыл. Ежели извещение насчет мужа, наверно, сказала бы нам Лариса Петровна. Кто станет таить такое?
«В самом деле, кто станет таить такое?!» – подумал Иван Иванович.
20
– Подсыпают! – Платон Логунов отряхнул с шинели землю. – Четвертый день лупят без передышки!
– Да уж, лупят!.. – Наташа стащила со стриженой головы шапку. – Видите, как отстрелили ухо у шапки!
Логунов посмотрел и сочувственно поморщился.
– Ты бы, Наталья Трофимовна, каску надела, а то и твои уши отстрелить могут.
«Что за славная девочка! – подумал он. – Ничего не боится. – Такая и Лина была, а вот погибла…»
– Смотри, Трофимовна, будь осторожнее, а то один герой умрет с горя.
– Как вы смешно назвали меня! – ответила она уклончиво.
– Трофимовна-то? Так тебя Хижняк величает.
– Он шутник, но я его люблю.
– А моего героя?
– Ну что вы, товарищ Логунов, мне еще рано думать об этом!
– Ваня хоть десять лет ждать будет!
– Вот такой вы серьезный, даже сердитый, а сейчас выдумываете чего-то!.. Просто даже неловко. Мне больше нравится, когда вы серьезный.
– Ладно, Наташенька, я буду серьезный. Положение наше, правда, к тому обязывает.
Наташа оглянулась кругом, подошла к Логунову поближе и сказала, густо покраснев:
– Передайте Ване привет, когда сможете. Я знаю: он очень хороший.
Весь день кипели бои. Вдруг пришло известие, что противник, наступая, прорвался к Волге между «Красным Октябрем» и заводом «Баррикады», совсем отрезав дивизию Людникова, державшую оборону на берегу у «Баррикад». Тяжелое это известие огорчило и еще больше ожесточило солдат.
– Теперь Людников как на острове, но они все равно не уйдут с него. И мы тут будем стоять еще крепче, – сказал Петя Растокин, выражая общее мнение.
Он и Востриков, заменивший у пулемета раненого Оляпкина, сделали себе на двоих четыре амбразуры в бывшем цехе ширпотреба. Этот цех стоял в ложбине, в юго-восточном углу «Красного Октября», напротив развалин среднесортного цеха, примыкавшего накрест к мартенам. В среднесортном, расположенном на верхней террасе, сидели немцы.
– Пусть фашисты думают, что тут четыре пулеметных расчета, – говорил Растокин, легко передвигая свое большое тело среди тюков прессованной стружки и пустых снарядных оболочек: перед эвакуацией в цехе ширпотреба вместо мисок и лопат изготовлялись снаряды.
По сравнению с другими цехами корпус ширпотреба сохранился лучше. Вывалились кирпичные простенки, рухнули наземь железные стропила крыши, но часть стен, развороченных снарядами, уцелела. Стоят железобетонные колонны в зияющих пролетах – вход со всех сторон открыт, – чернеют кубы нагревательных печей и массивные штамповальные станки.
– Отсюда нас не сдвинут, товарищ командир, – сказал Растокин Логунову. – Но как насчет боеприпасов? Подкинули бы нам еще малость!
Логунов звонил в хозроту, договаривался с командиром полка.
– У всех одна забота – боеприпасы, – отвечал тот. – Могу вас порадовать: начинается ледоход.
Логунов и сам видел, что по реке с утра пошел почти сплошной молодой лед. Радоваться тут, конечно, нечему: ледоход еще более осложнит тяжелые условия обороны, – а в низовьях Волги он затягивается на три-четыре недели, иногда и до января. Как будут пробираться сквозь плывущий лед суда, доставляющие фронту боеприпасы и продовольствие?! Хорошо, если бы река застыла сразу.
– У нас на Баскунчаке ледостава не бывает, – сказал по этому поводу Петя Растокин. У него на все случаи жизни обязательно находился свой пример. – Озеро сплошь забито солью. Весной бывает поверху вода, в соляных забоях – тоже, но ямы опять зарастают солью. Столовая – деревянная избушка на полозьях. Трактор ее возит. Топят не углем, а мазутом, чтобы не засорять пласт. Гонишь, бывало, машину по соляному полю, словно по асфальту…
Петя еще бы рассказывал, да налетели самолеты, и все задрожало от взрывов… Бойцы отсиживались в глубоких укрытиях около траншей, в подвалах цехов и в цементных сточных трубах. Щорсовцы, отбившие снова береговые мартены, укрывались в насадках печей, а у Дома техники – под навалами шлака. Только наблюдатели находились на посту.
– Людоеды проклятые, хоть бы мор какой на вас напал, – ворчал Петя, наводя после бомбежки порядок на своей огневой точке.
Снаряд миномета угодил позади него в кучу пустых снарядных гильз, и те, взлетев, громыхая, раскатились по цеху.
«Вот всадят тебе такую банку! – Петя поежился широкой спиной. – И кирпичиной может садануть, и железюкой… Да нет, врешь, в меня не попадет, хоть я и подходящий объект. Мне еще жить да жить! – Он вспомнил Варвару, и ему стало грустно. – Хоть бы какое-нибудь внимание уделила! Кончится война, поженились бы. Сынишка бы родился. Сидит такой малыш и играет на рояле. Это и есть главное чудо, а не шестиствольные минометы, „юнкерсы“, танки и прочая дикость».
– Тяжелый денек, – сказал Коробов Логунову. – По чувствуем: гитлеровцы еще что-то замышляют.
– А тебе привет от Наташи! – неожиданно перебил его Логунов.
Хмуро озабоченное лицо Коробова преобразилось, светлые глаза засияли.
– Она сама передавала? – спросил он, боясь ослышаться. – Товарищ Логунов, если бы вы не были командиром батальона, я расцеловал бы вас!
21
«Плохи дела у людниковцев! Мало того что отрезаны: с трех сторон враг, с четвертой протока, забитая идущими льдами, – но еще и продовольствия нет». Чуйков походил по блиндажу, перебирая в памяти все попытки помочь дивизии Людникова. Катера пробовали пробиться сквозь лед и обстрел – потерпели неудачу. Летали самолеты У-2, но посигналить им со своей площадки людниковцы не смогли, и часть сброшенных продуктов и боеприпасов попала в Волгу, а часть – к фашистам. Несколько сот раненых лежит под берегом. Лекарства полностью израсходованы. Есть нечего. Но, подтянув потуже ремни, солдаты Людникова отбивают все атаки… Держатся сейчас за счет трофеев. Штурмовыми группами обороняет он свой «остров». Чуйков очень ценил статного, по-военному подобранного комдива, с загорелым, мужественным лицом: одаренный командир, уравновешенный, вдумчивый.
Когда придется наступать, очень пригодится плацдарм, в который он вцепился. «Надо прорваться туда. Забрать раненых, подкинуть продуктов и боеприпасов… Попробуем еще раз двинуть через воложку бронекатера под прикрытием батарей с левого берега».
Чуйков подошел к столу, взял протокол комсомольского собрания в одной из воинских частей.
«Слушали: о поведении комсомольцев в бою. Постановили: в окопе лучше умереть, но не уйти с позором.
Вопрос к докладчику: существуют ли уважительные причины ухода с позиции?
Ответ: из всех оправдательных причин только одна будет приниматься во внимание – смерть».
– Коротко и ясно! – Чуйков неожиданно улыбнулся. – Такова она, комсомолия! Вот и бойцы «Ролика», засевшие на левом фланге Людникова…
Командарм уже давно слышал о них. Четверо парней сделали в раструбе балки, в глубоких и отвесных стенах ее, две норы, одна против другой, и сидят там с пулеметами. Позывные их рации: «Ролик». С берега к ним не подберешься, сверху ни гранатой, ни снарядом не достанешь: штоленки отрыты метров на пять выше дна балки. Немцы уже пробовали по ночам бросать туда гранаты на веревке, но безуспешно. Второй месяц обороняют «Ролики» свою позицию. То стерегли переправу и не допускали фашистов к воде, теперь весь левый фланг дивизии вчетвером держат.
«Что это? Смелость? Нет, не было еще такой смелости на свете, – думал Чуйков. – Это что-то выше простого подвига. Придет когда-нибудь великий поэт и создаст на века поэму о защитниках Сталинграда. А сейчас, кажется, и слов-то таких нет, чтобы рассказать об их героизме!»
* * *
– Сегодня ночью отправляются бронекатера на «Баррикады» за ранеными, – сказал Хижняк Логунову. – Надо подумать! Лежат раненые под берегом, трясутся от холода. Ни пищи, ни лекарств…
На столе возле Логунова открытая папка с документами, полевая сумка, карта заводского района. Фельдшер вспомнил, как на Каменушке забегал по вечерам к нему черномазый дружок Платон. Иногда за полночь шли у них разговоры о работе, о политике и учебе, о жизни вообще. Хорошие то были вечера! Подсаживалась к ним и Елена Денисовна, уложив ребят спать. Теперь не тот Логунов, и воет над кровлей не северная метелица, а все сжигающая буря войны. И сам фельдшер переменился за полтора года до неузнаваемости.
Он уже собирался выйти, но в это время, громко топая по ступенькам, в блиндаж вбежал Семен Нечаев.
– Денис Антонович, я тебя ищу! – вскричал он, схватывая Хижняка за плечи, словно боялся упустить его. – Здравствуйте, товарищ комбат! Извините, что я так ворвался. Опять снаряжаются катера в помощь Людникову. Были врач и фельдшер… Фельдшера сейчас убило, и я предложил взять Дениса Антоновича. Сказал, что он может.
– Ну ясно, могу. Отпустите, Платон Артемович! Вместо меня назначьте пока Наташу.
Вскоре Хижняк и Нечаев были уже на катере, загруженном боеприпасами и продовольствием для окруженной дивизии. Катер походил на бомбу, начиненную взрывчаткой, а вражеские снаряды и мины так и крестили воздух. Взлетал со званом ледяной припай, нагроможденный у берега высокой грядой, в бурлящих разводьях, в пенистых потоках, выплескиваемых взрывами на вздыбленные торосы, мелькали белые тела оглушенных рыб. Одно попадание – и катер разлетится вдребезги.
Идет лед. Покрашенные в белый цвет лодки и катера плывут по разводьям, пользуясь каждой щелкой. Лед затирает суденышки, тащит их вниз по течению. Ломаются рули, ломаются колесные плицы, а люди работают. Многие тонут, перетаскивая лодки через ледяные поля. Убитые, неподвижно темнея на обагренных кровью льдинах, уплывают в низовья.
Протока, остров и берег, на котором дерется дивизия Людникова, простреливаются вражеским огнем насквозь. Теперь, когда фашисты вышли к Волге, прорвав оборону между заводами, проскочить здесь – дерзкая, почти невыполнимая задача.
Нечаев вместе с комендором стоит у орудия. Но пока нет команды открывать огонь: идущее суденышко скрыто тьмою. Впереди и позади идут на известной дистанции такие же бронекатера, раздвигая плывущий навстречу лед. Скрежещут, шуршат, царапая обшивку судна, большие льдины, ломаются, опрокидываясь на ребро.
Хижняк прислушивается, затаив дыхание. «Прямо по сердцу царапает. Батюшки мои, как страшно так сидеть и ждать! Внизу вода. Сверху огонь. Вроде привязали тебя к столбу и обстреливают наугад».
Чтобы отвлечься, Хижняк старается думать о постороннем. «Вот женщины у нас до чего храбрые стали! – отмечает он береговых жительниц. – Одного только боятся: когда солдаты вблизи жилья боеприпасы складывают… Взлетим, мол. Мы тоже сейчас можем взлететь… Ежели рванет – костей не соберешь. Какие там кости! – Поймав себя на такой мысли, Хижняк опять переключается на другое: – Справится ли там без меня Наташа? Иные девчата еще в куклы играют в ее годы».
Ракеты, сброшенные немецким бомбардировщиком, заливают все ярким светом. В клубах дыма вырисовываются бугры правого берега, покрытого развалинами, изуродованный лес на острове и белые катера, двигающиеся по протоке среди сплошного льда. Очереди зенитных пулеметов зажигают трассирующими пулями парашюты «ламп», и те гаснут. Это, конечно, людниковцы.
– Молодцы ребята! – отмечает фельдшер.
В наступившей снова темноте сильнее обстрел, повсюду вспышки огня, только черным пятном выделяется «остров», занятый советскими людьми; клочок земли на самом берегу, вдающийся в развалины заводского поселка.
Кажется, не пройти… Но с левой стороны заговорила тяжелая артиллерия, заиграли, зашумели «катюши», и над воложкой поутихло. Катера медленно приближаются к истерзанному берегу.
22
Потрепанная дивизия Арно Хассе была направлена для переформирования в один из левобережных хуторов Дона. Проезжая мимо разрушенных степных поселков, мимо разъездов, заваленных обгорелыми вагонами, офицеры негромко переговаривались.
– Какая пустыня! – сказал, с трудом ворочая шеей в меховом воротнике шинели, полковник Теодор Вейлан. – То ли дело наша горная Бавария, наш Рейн, наша Шпрее!
Эрих Блогель был иного мнения, хотя и на него наводил оторопь вид степи, покрытой черными пятнами гарей, высохшим полынком да бурьяном вдоль вытоптанных пашен. Повсюду валялись еще не убранные после сентябрьских боев трупы. Конечно, не очень-то веселые виды, но…
– Здесь русский юг, – важно заговорил Блогель. – Смотрите, какое синее небо. Помните, мы осенью задыхались от жары… Даже головорезы казаки выращивают возле Дона виноград и другие фрукты. Представьте себе, что на этой земле хозяйничаем мы, немцы! При даровой рабочей силе тут можно создать рай. Я лично подумываю о поместье на Дону…
Но вдруг красивое лицо Блогеля стало хмурым: его смущали меловые горы под станицей Клетской, которую пришлось «обтекать» дивизии Хассе. Почему-то там войска Гитлера никак не смогли оттеснить русских на левую сторону Дона; они так и остались на лесистом выступе, образованном крутой излучиной реки. Еще тогда Эрих Блогель отметил место, где ему представилась будущая его вилла, похожая на замки немецких баронов, серая, под красной черепицей, с флюгерами, острыми башенками и каменными балконами, которые смотрелись бы в зеркальные донские воды. Фашисты ехали сквозь притихшие казачьи станицы, колеса машин и гусеницы танков поднимали белую меловую пыль, висевшую в воздухе тонким облаком. Тесовые и железные крыши домов, кирпичные лабазы, плетни огородов, в буйно растущих кустах тонкой и гибкой дерезы Кое-где попадались песчаные дюны, чаще ковыльная целина, еще чаще поля, заваленные тыквами, арбузами, дынями. Потом опять пошли береговые меловые горы с глубокими лесистыми оврагами.
– Дон – река приятная! – подытожил Блогель вслух свои размышления. – Тут можно устроиться неплохо. – Подогретый восклицанием Вейлана, он вспомнил красно-бурые утесы на Эльбе, зелень виноградников, виллы в фруктовых садах, скалистые обрывы Саксонской Швейцарии. – В Германии уже все освоено. А здесь столько возможностей.
– Одну из этих возможностей мы уже испытали! – бросил Вейлан.
– Именно?
– Я хочу сказать, что приятно иногда получить заслуженный отдых.
Блогель дрогнул румяными губами, но ничего не возразил на неожиданную выходку Вейлана. В самом деле, от дивизии осталась жалкая горсть людей… Вообще нельзя было не заметить, что воинские соединения таяли в сталинградских развалинах с непостижимой быстротой. Батальоны и полки словно сквозь землю проваливались.
– Русские всегда были фанатиками, – с глубокомысленным видом изрек Блогель. – Будь на их месте люди другой нации, те давно убежали бы с берегов Волги. Мы держимся стойко – это понятно: мы уверены в победе. – Блогель пытливо взглянул в лицо соседа. – А что вы думаете? Во всяком случае, мы добрались до куска, который нам обещали. Смешно было бы теперь повернуть вспять! А русские?.. Еще Достоевский писал (я читал Достоевского): русский человек любит… как он это называл? Да, любит пострадать. Ему нравится пострадать. Такое может происходить только от крайней бедности и дикости.
23
Хутор Вертячий забит немецкими войсками… Уцелевшие домишки заселены до отказа. Ветер срывает белые облачка с труб, стаскивает на землю и волочит через улицы-дороги, через огороды и покалеченные сады, где чернеют разбитые пушки и танки. Плетни разобраны на топливо, разломаны хлевы на базах. Все оголилось. Свободно гуляет теперь по хутору злой зимний ветер. Возле домов топчутся часовые, стучат о мерзлую землю сапогами и громадными ботами, трут покрасневшие носы. Мирное население ютится в сараях и в щелях.
Мария Чеканова хоронит на огороде ребенка. Гроба нет. Маленькое, иссохшее тельце завернуто в тряпку. Мелеша одной рукой (вместо второй – культя) заваливает племяша комками мерзлой земли. Ему жаль мальчишку. Какой веселенький был! Таскал его, дядю Мелешу, за белые вихры, хватал пухленькой пятерней за губы и нос, смеялся раскатисто, когда тот, шутя, гамкал на него. А пришли фашисты со своими танками и самолетами, и как огонек свечи потухла маленькая жизнь. В последние дни ребенок даже плакать разучился, только раскрывал рот с беленькими зубками на бледных деснах да кривил лицо.
– Все тут подохнем! – сказал Мелеша, стряхивая землю с колен. – Зря я тогда не ушел с красноармейцами. – Он взглянул в окаменевшее лицо сестры и подавил вздох сожаления. – Ступай к бате, а я пойду пошарю по кухням. Может, бурачок найду.
– Гляди, Мелешка! Попадешься им на глаза – захлестнут!
Парнишка насунул шапку поглубже и, шаркая растоптанными валенками, двинулся в обход.
Друзья мальчишки забились в щели, зябнут и голодают вместе со всеми. Сытно живут только временные немецкие женки – «шоколадницы», да такие, как Катютя. Большая, жирная – настоящая свинья, Катютя разгуливает по хутору свободно. У нее четверо детей, а где муж – неизвестно. Говорят, он бросил Катютю. Другие говорят – она его бросила. А может, и не было никакого мужа. Не разберешь эти семейные дела!
За плетнем летней кухоньки, обмазанной глиной и крытой камышом, Мелеша слышит негромкий разговор:
– Если не дашь, я пойду к немцам и скажу, где у тебя спрятано.
Это Катютя!
– Должна же я кормить детей, – оправдывается она.
– У меня своих пятеро да мать больная…
– Мне-то что?! Пойду и докажу.
– Доказывай! Тебе не впервой. Всех обобрала.
Мелеша, прижавшись к стене, следит за Катютей, как она выходит из кухоньки, идет грузными шагами через разоренный баз и в самом деле направляется к фашистам.
– Вот стерва! – с ненавистью шепчет мальчик. – Сейчас приведет! – сообщает он, вбегая в темноту сарайчика.
В ответ тяжелый вздох. Закутанная, как старуха, женщина сует Мелеше что-то за пазуху:
– Лепешка… возьми, сынок. Все равно отберут.
Мальчик бежит обратно, оглядываясь на двор, к которому в сопровождении Катюти идут полицаи.
Он уже близко от своей норы, но вдруг из-за угла крайней избы вывертываются два немца с автоматами. Вместо шарфов под шинелями видны женские пуховые платки.
– Эй, мальшик, идти сюда!
Дуло автомата обжигает холодом затылок Мелеши. Прямо в белую косичку, наползающую на воротник, упирается оно.
Большая твердая рука шарит за пазухой мальчика, находит лепешку, испеченную на поду печурки.
– Русский свиня! Вши есть кормить! – Фашист бьет Мелешу лепешкой по щекам, разрывает ее и, смяв, бросает в сторону.
– Этот сорванец, должно быть, из тех, кто балует с гранатами, – сказал по-немецки другой солдат. – Смотри, у него нет руки. Таких надо расстреливать!
Он схватил Мелешу за пустой снизу рукав ватного пиджака и, дернув, опрокинул на застывшую землю. Тот, который отнял лепешку, больно пнул мальчика тяжелым сапогом, и оба со смехом пошли дальше.
Мелеша, не поднимаясь, смотрит им вслед. В горле его тугой ком невыплаканных слез. Потом он вскакивает и направляется к своему логову. Но мысль о лепешке останавливает его. В яме, похожей на могилу, ждут отец – больной инвалид, и сестра, высохшая от горя и голода… Мальчик возвращается. Гнев, требующий возмездия, распирает его сердце, но, когда он находит и подбирает куски полусырого, смятого, как глина, теста, подавленное возмущение прорывается у него совершенно ребяческим всхлипом.
Снова раздаются шаги… Гулко топают по мерзлой земле ноги врага.
Мелеша вскакивает и, единым духом проскочив через изрытые грядки, скатывается в щель. Там темно, дым ест глаза. Яма в метр шириной тянется в длину метров на десять. Сверху она накрыта поломанными кроватями, досками, обгорелой кровельной жестью и завалена землей. Здесь много людей: женщины, ребятишки, старики.
Все ослабели от голода и выползают из этой норы только по приказу полицаев: для составления списков.
Сестра Мелеши и отец сидят у печурки, устроенной в земляной нише. Глаза их бессмысленно устремлены на крохотный, еле тлеющий костерчик. Но оба оживляются, когда мальчик, перешагивая через ноги обитателей щели, подходит вплотную.
– Принес. – Он присаживается на корточки, доставая из кармана куски лепешки, нехотя, сурово хмуря белесые брови, берет свою долю. – Проклятый фриц! А Катюте я задам! Я ей засвечу кирпичом по жирной морде.
Отец и сестра молча жуют.
Маленький яркий огонек ворочается в печурке… Под ногами настлана примятая солома. Хорошо еще, что можно топить печурку. Хорошо, что можно спрятаться от ненавистных, до нелепости жестоких пришельцев в эту кротовью нору… Нужно иметь неуемно жаркий мальчишеский характер, чтобы вот так бегать и злиться из-за чужой подлости.
Неподалеку от щели – «лагерь смерти», небольшая лощина, обнесенная колючей проволокой. Валяются трупы в красноармейской одежде. Живые едва бродят возле землянок. Жара там была летом… Мух там! Когда на огородах еще зрели овощи, хуторские мальчишки подкидывали пленным сырую и печеную картошку, бураки, морковь. Мысль о том, что свои, советские бойцы умирают с голоду, не давала хуторянам покоя. Потом они сами стали с трудом таскать опухшие ноги и примирились с лагерем, как с Катютей, как с девками-«шоколадницами», как со всем своим неправдоподобно страшным бытом. Но многие ждали: вот вернутся наши! Ждал и Мелеша Чеканов.
Он смотрит на огонек и думает. Он вообще много стал думать за последнее время и иногда кажется самому себе стариком: сидит у печурки, а в голове мысли разные плетутся. А разве сейчас можно так сидеть? Влезть бы в танк, катануть по улицам и пушить фашистов направо-налево – и из пулемета, и из орудия. Но ведь это уметь надо!
Однажды в темную ветреную ночь Мелеша повел двух лучших приятелей к своему складу боеприпасов…
Вскоре у немцев взлетела на воздух походная кухня.
– Наверно, повар подвыпил и вместо полена сунул в топку снаряд, – сказал сестре Мелеша.
Сестра только вздохнула:
– Подведете вы нас всех!
Вскоре, бросив «лимонку» в проходившую по степи машину, груженную боеприпасами, Мелеша потерял руку: граната, разорвавшись при броске, оторвала ему правую кисть. На его счастье, водитель не задержался, испугавшись партизан. Хуторянка, работавшая раньше сестрой в госпитале, сделала Мелеше «операцию», и культя, хотя и неровная, зарубцевалась очень быстро.
И вот теперь Мелеша, похожий на старичка со своими белыми вихрами, лезущими на белые брови, сидит, обуреваемый жестокими думами. Сурово щурятся ясно-карие глаза в светлых ресницах. Надо что-то делать… Поджечь автоколонну с бензином? Подсунуть мину в дом, где помещается немецкая комендатура и где каждый день истязают людей? Запалить родной хутор со всех четырех сторон? Нельзя дольше сидеть и ждать!
24
У Эриха Блогеля пропала со стола коробка сигарет. Блогель усмотрел в этом вылазку со стороны местного населения.
– Слушайте, Фриц, – сказал он начальнику полевой жандармерии Флемиху. – Скоро у нашего генерала выкрадут портфель с секретными документами!
– Я разберусь! – пообещал Флемих. – Пора проверить здешние катакомбы. Воздух в тылу уже застоялся, и местные жители начинают забываться. Жаль, что пропал без вести наш доктор Клюге. Это был изощренный специалист по массовым акциям. Наверно, русские содрали с него толстую его шкуру, и теперь он налегке поет с херувимами хвалу господу. С его благословения мы и начнем кампанию. Я хочу продемонстрировать этот случай, а от него перейду к более широким мероприятиям.
Вскоре Флемих позвонил приятелю:
– Приходите посмотреть на преступников! Я изъял десяток хуторских мальчишек, а заодно и их родителей.
Блогель уже нашел свою пропажу в ящике стола, но сознаваться в ошибках было ему несвойственно, тем более что речь шла о русских, и повод для расправы оказался кстати.
Когда Мелешу и его отца уводили жандармы, сестра упала замертво. Она поняла, что это уже конец. Но Мелеша был уверен в ином: станут ли жандармы всерьез возиться с ребятишками? Так, просто напугать хотят.
Однако Мелеша ошибся. Мальчиков били до потери сознания, вытаскивали на холод, отливали водой и снова пороли на глазах связанных родителей. Истерзанных до неузнаваемости детей проводили в назидание остальным по хутору, по голым пустырям и огородам, – зрелище, заставлявшее даже немецких солдат опускать глаза. Бабы-хуторянки, несмотря на угрозы полицаев, выли в голос. Тяжкое зрелище представляла собой группа мальчишек с разбитыми и опухшими лицами, со спинами, изрубленными плетьми, сквозившими в лохмотьях окровавленной одежды. Мелеша шел вместе со всеми, смотрел на тонкую – хоть перерви – шею идущего перед ним девятилетнего Петьки, сына колхозного полевода, на острые лопатки его, видневшиеся из продранной, прилипшей к телу рубашки. Петька двигался неровным шагом пьяного. Ребята постарше помогали ему идти.
«Он и курить-то не умеет, – думал Мелеша о Петьке. – Я тоже этих сигарет в глаза не видел. Но я все-таки навредил фрицам, взорвал кухню…»
– Так вам и надо, выродкам! Сопли утирать не научились, а туда же – бунтовать! – сказала Катютя, встретив необычную процессию, с усилием нагнулась, взяла горсть мерзлого песку и бросила в ребятишек.
К ночи арестованных отвели в пустой подвал и закрыли, не отделив малых от взрослых, и это сразу всех насторожило. Темно. Холодно. Дети молча жались друг к другу, к родителям. Никто не спал, но даже стонов не было слышно. Когда кто-нибудь начинал стучать зубами, его нащупывали и тихонько пропускали в середину, где потеплее. Давит душу смертная тоска. Вот войдут сюда в сумерках серого предзимнего утра и посекут всех очередями из автоматов. Мелеша видел трупы в подвалах хуторских домов… Болит все тело, в ушах звон в тысячу колоколов. Левая рука теперь тоже никуда не годится – не то сломали ее, не то вывихнули. А что почувствуешь, когда станут убивать? Больно? Или только страшно? Потом закоченеешь и никогда уже не очнешься. Не будет тебя… Не увидишь весной, как оденется степь яркими свежими цветами, не побежишь с удочкой на Дон росистым утром, в золотой рассвет, когда поют петухи, а река, подернутая молочным паром, так и зовет тебя в укромные заводи. Дед, довольный рыбалкой, сидит на веслах и щурится, улыбаясь…
– Дедушка, зачем ты меня бросил? – кричит Мелеша, и мальчишеский голос его, пронизанный горестью, пугает всех.
– Молчи, сынок! – Инвалид Чеканов шершавой ладонью закрывает рот мальчика.
Лицо Мелеши обжигает его сухим жаром.
– Дедушка, куда ты, дедушка?!
– Бредит, знать. Ах ты, горе какое!
– Батя! Это ты, батя? Выдь посмотри, не идут ли наши! Бежимте к красноармейцам. Петьку, Петьку не забудьте!
Темная ночь томит страхом близкой смерти. Молча смотрят во тьму малые и старые, и все вздрагивают, когда раздается голос бредящего Мелеши:
– Батя, посмотри, не идут ли наши!
Девятилетний Петька всю ночь молчаливо жался к отцу и только на рассвете, не выдержав мук холода и ожидания, заплакал.
Когда серый день выделил из мрака меловые задонские горы, подернутые чернью дубовых рощ, проснулся в нагретых пуховиках зябкий, как змееныш, Фриц Флемих. Он вызвал парикмахера, дал себя побрить, обмыть, надушить, застегнул ремень с револьвером на левой стороне, потом не спеша позавтракал.
Твердые шаги, приближаясь, гулко звучали по мерзлой земле, и каждый шаг больно отдавался в сердце тех, кто прислушивался… Ближе, ближе. Дверь распахнулась… Все молча смотрели на дула автоматов. Только маленький Петька сказал:
– Зачем мы не убежали к красноармейцам?!
25
Часа в четыре ночи сквозь вой и свист разыгравшейся метели донесся мощный глухой гул.
– Что такое? – спросил Блогель, взглянув на своих приятелей, собравшихся на веселой попойке.
Они сидели вокруг стола распоясанные, с расстегнутыми воротниками, красные от вина и жары: в доме горели большие керосиновые лампы и все время топились печи.
Флемих целый день после расстрела мальчишек занимался арестами и допросами жителей и очень утомился. Приподняв бледное лицо, не оживленное и разгулом, он вслушался, поводя водянисто-светлыми глазами.
– Это на нашем левом фланге. Странно!
Левый фланг? Эриху Блогелю сразу пришла на память станица Клетская и выступ на излучине Дона, где так упорно держались русские. Ему часто мерещилась зеркальная гладь реки, на которую он смотрел с меловых высот, занятых румынскими войсками, берег, где так не хватало замка с крутыми черепичными крышами.
– Там румыны! – сказал Блогель, продолжая вслух свои мысли. – Пошла прочь! – крикнул он, отбрасывая от себя хмельную девку.
– Какая муха вас укусила? – спросил Арно Хассе, тоже встревоженный.
– Левый фланг! Вы понимаете: не станут же румыны устраивать подобный концерт для русских, да еще в такую погоду!
Блогель, как и вся остальная компания, презирал румын и итальянцев, которые не отличались воинственностью. Гитлеровцам и в голову не приходило, что их невольные союзники могут воевать нехотя, потому что ненавидят их.
– В самом деле, канонада идет на левом фланге. – Арно Хассе встал, подошел к окну. – Ни одной форточки! Вот дикари!








