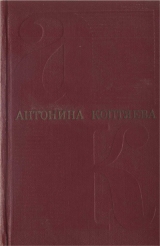
Текст книги "Собрание сочинений. Том 3. Дружба"
Автор книги: Антонина Коптяева
сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 35 страниц)
Женщина вздохнула, но то была не тоска о прошлом, а сожаление о прекрасной мирной жизни.
Хирург Аржанов сейчас тоже воюет. Ольга присмотрелась здесь к медсанбатам и полевым госпиталям и хорошо представляла обстановку работы военных врачей. Чувство жалости к покинутому мужу давно уже вытеснено уважением: как-то не получается жалость к такому сильному человеку. А вот о дочке Ольга старается даже не вспоминать. Есть воспоминания, которые никак нельзя ворошить.
Когда-нибудь они с Борисом Тавровым тоже пройдут по Красной площади. Только бы дожить до конца войны! Будет тогда и ребенок. О Таврове всегда думалось радостно, но тревожно. Все время он ходит по грани, по узенькому, хрупкому мосточку.
Качается мостик, все начинает переплетаться в голове Ольги. Натянув повыше шинель, она заснула, а проснулась от легкого прикосновения и, еще не стряхнув теплую пелену сна, улыбнулась: Тавров сидел рядом с нею, на краю нар.
Но сумрачное выражение его лица встревожило.
– Что случилось?
– Убит Алексей Фирсов.
– Фирсов?! – Ольга вспомнила командира танковой бригады, которому сообщила адрес жены.
Сначала только высокая фигура и круглое черноглазое лицо всплыли в памяти. Потом добрый его смех, большое волнение, с каким он расспрашивал о жене, и то, как писал ей письмо. Больше Фирсов не приходил. Говорили, что он снова принимал участие в танковом прорыве. И вот его нет. Убит.
– Ты понимаешь, когда смерть вырывает таких, как Алексей, это особенно больно. – А у меня с ним была еще дружба со школьной скамьи.
– Я понимаю. – Ольга точно наяву увидела двух подростков, таких не похожих внешне и таких близких по характеру. – Мне очень жаль Фирсова и его жену!
– Напиши ей письмо. Я тоже напишу, но ты по-своему, по-женски… Надо ее подбодрить как-то.
Ольга встала, быстро оделась. Написать письмо… Непоправимое, жестокое несчастье уже свершилось, но Лариса Фирсова еще не знает о нем. Наверное, ноет у нее сердце, томится тревогой, и только надежда помогает жить и работать. И вот надо лишить ее всякой надежды. Какими утешительными словами можно облечь сообщение о том, что случилось?! Убит! Это войдет в сердце, как нож.
– Я не знаю, какая она, Лариса Фирсова, – сказала Ольга, подсаживаясь к Борису. – По словам ее мужа, она добрая и веселая. Но ведь это было до войны. Дети у нее есть… А может, их уже нет. Ведь они в Сталинграде жили. Теперь муж погиб… Даже не знаю, как ей написать об этом!
Тавров молча смотрел на жену. Боль утраты, какую он испытывал, узнав о смерти Фирсова, смягчалась близостью любимой женщины. Здесь умели дорожить каждой минутой передышки. Сама жизнь, связанная с непрерывным смертельным риском, требовала этого.
Для Таврова тяжесть отступления усугублялась тем, что все плоды его фронтовой работы – хитроумная сеть траншей и окопов, доты и дзоты, созданные им и его саперами, – доставались врагу.
«А потом все это против нас же обернется», – с горечью говорил он Ольге в минуты редких свиданий.
И, однако, войска еще не успевали занять новую линию обороны, а Тавров, теперь саперный инженер, уже осматривал со своими бойцами доставшийся им участок, распределяя, где и что строить.
– О чем ты задумался?
– Я думал о том, сколько страданий принесла нам война. Сколько погибло таких людей, как Алексей Фирсов. Мы, конечно, победим. Какие бешеные наскоки отбивают наши войска по всему фронту! И здесь, под Клетской, и в Сталинграде. Но когда я прокладываю новую линию окопов, когда саперы создают укрепление для огневой точки, мне часто представляются картины будущего. Очистятся поля от мин и противотанковых ежей. Придут на эти поля тракторы, перепашут земли, усеянные солдатскими костями, и зацветут хлеба… А среди моря колосьев останутся, как страшные рубцы, остатки наших боевых укреплений. Когда сгладятся они! Но еще дольше не зарубцуются сердечные раны. Миллионы женщин лишатся любви, ласки, лишатся счастья иметь детей. И это непоправимо. Вот что страшно, Оля! Можно поднять из развалин города, построить новые заводы, сады вырастить. Но как восстановить человеческое счастье, если мы не можем вернуть в семьи убитых людей?
– Да, это правда! – упавшим голосом сказала Ольга. – Но не могу же я утешать Фирсову тем, что не одна она пострадала…
14
– Тетя Паручиха, покажите мне Витусю! Я очень хочу посмотреть вашу девочку.
– Она не моя! У меня Вовка, дочки: Люба да Катюша.
– Я знаю. Они большие. А я давно-о не видел маленьких.
– Не надо тебе никуда ходить, Лешечка. Это опасно. – Леня Мотин, проходивший мимо с тазиком колотого льда, замедлил возле Алеши. – Что мамочка-то нам скажет?!
– Мы тихонько проскочим. Крадучись, – пообещала Паручиха, пожалев огорченного мальчика: «Никакого ведь развлеченья у ребенка – жуть одна». – Я его проведу. Теперь тоже наловчилась шмыгать по этим канавам.
Когда Лариса в поисках сына вошла после работы в подвал, где жила Паручиха, она не сразу увидела Алешу.
Он стоял возле корыта, приспособленного под колыбель, и умиленно созерцал крохотное существо, которое размахивало перед ним красненькими ручонками и пускало пузыри маленькими губками.
– Агу! Агу-у! – звал мальчик. – Тетя Паручиха, посмотри, какие у нее волосики! – Он трогал мягкие, реденькие волосы ребенка и улыбался: – Ах ты, кудрявенькая моя!
Женщины смеялись, глядя на него, но девочки – и трехлетка, басистая Люба, и Катюша, все еще страдавшая от ожога ног, – смотрели с серьезным удивлением. Почему этот хорошенький мальчик в пестром джемпере, видневшемся в распахнутом коротком пальтеце, играл с девчонкой, которая ничегошеньки-то не понимает? Что особенного он нашел в ней?
Вовки в подвале по обыкновению не было. Вовка воевал с фашистами, неугомонный и непримиримый. Это он и вызвал у Алеши интерес к Виктории, когда, узнав о гибели Тани, сказал:
– Ты попроси мать, чтобы она родила тебе другую сестренку. Вот родилась у нас в подвале Витуська, и ничего, растет, хоть и война. Еще какая хорошая девка вырастет!
– Мамочка! – обрадовался Алеша, увидев мать. – Посмотри, какая хорошая девка выросла! – Смех окружающих не смутил мальчика. – Дайте я подержу ее на руках.
Возвратясь в свою штольню, он ни на шаг не отходил от матери: то обнимал ее, то клал ей на колени круглую головку с маленькими оттопыренными ушами и наконец, преодолев смутную неловкость, сказал:
– Ты родила бы мне сестренку.
Лариса пытливо посмотрела на сына: он просил не купить ребенка, а родить. Щеки женщины слегка покраснели, но взгляд остался задумчивым. Поцеловав сына, она ответила серьезно:
– Сейчас мне некогда нянчиться – надо работать в госпитале. А вот кончится война, тогда я обязательно рожу тебе сестренку.
Только успела она дать обещание, как в штольню вошел почтальон в шинели, запорошенной снежком, отряхнул у порога шапку-ушанку, потопал сапогами и двинулся вперед.
– Куда? – Леня Мотин встал перед ним, как встопорщенная белая наседка. – Куда ты без халата да холодный такой?! Тут раненые после операции.
Почтальон, оказавшийся пожилой, но верткой женщиной, отступил к порогу.
– Письма…
– Я вижу, что письма. – Леня сразу смягчился. – Давай клади сюда на стол, потом разберемся.
Мотин получил после долгого ожидания письмо от своих родных и пока ничего не ждал для себя, но все-таки взял оставленные почтальоном конверты и начал перебирать их с живым интересом. Это были весточки со всей советской земли. До чего же умно придумали люди!.. Такое громадное пространство: поля, леса, города, реки. Тысячи километров, по которым ты никогда не шагал, которые тебе и во сне не снились. И где-то твой родной человек, как песчинка на вспаханном поле, как стебелек в неоглядной степи. Но летит письмо через горы и долы, через синие моря, несет твою любовь и привет и непременно попадает в родные руки. Вид одного конверта привлек внимание Мотина. «Ларисе Петровне Фирсовой». Но почерк не мужской, а сразу видно – женский: такие тоненькие и узкие буквы. Леня Мотин знал: Лариса Петровна ждала письмо от мужа. Он видел, с какой жадностью хваталась она за принесенную почту, как тускнела, когда ничего не находила. Это письмо не от Фирсова – отца Алеши: внизу под чертой номер полевой почты и фамилия Остроганова, а может быть, О. Строганова.
«Кто такая? – санитар повертел письмо в руках. – Не из тыла пишут, а с фронта».
Мотин снова посмотрел на подпись. А что, если из медсанбата, от сестры или врача… Вот вчера умер на руках Лени и Софьи Шефер молодой полковник. Написал его родным комиссар госпиталя, написала Софья, и Леня послал маленькое письмецо матери умершего, сообщая о последних минутах ее сына. Тяжело писать такие письма, каково же их получать?!
«А моего папу могут убить?» – спрашивал Алеша Фирсов.
«Вот маленький, а как беспокоится! Могут ли?! Тут все могут!»
За перегородкой в углу послышался голос Ларисы Петровны, и Мотин направился туда: надо было отдать письмо.
«Может, оно от подруги, тоже фронтового врача».
Фирсова, придвинув коптилку, что-то починяла: не то лифчик Алеши, не то беленькую его нижнюю рубашечку. Мальчик сидел рядом на койке и внимательно следил круглыми черными глазенками за проворными руками матери. Когда она тянулась за катушкой ниток или за ножницами, он перехватывал ее руку и с силой прижимался к ней губами.
– Тише! Наколешься носом на иголку! – ласково урезонивала его Лариса.
– Вам письмо! – сообщил Леня, глядя на Фирсову с юношеской робостью.
Румянец горячей волной прихлынул к лицу женщины, глаза ее ярко заблестели; она вскочила и схватила конверт.
Леня хотел уйти, но, сам не зная почему, замедлил, поднял бумажку с пола, поправил плоскую подушку на второй койке, где только что отдыхала дежурная сестра.
– Ой! – негромко вскрикнула Лариса.
Леня быстро обернулся, но едва успел подхватить ее, побелевшую, с закатившимися под лоб глазами.
– Ма-ама! – закричал Алеша и остановился, боясь притронуться, боясь сделать больно.
– Ранили? Да? – Задыхаясь, без слез он засматривал в лицо матери. – Убили? Да?
Он видел много раз, как люди, только что смеявшиеся, занятые своим делом, вдруг падали мертвые оттого, что их пробивала невидимая в полете пуля или осколок снаряда.
– Убили? – спрашивал мальчик с недетским отчаянием.
– Нет, Лешечка. Просто плохо ей стало. Голова у нее закружилась. Держи этот флакон! Так, молодец! Лей сюда, на платок! Дадим ей еще нашатырного спирта понюхать. Не бойся, она живая… Сейчас ей будет лучше.
И Лариса в самом деле очнулась, но посмотрела на сына, услышала шелест письма в своей руке и снова потеряла сознание.
– Она заболела! – шептал Алеша, с острой тревогой наблюдая за хлопотами приятеля. – Может, доктора позвать…
– Нет, доктор тут не поможет!
И Леня снова тер виски Фирсовой спиртом, совал ей к носу пузырек с нашатырем, и она опять открыла глаза.
– Алеша-а! – сказала она непривычно жалким голосом и, обхватив мальчика обеими руками, заплакала.
– Ну вот и хорошо! – облегченно вздохнул Мотин.
– Эх, какой ты! – упрекнул его Алеша. – Мамочка плачет, а ты говоришь – хорошо! – И он сам заплакал.
15
Лариса, как смогла, успокоила сына, уложила его в постель и прилегла с ним рядом. Но как только он уснул, острая боль опять подступила к ее сердцу.
Вот какое горе навалилось! И ни с кем поделиться нельзя. Ведь тогда обязательно узнает Алеша… Мальчик живет надеждой увидеть отца. Он любит его, просто бредит им. Если узнает о его смерти, как скажется на нем это новое страшное потрясение? Оно его совсем надломить может!
И сознание своей вины перед погибшим мужем давило Фирсову. «Родной ты мой, ты, наверно, ранен был… Тебе тяжко было, а я о другом думала!»
Словно для того, чтобы доконать ее, вставали перед нею картины прошлого счастья. Лариса уже хирург, Алексей заканчивает Военную академию. Двое детишек у них. Жизнь становится все полнее, красивее, серьезнее… И чем больше вспоминала женщина любовь мужа к ней и детям, тем сильнее пробуждалось в ней задавленное было чувство нему. Как делились всем, как мечтали о работе, о будущем своих детей! И вот все – в прах.
Лежала, не смыкая глаз, а горе утраты душило ее. Нет уже Алексея.
Она поцеловала бледненькое лицо спавшего сына – какой он хрупкий стал! – с трудом поднялась. Мотин сбился с ног от усталости, однако не решился вздремнуть на соседней койке, чтобы не стеснять Фирсову, а сидел на скамье у входа, привалясь к стенке, и спал, настороженный и во сне, готовый вскочить по первому зову. Лариса хотела тихонько пройти мимо, но он сразу вскинул голову:
– Вы куда?
– Не могу, Леня…
Она вспомнила, что не поделилась с ним своим несчастьем. Он так много делает для нее, присматривая за Алешей. Совсем родной человек. Но он же первый и проговорится, даже невольно, а дети так чутки, особенно те, которые испытали горе. Пусть у ее мальчика останется пока хоть эта радость – разговоры об отце. – Пойду работать.
– Ну, идите, – не совсем уверенно отпустил ее Мотин. – За Лешечку не беспокойтесь.
Забыв, что можно пройти в операционную подземным ходом, Лариса, двигаясь как автомат, вышла из штольни в бессонную темноту ночи. Со стороны Мамаева кургана несся басовитый, заливисто-дружный крик «ура-а»: наша пехота двинулась в атаку. Злобно заливались пулеметы. Повсюду взметывались красные вспышки огня: вражеская артиллерия била по Волге с Дар-горы и с высот Северного городка. Ночь стояла холодная. Ничто вокруг пока не изменилось, а в судьбе Фирсовой и ее сына произошел непоправимый перелом. Слез у нее уже не было. В груди все та же боль, и скованно, точно в тяжелом сне, ступали ноги. Вход в операционную. Рука привычно ищет дверную скобку, а мысли далеко-далеко.
Санитары хлопочут меж носилок, тесно составленных в тамбуре. Стоны. Яркие значки маркировки: все – первая очередь. Взгляд женщины-хирурга становится осмысленнее.
– Ты что, заболела? – Софья Вениаминовна оторвалась на минутку от работы. – Как тебя опять перевернуло!
На громкий голос ее оборачивается от своего стола Аржанов. Лариса замечает его, и странное чувство тихой враждебности к нему возникает в ее душе.
«Вот он жив!» – мелькает неосознанно жестокое.
Не отвечая Софье, она готовится к работе, губы ее плотно сжаты.
На столе раненый с челюстно-лицевым повреждением. Сколько таких прошло за полтора года войны через руки Фирсовой! А Танечка?! У Танечки совсем не было лица…
Мысль о дочке так обжигает Ларису, что она чуть не вскрикивает. Почему это столько горя навалилось на нее сразу?!
– Иван Иванович! – зовет она Аржанова.
У нее совсем больной голос, она еле держится на ногах, но у солдата, лежащего перед нею, состояние просто ужасное. – Посмотрите, мне кажется, тут проникающее черепное ранение.
Аржанов подходит, осматривает рану, и они обмениваются замечаниями. Да, похоже, задета лобная область. Осколок, наверное, проник туда через разбитую глазницу. Подходит и Софья Шефер.
– Что тут у вас? – спрашивает она и пристально взглядывает на Фирсову, которая стоит точно оглушенная. – Лариса, родненькая, ты сама нездорова.
– Нет, ничего… – Но Лариса не может скрыть выражение боли и отворачивается от встревоженного Ивана Ивановича.
«Он готов заменить для тебя Алексея!» – мелькнула ранящая мысль.
Женщина-хирург сразу выпрямляется, взгляд ее становится острым и строгим.
– Давайте больного на рентген!
Ранение в самом деле оказывается проникающим черепно-мозговым. Осколки кости от раздробленной глазной орбиты проникли в мозг вместе с металлическим осколком.
«Ведь это тоже чей-то муж и отец!» – подумала Лариса, приступая к работе и снова с мучительной тоской обращаясь на миг к тому, кого ей уже никогда не увидеть.
Врачи удаляют осколки, накладывают шины на челюсть. Операция очень сложная, но Фирсова работает хорошо. Иван Иванович, сделав свою часть работы, снова меняется с нею местом и участвует дальше как ассистент. Он старается не смотреть выше ее рук: лицо даже теперь, когда она совершенно поглощена операцией, мертвенно отчужденное. Такое выражение было у Ларисы, когда она вернулась в госпиталь после первого удара по Сталинграду.
«Что-то опять случилось, но она не хочет сказать. Почему она не поделится с нами своим горем?»
16
Варвара прошла между двухъярусными нарами и остановилась возле Николая Оляпкина. Она каждый день заглядывала к пулеметчику. Ее, как и всех в госпитале, волновала его судьба. Но, кроме того, она краем уха слышала разговор Ивана Ивановича с Решетовым и поняла, что он опять нарушил инструкцию, запрещавшую глухой шов. Если получится осложнение, хирургу будет неприятность.
Все эти дни Оляпкин чувствовал себя неплохо, только, как обычно после черепных операций, припухло у него лицо и слаб он был и вяловат.
Обойдя всех своих раненых, Варвара добралась наконец и до него. Она сразу заметила, что отек лица у больного резко увеличился. Оляпкин не спал – это видно было по беспокойным движениям рук. Глаза его под белым шлемом повязки превратились в еле заметные щелочки.
– Как дела, Коля? – спросила Варвара, наклоняясь к пулеметчику.
Оляпкин пошевелил опухшими губами и вдруг стал подниматься.
– Тошно мне! Нехорошо!
– Лежи! Нельзя тебе вставать.
– Ой, Варечка, я уж просто измучился с ним. Хотел бежать за Иваном Ивановичем! – сказал Леня Мотин, так неожиданно возникнув за плечом Варвары, что она вздрогнула. – Температура у него почти тридцать девять, – кивнув на Оляпкина, тихонько пояснил санитар. – И неспокойный – ужас! Смотрю: а он сидит!
Встревоженная Варвара присела возле пулеметчика, взяла его маленькую руку, шершавую и горячую, нашла пульс.
«Раненые в лоб всегда беспокойны, но вот температура… Тридцать девять! Неужели отек мозга начинается? А вдруг инфекция и придется снимать швы и снова раскрывать рану?»
– Сделаю ему укол и сбегаю за Аржановым! – говорит Варя Мотину, взглянув в его худенькое, светлоглазое лицо.
И хотя Мотин знает, что такое «сбегать» куда-нибудь на сталинградском берегу, он согласно кивает головой. Сам отлучиться не может: у него дежурство. А дежурство санитара в госпитальном отделении, где не один десяток тяжелораненых, принесенных из операционной, – это настоящий боевой пост.
– Надо сейчас же влить внутривенно глюкозу, а внутримышечно – магнезию. Это ни в коем случае не повредит, – убежденно заявляет Варя, заметив сомнение и беспокойство на лице Мотина. Понятно: он чувствует себя здесь ответственным лицом. – А что, дежурный врач смотрел Оляпкина?
– Он пошел к Решетову в операционную, его попросили помочь там. Дежурная сестра тоже занята. – Леня Мотин переступает с ноги на ногу и говорит доверительно. – Мне неохота зря поднимать шум. Раз Иван Иванович сам лечит этого больного, пусть он и посмотрит.
Санитар и сестра понимающе глядят друг на друга. Совесть их чиста, обоим дороги и раненый, и трудовая слава военного их госпиталя, и честь хирурга Аржанова.
Варвара, прищурясь, проверяет на свету коптилки иглу шприца и склоняется над раненым.
– Сейчас тебе лучше будет, Коля!
– Глаза не видят.
– После черепных операций глаза всегда опухают. – Варя отнимает иглу, прижимая место укола ватным шариком, смоченным в спирте.
– Как он тут у нас? – раздался знакомый басовитый голос за ее спиной.
Варвара поворачивает покрасневшее в наклоне лицо. Взгляд ее серьезен, тонкие брови сдвинуты.
– Подскочила температура: тридцать девять.
– Пульс? – сразу тревожно спрашивает Иван Иванович, завладевая рукой Оляпкина.
– Девяносто. Я сейчас сделала вливание глюкозы.
Иван Иванович закончил свой счет и потянулся к повязке.
Варвара придвинулась – помочь, настороженный Мотин подошел посветить с коптилкой в руках.
Хирург пощупал отек на лице раненого, попробовал приоткрыть ему глаз и сказал обнадеживающим тоном:
– Не пугайся, голубчик! Это нестрашно.
Но про себя подумал: «Неужели нагноение раны?»
– Сейчас мы увидим, в чем тут дело. – Он приподнял голову Оляпкина на своих широких ладонях, сосредоточенным взглядом следя за ловкими руками Варвары, снимавшей бинт, и, отвечая на сомнение, овладевшее было им, сказал. – Нет, все в порядке. Видите, Варенька, смотри, Леня: красноты в области шва нет, выделений – тоже. Значит, идет процесс рассасывания внутри мозга. Организм справляется с этой трудной задачей – вот и температура.
– А вливание? – спросил Мотин, все-таки не уверенный. – Правильно?
– Да, да, да! Верно поступила Варя. Что вы еще собирались предпринять? Магнезию? Давайте магнезию. Это ему очень поможет. – Иван Иванович снова потрогал обоими большими пальцами отеки под глазами Оляпкина и поглядел на Варвару, которая, вся раскрасневшись, расправляла рулончик бинта, готовясь накладывать новую повязку.
«Да, Варенька не подведет!»
– Значит, все хорошо? – спросила она, просияв.
Как у нее сразу отлегло на душе: осложнения у Оляпкина нет! В правильности своих мероприятий она не сомневалась, но не обиделась на Мотина за то, что он искал подтверждения ее правоты у главного хирурга госпиталя. Ведь он отвечает за жизнь доверенных ему людей и тоже должен знать, что можно допустить и чего нельзя.
И когда она с особенной дружелюбностью сказала ему: «Посвети поближе, Леня!» – Иван Иванович еще раз представил столкновение этих двух людей у постели больного и порадовался справедливости Варвары.
17
Он шел по траншее пригнувшись – над берегом так и посвистывало, – но Варвара издалека узнала его: и фуражка и шинель на нем казались ей иными, чем на других военных.
Первое, что она услышала от него, были слова:
– Как дела у Оляпкина?
– Хорошо чувствовал, но что-то опять температура поднялась…
Иван Иванович нахмурился, помолчал в раздумье, сжимая губы, и направился к штольням госпиталя.
Варвара остановилась, глядя ему вслед. Сейчас он войдет в госпитальное отделение и увидит Ларису… Там она. А ведь он шел в другую сторону. Но разве можно было не сказать ему о состоянии Оляпкина? Вдруг плохо будет раненому пулеметчику! И при чем тут Фирсова? При чем тут Варвара Громова и все ее душевные переживания?!
Надо думать о бойце Оляпкине, о серьезном его ранении и той изумительной операции, которую сделал ему Аржанов. А то, что, войдя в палату, хирург увидит Фирсову, надо забыть. Но при одной мысли об этом недоброе чувство, против которого девушка боролась всеми силами души и которое никак не могла побороть, снова овладело ею.
Сразу забывается Оляпкин, а представляется только встреча тех двоих. Красивая Лариса, но много и других красивых… Чем хуже сама Варвара? А чем хуже Аржанова тот же Платон Логунов? Ну кто бы это умный и чистый сердцем пояснил девушке – что такое любовь? Отчего она зарождается? Ведь если уважаешь кого, всегда можешь сказать, за что уважаешь. А как объяснить, почему полюбил? И зачем существует злая ревность? Отчего нельзя уговорить себя? Заставить себя, наконец, быть спокойной, по крайней мере, благоразумной!
А о каком благоразумии речь, когда стоит фронтовая сестра в открытой траншее на берегу, где с диким рыдающим воплем проносятся снаряды немецкого шестиствольного миномета, от взрыва которых так и скачут горячие осколки железа; стоит забывшись и смотрит вслед дорогому человеку, а в глазах у нее тоска и боль. Никто ей не поможет. Да она и не хочет, чтобы кто-нибудь вмешивался в ее сердечную жизнь. Надо самой все устроить по-настоящему, не кричать же от тоски, как орет этот подлый миномет! И-a, и-a, и-а! – вопит железо, точно табун ослов. Пришла же кому-то в башку такая затея!
Иван Иванович тем временем уже подошел вместе с Леней к Оляпкину. Совсем юное лицо у пулеметчика: круглые щеки, вздернутый нос. Этакий милый парень! И рука у него как у подростка. Цепкая, хорошая рука. А вот горячевата она, и пульс частит.
– Позови-ка, голубчик, дежурную сестру! – сказал Иван Иванович Мотину.
* * *
– Ты получила тогда письмо от папы? – спросил Алеша.
Женщина вздрогнула, но совладала с волнением, только в глазах плеснулся и застыл какой-то испуг.
– От папы, да? – мальчик заглянул в лицо матери, не понимая, отчего произошла в ней такая перемена.
Лариса, которую он, напуганный ее обмороком, до сих пор не тревожил расспросами, в смятении вспомнила о первом письме и кивнула:
– Получила.
– Вот ты какая! – мальчик улыбнулся радостно, ласково, укоризненно. – А молчишь, а не читаешь!
– Алеша!..
– Ну, почитай. Пожалуйста!
– Алеша!..
– Садись сюда, мамочка!
Она села и достала из полевой сумки тощую пачку писем, как бы перетасовывая их, спрятала то, от Ольги Строгановой, а взяла последнее от Алексея, полученное после долгого-долгого тягостного молчания. Помедлив, Лариса вынула это письмо из конверта. Глаза ее зажглись странным блеском и погасли. Негромким, ровным голосом она прочитала:
– «Здравствуйте, родные мои Нися, Танечка и Алеша!..»
«Танечка!» Разве папа не знает! – Алеша испуганно взглянул на мать и… ничего не сказал.
И Лариса остановилась, наткнувшись еще на привет матери. Она не умела сочинять на ходу, а тут требовалось все передать другими словами. Могла ли она надеяться на забывчивость ребенка?! Странно: такая холодная пустота на душе и в то же время тяжесть. Давит одна отчаянно безнадежная мысль – их уже нет. Были, смеялись, говорили, оставили тысячи воспоминаний, и каждое из них ранит теперь. Были, и нету. Пройдет война, снова зацветет земля, а их не будет.
Откуда-то из холодного мрака протягивается маленькая, теплая ручонка, ложится на плечо, другая обвивает шею.
– Это он нечаянно.
– Да, он оговорился, Алеша! – Вздох матери звучит как сухой всхлип. Помедлив, она говорит глухо: – Мне тоже все кажется, что никак нельзя без Танечки.
– А как он зовет тебя: Нися! – стараясь развлечь мать, отогнать от нее страшные видения, говорит Алеша. – Тетю Паручиху тоже зовут Нися, но она Анисья. Читай дальше, мамочка!
– «Как долго я разыскивал вас, дорогие мои…»
Голос матери вдруг перестал звучать для ребенка:
его отвлек вид самого письма. Мальчик хорошо запомнил трещинку в бумаге под военной печаткой. Если нажать пальцем вот здесь, то бумага прогнется угольником. Наверно, как стукнули, так и прорвали. Он протягивает руку к письму, трогает дырку на нем.
– Что… Алеша?..
«Ты мне уже читала его. Ты забыла?» – хочет спросить мальчик, но не спрашивает.
Он вспоминает, как они с матерью каждый день, когда она прибегала из операционной, читали это письмо. Читали одно и то же, потому что другого не было. Значит, и сейчас нет. Разве она стала бы скрывать? Но отчего она сказала, что получила?
Оба молчат, оглушенные раздумьем, и не видят Аржанова, который стоит в дверях жалкой конуры и тоже задумчиво смотрит на них.
18
Алеша первый увидел его…
Именно здесь, на шестом году жизни, Алеша проникся почти благоговейным уважением к своей матери. Во время приезда ее в Сталинград перед бомбежкой он просто любил ее безотчетной детской любовью. Были еще бабушка и сестренка. Потом они исчезли, и мальчик увидел мать совсем больной от горя. Как бы она ни крепилась, пятилетний человечек, сам потрясенный до глубины души, все понимал. Тогда в нем проснулась жалость к ней и страх новой утраты. Когда он ждал прихода матери и слышал свист бомб и вой фашистских самолетов, чувство беспомощной ненависти терзало его маленькое сердце. Он узнал, что такое смерть, подружился с людьми, спасенными его матерью, доктором Аржановым, Решетовым и другими врачами, и в его душе нашлось место для новых чувств. В подземелье, где он находился круглые сутки, не было никаких радостей для ребенка. Поневоле мальчик втянулся в интересы взрослых, стал гордиться отношением раненых бойцов к его матери, к хирургу Ивану Ивановичу. И чем больше людей спасал Аржанов, тем крепче льнул к нему Алеша. Но дружба с доктором никак не заслоняла в душе мальчика образ отца, самого лучшего и самого храброго человека: отец воевал на танках против фашистов, которые разрушали и убивали все, что любил Алеша.
– Мама, посмотри, кто пришел! – сказал Алеша, все еще полный грустного недоумения.
Румянец окрасил щеки Ларисы, тонкие ноздри ее дрогнули, но это не было смущением. Совсем некстати подошел сейчас Аржанов к ее разрушенному гнезду. Участие? Не нужно ей его участие: неискренним будет оно.
– Ведь это Иван Иванович, мама! – напомнил Алеша, удивляясь молчанию матери, и встал, засматривая ей в глаза.
Тогда Лариса поднялась, положила руки на плечи Сынишки, как бы пряча, прижала его к себе и снова взглянула на доктора.
«Ну, зачем ты пришел сюда? Разве ты не понимаешь, что это оскорбительно сейчас для меня и моего осиротевшего ребенка?»
Иван Иванович не разгадал мыслей Ларисы, но по тому, как она отстранила от него Алешу, по выражению ее лица понял – рассердилась.
Конечно, он мог бы заговорить о работе, мог бы позвать Ларису для консультации к раненому. Но он не умел хитрить, в таком случае тем более. Он должен был подойти к ней, почувствовав какое-то большое ее горе, и так же он должен был теперь уйти от нее. Больше ему ничего не оставалось. Она не хотела от него поддержки. И сам он был совсем ей не нужен. И он ушел.
– Наверно, умер его раненый! – заволновался Алеша, порываясь бежать следом за доктором. – Почему ты не спросила, мама?
10
«Да-да-да, Лариса совсем отошла от меня». – Иван Иванович, сидевший за столом в аптечном отсеке, положил «вечную» ручку на исписанные им страницы и задумался.
«Затянулась оборона! Ну и хорошо, что затянулась. Не сломили нас фашисты и вроде притихли немножко, вроде надорвались в бешеных своих атаках. Сколько людей они у нас покалечили!.. Но все-таки семьдесят пять процентов мы вернули в строй. Наверно, к концу войны будут воевать сплошь обстрелянные люди. Но когда-то еще наступит конец войне?!»
Доктор притянул раскрытую папку с «историей болезни» раненого, но снова задумался:
«Так хорошо было: учился, работал, снова учился и думал, что Ольга тоже должна быть счастлива… А какая страшная трещина зияла и ширилась под этим видимым благополучием! У людей война сломала радостную жизнь, у меня получилось так: от одного удара не опамятовался – бац, другой».
Как будто давным-давно он и Ольга сидели на краю родникового колодца на далеком северном прииске. Ольга утопила тогда ведро и с лицом, влажным от брызг, говорила мужу слова, проникнутые нежностью.
«Да, она говорила, что счастлива со мной. А я верил и радовался, как юнец влюбленный. И правда, прекрасно все это было: Ольга, зеленые тополя, отражение ее светлого платья в воде. А потом явился Тавров… Но разве в Таврове дело? Вот Лариса тянулась ко мне – ведь я видел, ведь не слепой я! – но отошла. Значит, проверила, взвесила свои чувства, и прежнее победило. Теперь она стыдится своего маленького увлечения. Как она посмотрела на меня, когда я пришел к ней!.. Хотел поговорить, может быть, помочь, а она даже Алешу от меня заслонила. Будто я им враг какой! Да, не надо думать об этом! Оляпкину стало лучше – вот в чем сейчас главное. Спала температура, спал отек с лица. Хорошо, что Варенька тогда вовремя подоспела!»








