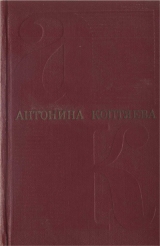
Текст книги "Собрание сочинений. Том 3. Дружба"
Автор книги: Антонина Коптяева
сообщить о нарушении
Текущая страница: 31 (всего у книги 35 страниц)
А главный хирург сидел и смотрел на Ларису, как стояла она у стола и говорила Решетову о необходимости научить всех санитаров правильному кормлению челюстно-лицевых раненых.
– Вы ведь знаете – это самые беспомощные люди. Мало того, что они ни глотать, ни говорить не могут, но еще душевно угнетены сознанием своей обезображенности… Пусть они недолго у нас находятся, но первые дни самые тяжелые для них, а зачастую и решающие.
Иван Иванович слушал. Совсем больной голос у Ларисы Петровны. Жестокое горе у нее, но она день и ночь в работе, наряду с Решетовым, Софьей Шефер и другими. Сама подавлена несчастьем, а вот пришла к начальнику госпиталя, о раненых хлопочет. И вдруг доктор спохватился: раньше я не только так о ней думал: было еще чувство. Где же оно? Что заморозило его? Холодное, даже враждебное отношение Ларисы или мысли о Таврове и стыд за собственную попытку вторгнуться в чужую семью? Как бы то ни было, но на сердце у меня сейчас – Варенька. «Зачем же я остался здесь? Что теперь она подумает? Только что рассказал, как был нечуток к Ольге, и опять такой же черствый оказался!»
Иван Иванович сразу вспомнил, ради чего он пришел сюда. «Надо расширить госпитальное отделение для тяжелораненых, поток которых в связи с наступлением резко увеличился. А тут еще ледоход мешает их эвакуировать. И вообще – зачем тащить людей сразу после операций куда-то в холодные, ветреные заволжские степи? Правильно ставит вопрос Лариса Петровна! Дай срок, еще перешагнут через нас заволжские госпитали, а мы здесь в тылу окажемся!»
«Поговорю с Решетовым и зайду хоть на минуточку к Варе».
37
Даже накануне наступления в районе Клетской не чувствовалось никакой подготовки. По-прежнему каждый день советские бойцы изматывали атаками силы врага. Методически обстреливала передний край и тылы русских артиллерия фашистов. Гром взрывов прокатывался от береговых бугров над Доном, по степям и песчаным барханам, идущим от Клетской к Серафимовичу по всему левобережью. Но никаких перемещений войск не было заметно. Правда, видела Ольга задолго до наступления, как подходили к Клетской ночью или на рассвете новые полки. Свежие лица солдат и обмундирование их радовали глаз: пополнение идет! Но «пополнение» бесследно исчезало у самой линии фронта. Расспрашивать Ольга не решалась: не полагалось здесь такое.
Она уверенно положила руки в меховых перчатках на руль мотоцикла. Мотор взревел, и снова полетели навстречу, выступая из тумана, заиндевелые кустарники, рощицы и отдельно стоящие деревья, поломанные снарядами. Там сгоревшая постройка, там гнезда замаскированных зениток. Гонит по подмерзшей, припорошенной снежком дороге мотоциклист, подпрыгивая на ухабах. За очками шлема поблескивают глаза, зеленоватые в прищуре черных ресниц, губы твердо сжаты. Полушубок с разрезом позади, как у кавалеристов, туго перетянут ремнем, через плечо полевая сумка. Посмотришь – офицер связи, а на самом деле корреспондент и сотрудник дивизионной газеты Ольга Строганова.
До сих пор все поручения редакции она выполняла отлично, а сегодня зазевалась и сбилась с дороги. Надо найти поворот и проскочить по мосту над движущимся еще льдом на левую сторону Дона, но, кажется, пропустила она нужную развилину. Вечереет, тут недолго и к фашистам ввалиться! Недалеко взорвался снаряд: вспыхнул желтый огонь, взлетели черные комья земли… Мимо. Вдруг шлагбаум – жердь поперек дороги. Стоп машина! По коже пробежал холодок. Назад! Ольга поворачивает шумного своего бегуна, одной рукой нащупывает в кобуре пистолет.
Но из кустов, из замаскированных ям выскакивают свои: сразу видно – валенки, полушубки.
С Ольги будто тяжесть свалилась, освобожденно, жарко заколотилось сердце.
Патруль берет в оборот: «Кто такой?» Присмотревшись, мягче и веселее: «Кто такая? Документы? А ну, давай в штаб!» То-то всхолмлена кое-где земля. То-то вроде валы канав змеятся по опушке рощицы, по комковатой заснеженной пахоте. Не в этих ли местах таятся подходившие к фронту новые дивизии? Заприметила Ольга и некоторые безлюдные хутора, где ни живой души, кроме регулировщиков, но к домам, из которых давно выехали мирные жители, подступа нет. Сразу окрик и взмах флажком, рукой, винтовкой: «Давай, давай, не задерживайся, двигай дальше!»
Документы проверили. Звонили в редакцию газеты, потом вывели с провожатым и показали направление.
38
Штаб дивизии находился от передовой километров за пять в левобережной пойме Дона. Вдоль отлогого бугра оголенные и покалеченные кроны деревьев, поломанные изгороди; на белизне легкой молодой пороши ярко выделяются печи сгоревших хуторских домов, обугленные столбы и бревна, блестящие черными чешуйками. На льду небольшого озера темнеют проруби. Обледеневшие тропинки ведут к землянкам-блиндажам, разбросанным по склону, где когда-то гуляла, веселилась молодежь. Пахнет дымком. Но не тем вкусным дымком жилья, который радует прохожего в мирное время, а горечью пожарища.
Рогатка патруля. Знакомые лица солдат. Не заглянув в землянку-общежитие, Ольга входит в просторный под бревнами накатов блиндаж редакции, где при свете ламп-молний печатается очередной номер газеты.
– Ну вот! Наконец-то! – встречает ее возглас редактора.
– Сбилась с дороги.
Молодая женщина прошла к своему столику, испытывая такое чувство, словно попала в родной дом. До чего же славно пахнет типографской краской! Бумагой тоже пахнет. Гудит в углу печь – железная бочка с трубой. Мерно шумит печатная машина, которая приводится в движение не электричеством, как полагается, а вручную: все сотрудники редакции крутят колесо по очереди.
Ольга извлекает из полевой сумки блокнот, бумаги и все с тем же чувством – она дома – начинает разбирать привезенный ею материал для газеты. Вот о комсомольце-сержанте, который ворвался в укрепленный дзот противника, подавив гранатами пулемет. Прекрасно то, что, совершив этот подвиг, он остался жив. Ранен, но будет жить. Подвиг его помог роте одержать победу. Ольге вспоминается разбитый пулемет во вражеском дзоте… Как серая шкура змеиного выползня, свисает с затвора опустевший край ленты… Да, очень дорого для людей, чтобы их тяжелый боевой труд был отмечен! Ничего! «Будет и на нашей улице праздник!»
Корреспондент пишет свои коротенькие заметки, вычеркивает лишние строчки, переписывает все заново, мучительно ищет самые точные слова, потом становится у маховика печатной машины.
– Сегодня хочу побить все рекорды, – говорит она, берясь за теплую рукоятку колеса. – Сначала я быстро выдыхалась, потому что спешила, а теперь поняла: надо ровно дышать и крутить, налегая всем телом.
Поворот за поворотом… Падает, соскальзывая вниз, свеженький номер. Дивизионная газета… Она небольшого формата и только в две странички, но она зовет людей в бой, ободряет, вдохновляет их. Ее будут читать в окопах. Имя погибшего пробудит печаль и гордость, совершенный подвиг взволнует солдат. Конечно, когда машину движет электромотор, получается быстрее. А тут за час не выкрутишь больше ста сорока номеров… Тело наливается усталостью. Жарко. Колесо становится все неподатливее, но женщина упорно поворачивает его. Раз-два. Еще газета. Еще газета.
– Больше не могу! Выдохлась! – устало улыбаясь, говорит Ольга.
Вместо нее к маховику подходит наборщик.
– Час и десять минут! – удивленно говорит редактор и прячет в карман часы. – Ну-ка, сколько она тут накрутила?
А среди ночи все услышали мощный гул канонады: началась артиллерийская подготовка к наступлению советских войск со стороны Клетской и Серафимовича. С первого же дня боев обозначился здесь большой успех. Двинулись для вспомогательного удара на Вертячий и полки дивизии, в которой находились Тавров и Ольга Строганова.
39
– В последний час…
Все находившиеся в блиндаже обернулись к радиоприемнику.
– Успешное наступление наших войск в районе города Сталинграда…
На лицах бойцов и командиров оживленное внимание, даже дыхание скрадывают, боясь пропустить хоть одно слово.
– На днях наши войска, расположенные на подступах к Сталинграду, перешли в наступление, которое началось в двух направлениях: с северо-запада и с юга от Сталинграда…
«С северо-запада – это мы!» – мелькает у Ольги.
– Прорвав оборонительную линию противника в тридцать километров на северо-западе и на юге от Сталинграда – протяжением двадцать километров, наши войска за три дня напряженных боев продвинулись на шестьдесят – семьдесят километров, взяли Калач, станцию Кривомузгинскую и город Абганерово. Таким образом, обе железные дороги, снабжающие войска противника, оказались прерванными.
Далее упоминались номера разгромленных пехотных и танковых дивизий врага, число взятых в плен и убитых, назывались трофеи.
Потом в блиндаже наступила минута затишья, как будто требовалось осознать, представить великое значение события. И вдруг, как взрыв, прорвалось:
– Ура! Героям-сталинградцам ура!
– Ура-а-а-а! – ревел мощным басом крепко сложенный командир и весь сиял пунцовым от напряжения лицом, и белизной зубов, и влажными прижмуренными глазами. – Ура-а-а-а!
– Вы нас оглушили! – счастливо смеясь, кричала ему Ольга и сама подхватывала изо всех сил: – Ура-а!
Она готова была расцеловать своих соседей и, не в силах успокоиться, сказала:
– Нет, вы только подумайте: фашистов погнали от Сталинграда!!
– Вернее, их погнали к Сталинграду, – поправил ее командир. – Их окружили, отрезали.
Строганова присела на нары поближе к лампе, достала из полевой сумки блокнот и карандаш. Над блиндажом погромыхивало: немецкая дальнобойная артиллерия вела пристрелку с флангов, где действовали боковые заслоны наступающих, но на редкие, хотя и сильные взрывы никто не обращал внимания. В блиндаже после прослушанного сообщения стало очень весело. Нашлась гармонь. Нашлись охотники выпить ради победы.
Ольга торопливо писала, устроив блокнот на колене. Лицо ее было еще красно от холода.
– Хватите-ка соточку, – простодушно предложил ей командир, который так самозабвенно кричал «ура». – Ну, можно ли отказываться?! Ведь случай-то какой!
– Да, случай замечательный, но потому-то я и не могу. Мне сегодня еще работать нужно.
Сейчас Ольга писала жене Хижняка:
«24/XI 42-го года
Дорогая Елена Денисовна, поздравляю с победой под Сталинградом. Ведь вас это касается особенно. Я от всей души желаю нашему славному военному фельдшеру вернуться невредимым».
Женщина снова вспомнила свой первый приезд на Каменушку, большую солнечную комнату, массу зелени на окнах, и рыжеволосого огородника Хижняка, и таких же огненных его сыновей, и маленькую Наташу, – тепло стало у нее на душе. Хорошо жить на родной земле, и как прекрасно, что смертельная угроза для этой жизни миновала – Сталинград устоял.
40
Выбивать фашистов из развалин города оказалось не так-то просто. Они засели в коробках домов и в подвалах, превратили их в крепости и дрались, как обреченные бандиты.
– Нелегко, но тесним фрицев. Вот вам, проклятые! – взмахнув кулаком, воскликнул Востриков.
– Гитлер шлет приказы, чтобы не сдавались, обещает выручить, а тем, кто не верит в его посулы, стреляют в затылок свои же офицеры, – сказал Нечаев.
Он только что проснулся и лежал на нарах, закинув за голову руки, угрюмый после короткого сна.
В минуты пробуждения, пока еще дремало в душе чувство мстительной злобы к врагу, особенно тосковал Нечаев о любимой девушке. Милый образ оживал перед ним, напоминал о том, что уже никогда не повторится радость свиданий, что счастья не будет. Потом жгучая тоска утраты переходила в еще более жгучую ненависть к фашистам.
– Ребята, я новые стихи сочинил, – похвалился Петя Растокин. – Вот слушайте:
Гремят атаки боевые,
Лупцуем мы вовсю врага,
Настали дни совсем иные,
И скоро фриц пойдет в бега.
Ребята слушали – кто серьезно, кто снисходительно.
– Какие же это стихи?! – с насмешливой, но доброй улыбкой сказал Нечаев. – Что значит «пойдет в бега»? Я, брат, могу тебе столько слов в рифму насобирать, хоть мешок подставляй.
Петя запыхтел, покраснел.
– Попробуй!
– И пробовать нечего. – Нечаев приподнял красивую черноволосую голову, облокотился, подперев щеку ладонью. – Вот, пожалуйста:
Пойдет в бега
Недорога…
В поля, в луга,
Где радуга.
Беги нога,
Топчи стога,
Хоть мать строга,
Да ни фига!
Бойцы так и покатились от смеха, а Петя рассердился:
– Это ты содрал где-нибудь. Больно уж складно!
– Складно, да не ладно. Петя, друг, не порочь ты звание поэта. Играешь на баяне, и хватит с тебя.
На баяне Растокин играл действительно хорошо.
– Прогоним фашистов, устроим концерт, – сказал он Вострикову. – Я тогда сыграюсь с Лешечкой Фирсовым. Вот здорово играет малыш! – Петя улыбнулся, но улыбка тут же исчезла с его лица, и он задумался.
Варвара так и не ответила ему на письмо, в которое он вложил большое стихотворение, посвященное ей. И хоть бы кто-нибудь, хоть бы раз передал ему поклон от нее в ответ на все его приветы.
– Хочешь, со мной сыграемся, – неожиданно предложил Нечаев и встал, доставая из-за ватника, лежавшего в изголовье, футляр со скрипкой.
Петя Ростокин с готовностью полез на нары за баяном.
Совсем не плохо было сыграно несколько песен. А когда в блиндаже раздались мощные звуки вальса «Амурские волны», бойцы пришли в восторг и даже распахнули дверь:
– Нехай соседи порадуются.
Потом кто-то предложил:
– Айда на улицу, пока тихо. Пусть и фрицы, черта им в душу, послушают.
Так среди развалин стихийно возник концерт…
Стояла холодная ночь. После шума атак установилась сравнительная тишина. Даже звезды заблестели. И тогда с позиций гитлеровцев послышалось, как обычно, пиликанье губных гармошек.
Бойцы и командиры давно уже притерпелись к этому пиликанью и были поражены, когда оно вдруг заглушилось баяном и скрипкой. Русский вальс «Амурские волны» с покоряющей силой и красотой зазвучал над разрушенными цехами.
– Кто это балуется? – спросил Коробов, выглядывая из блиндажа, где помещался командный пункт.
– Ничего. Это, наверное, моряки. – Логунов с удовольствием прислушался. – Пусть фашисты знают, что наши ребята не только драться умеют.
– Нам бы еще кого-нибудь приспособить к своему выступлению. – Петя Растокин взял последний аккорд и сжал мехи гармони. – Бубен или тарелки. Как ты думаешь? – Он взглянул на опечаленного Семена и осекся. «Эх, Сеня! – мысленно воскликнул он. – Такую любовь потерял!»
– Лучше бубен, – посоветовал Востриков, ничего не заметивший. – Я бы их еще барабаном оглушил, – добавил он с мальчишеским задором.
Тогда Нечаев рассмеялся.
– Шумом тут, братцы, никого не удивишь!
Но музыку немцы слушали охотно. Только без конца бросали ракеты. Потом Нечаев и Растокин дали им поиграть на гармошках и снова заглушили их.
После концерта бои на этом участке стали еще злее.
Падал снег, засыпая израненную землю. Обрушивалась с севера пурга. В одно утро берег облетела радостная весть: Волга стала!
Все высыпали из укрытий.
В самом деле, река остановилась. Ледяной мост, соединявший вначале мысы двух островов, слился с широко раскинутым белым покровом, на котором виднелись незамерзающие полыньи свободной воды. А между торосами уже двигались крошечные, одетые тоже в белое люди, волокли что-то на салазках, и саперы строили гати из бревен и досок для движения тяжелых грузов.
41
Петя вошел в блиндаж, где помещались женщины, поздоровался, покашлял, не зная, с чего начать разговор.
Варваре даже стало немножко жаль его. Ведь она очень хорошо знала, какое страдание приносит чувство, не встречающее взаимности. Но она сказала прямо:
– Плохие стихи. Зря вы их пишете, товарищ Растокин! Я не критик, но, знаете, если стихи настоящие, то они всем нравятся.
За эти дни Варя еще похорошела: на лице ее играл румянец, глаза так и блестели, даже ростом она стала как будто повыше. Только вот эта суровость… Откуда она у такой миленькой девушки?
Видя, что поклонник ее не собирается уходить, Варя посмотрела на него уже не просто холодно, но и с досадой. И где же было догадаться ему, что, любя Аржанова, счастливая и гордая теперь его вниманием, она почитала оскорбительным всякое ухаживание другого человека.
– Если вам так уж хочется сочинять стихи, пишите для своего удовольствия. Это никому не помешает, – сухо сказала она и, считая разговор оконченным, снова занялась разборкой вещевого мешка.
Стремление Растокина к сочинительству напомнило ей Ольгу. Вот захотела та стать газетным работником и добилась своего. Еще Варя вспомнила – как сидит Ольга Павловна на ступеньке лестницы напудренная, надушенная и плачет, как маленькая девочка, оттого что не пошла в театр.
«А помнишь, ты сама плакала, когда стряпала блины на Каменушке, а Елена Денисовна привела чью-то собаку. Но ведь я плакала не потому, что в театр захотела… Иван Иванович не брал меня в тайгу. Все равно глупо! Ведь у него Ольга была. Она уже разлюбила его, он стал „третий – лишний“, однако еще любил ее! И не мог он взять тебя с собой, как ты не могла бы поехать сейчас с Петей Растокиным. Если бы послали, поехала, но сама – ни за что!»
За всеми этими мыслями была одна – тревожная и радостная. Ведь еще раз заплакала недавно Варвара, хотя презирала слабость к слезам. Но ничего не поделаешь: ушла из блиндажа Решетова и заплакала, вообразив, как Лариса села на ее место рядом с Иваном Ивановичем. А, оказывается, ничего такого не было. Вдруг сам явился в гипсовую Иван Иванович и начал необычно сбивчиво рассказывать о разговоре с Решетовым насчет помещения операционной.
Варвара занята своими мыслями и делами, а Растокин все не уходит. Стихи стихами, а главное, зачем зашел сюда, – письмо от Логунова. Но почему-то не хочется передавать это письмо, и уже второй раз Петя приносит его сюда. Не товарищ ли командир – причина холодности девушки к бравому пулеметчику, каким не без основания казался себе Петя?
«Что там написано?» – подумал он, присаживаясь на нары рядом с поварихой Тамарой, которая только что вернулась с передовой. В свободное от работы время она и Вовка Паручин носили бойцам горячие обеды. Женщины из «мирного» подвала тоже занимались этим.
Тамара не спеша сняла со спины латаный ведерный термос на лямках, вынула из-за пояса разливательную ложку и финский нож в чехле, отложила в сторону пустой мешок из-под хлеба, и все так же сидя, начала стаскивать телогрейку.
– Ногу я подвернула сегодня, – жаловалась она. – Скользко на обрывах… И ватник мне прострелили. Ну да, так и есть, две новые дырки. – Она распялила ватник, рассматривая его на свет, рассмеялась, откинула со лба взмокшие от пота колечки волос. – Везет мне на всякие приключения: когда шла обратно, воздушной волной бросило. И какой-то плетешок – следом. Так меня и накрыло.
– Все-таки бомбят в последние дни редко, – сказала Лариса, тоже подсаживаясь к столу с иголкой и шитьем в руках.
– Что, Петенька, нахохлился? – спросила Тамара. – Не понравились Варе твои стишки? А ты их нам почитай. Мне, по крайней мере, имечко твое нравится, потому что у меня свой Петечка есть.
Она сбросила растоптанные валенки и, морщась, потирая распухшую ногу, запела:
Бьется в тесной печурке огонь,
На поленьях смола как слеза,
И поет мне в землянке гармонь
Про улыбку твою и глаза.
– Как там у вас Наташенька-то наша? – прерывая пение, спросила она у Растокина. – Была бы тут, на баяне сыграла бы…
– Наташа жива-здорова, а на баяне я тоже могу, – сразу оживился Петя.
Варвара ничего не сказала, продолжив песню:
Ты сейчас далеко-далеко…
И Тамара, и Лариса, и лежавшая на нарах Софья Вениаминовна подхватили:
Между нами снега да снега…
До тебя мне дойти нелегко,
А до смерти четыре шага.
Растокин слушал, шевеля толстыми губами, как будто подпевал про себя, и большие руки его с сильными пальцами шевелились на коленях так, точно он ловил ими что-то. Складное пение подружек совсем растревожило его.
Надо было уходить, но поручение Логунова все еще не было выполнено.
«Что же, если товарищ командир сумел больше понравиться девушке, переживем и это!»
Петя расстегнул шинель, громко вздохнув, вынул из нагрудного кармана слегка помятое письмо, и вдруг его обожгла мысль о смерти Дениса Антоновича Хижняка… Ох, уж эта любовь! Увидел девушку, заволновался, и все вылетело из головы. Ведь Денис Антонович – Варин земляк. Они старые знакомые и друзья… Но теперь, после разговоров о стихах, будь они неладны, просто даже невозможно сообщить о том, с чего надо было начинать.
Варя взяла письмо удивительно спокойно, даже не покраснела, не улыбнулась смущенно или радостно, очень просто взяла, не спеша вскрыла конверт, стала читать и вдруг охнула…
«Хижняк», – догадался Петя и, виновато ссутулясь, пошел к двери.
42
Мороз жмет вовсю. Начало января сказывается.
– Эй, рус! Булька надо, булька!
– Хватит, покричали! – орут в ответ красноармейцы, вспоминая: «Иван, буль-буль Вольга!»
– Рус, дай булька! Булька клеба надо! Один булька – один автомат.
– Ах, вот в чем дело! Иди в плен, дадим хлеба! – крикнул Коробов, хоронясь за камнями.
В ответ пулеметная очередь взбила снежную пыль и колючую щебенку.
– Ну, как хочешь! Губа толще, брюхо тоньше!
– Ребята, а ведь как обернулось дело-то! Фашисты у нас хлеба просят!.. С такой силой вломились сюда, и вот: дай булку… «Булька клеба надо!» – передразнил Петя, все больше удивляясь. – То кричали: «Рус, Вольга буль-буль». А теперь «буль» в булку превратилось.
– Здравствуй, кума! Только что расчухал, – усмехнулся Нечаев, подружившийся после первого концерта в развалинах с Растокиным и с Востриковым. – Ведь фашисты отрезаны от своих тылов. Снабжения по железной дороге у них сейчас нет.
– Это и я знаю, что фрицы под Сталинградом в кольце очутились. Но чудно ведь: вдруг «дай булька»!
– Жрать нечего, а держатся. Смущает их Гитлер своими посулами, долбит приказами чтобы окруженная шестая армия Паулюса стояла тут насмерть. Подкрепление с юга послал: с Котельников рвется сюда группировка Манштейна. Там сейчас борьба не на живот, а на смерть, а эти, – Нечаев кивнул в сторону вражеских окопов, – эти здесь изо всех сил сопротивляются. Мести боятся, да и захваченное не хотят из рук выпустить. А другие боятся пулю получить в затылок: перебежчиков стреляют беспощадно.
* * *
Проходили солдаты под обрывом и пели:
Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна,
Идет война народная,
Священная война!
«Какая могучая песня!» – подумала Лариса, выйдя из блиндажа, и остановилась, заслушавшись. Но в душе самой Ларисы ярость сменилась сейчас глубокой печалью: весть о смерти Хижняка и рыдания Вари снова разбередили горе ее собственных утрат. Что еще предстояло пережить? Ведь война в самом разгаре, и конца ей не видно.
Здесь, в городе, каждую развалину приходится брать как крепость. Саперы не щадят жизни, целыми ночами ползая по минным полям, – горячая у них сейчас работа. И все-таки они не успевают справляться…
– С ума сойти можно! – сказала Лариса, отработав в операционной полсмены. – Сейчас приступаю к десятой ампутации. Ноги… Ноги! Как в наступление, так эти мины проклятые!
– Насовали их всюду. Шагу ступить нельзя, – угрюмо отозвалась Софья Шефер.
Иван Иванович, хотя и слышал, ничего не сказал, погруженный в свое дело. Для него ампутация тоже являлась неизбежной крайностью, всегда ранящей душу хирурга.
«Научились же сшивать нервы! Кости – те сами срастаются, а вот если бы сосуды – вены и артерии – научиться сшивать», – подумал он. «Остановить кровотечение просто: перевязал сосуд, или электрическим током его, или зашить в мышцу. А вот как сшить перебитую артерию или вену?»
Напряжение в операционной страшное: армия наступает, а здесь поток раненых. Приходится и фашистов оперировать. Ничего не поделаешь: пленный – изволь его лечить!
На операционном столе – пожилой лысоватый немец; явно нервничает: пальцы рук беспокойно подергиваются, хватаясь за стол, за край простыни.
Избегая встретиться с его растерянно-заискивающим взглядом, Аржанов осматривает рану, говорит по-немецки:
– Все будет в порядке.
Он делает операцию. Ему помогает Муслима Галиева. На лице ее заносчивое выражение незаслуженно обиженного человека.
– Ничего, Муслима. Мы должны воевать справедливо! – тихо говорит Иван Иванович.
Она сердито хмурится.
– Они наших пленных голодом морят! Наших раненых убивают, госпитали жгут… – Муслима умолкает, половчее перехватывает инструмент, осторожно отводит из-под руки хирурга то, что мешает ему…
«Хижняк действовал бы так же! – подумал Иван Иванович. – Как же иначе-то?!»
Запоздалое известие о смерти Хижняка было большим горем для доктора, и любое напоминание об этом сжимало болью его сердце. Сколько пережито вместе! Хотя бы тогда, за Доном, в тяжкие дни отступления… Врезалась в память тревожная ночь. На красном зареве степного пожара черный курносый профиль, ресницы – большие, моргающие печально, настороженно…
Операция закончена. Раненый гитлеровец дышит ровно, пульс у него, как часы.
– Вроде скорпиона отхаживаем, – с враждебностью произносит Галиева. – Черт их сюда принес! Всю жизнь у нас поломали, нарушили. Вот Лину убили! – Светлая слезинка, сверкнув, катится по щеке женщины на белую марлевую маску…
«И Хижняка тоже убили», – откликается мысленно хирург, но тут же опять спрашивает новую сестру, тетю Настю, склонившуюся над изголовьем:
– Как пульс? Хороший? Ну и прекрасно!..
– Доктор! – обращается к нему немец, которого санитары снимают со стола. – Я не забуду, доктор! Спасибо! Фрау сердится. Я понимаю… Но я получил приказ. Вы знаете военный приказ. Человека нет, есть солдат. Он слушает только приказ!
Аржанов молчит. Теперь они все говорят: приказ! Кажется, у этого пленного появились на лице слезы, когда его уносили. Пожалуй, он говорил искренне! В гитлеровской армии есть разные люди. Только для того, чтобы высвободить в них человеческое, надо сломать военную машину Гитлера.
Иван Иванович смотрит на Варвару, которая сегодня работает вместе с Фирсовой. Умница – она, конечно, встала к столу другого хирурга, чтобы не отвлекаться самой и не рассеивать его внимания. Ее, как и всех в операционной, подавило количество ампутаций. Хижняк относился к ней точно отец родной. Как он желал ей счастья!
Варвара, словно почувствовав взгляд Аржанова, приподняла голову, посмотрела тепло и ласково и снова ушла в работу.
«Да, прав был Денис Антонович! Только будем ли мы счастливы? Не остановится ли Варя на полпути? Не начнутся ли потом снова упреки и непонимание?»
43
Галиева сидела у стола и почти благоговейно смотрела на карточку дочери, прислоненную к солдатскому котелку. Смуглые руки женщины с натруженными жилками были брошены по сторонам тела, как опущенные крылья, но вся она, стройная, строго выпрямленная, словно еще летела куда-то, забывшись в своей мечте.
Лариса тоже потянулась посмотреть на карточку.
– Скучаешь, Муслима?
– Очень скучаю. Но ничего, лишь бы живыми остаться.
Светловолосая девочка Галиевой живо напомнила Ларисе погибшую дочку.
«Кот ученый – это правда, а русалка на ветвях – сказка».
«Милый ты мой, бедный ты мой детеныш!»
Галиева улыбалась чуть-чуть уголками губ, устремленная в будущее, потом взглянула на товарок по работе и общежитию.
– Отправила Светланку вместе с бабкой к своим, в Бахтиаровку. Это за Волгой, недалеко. Там у меня тетка безвыездно живет. Как родилась, никуда не выезжала, даже рядом, в Ленинске, не была. Строго веры придерживается. Нет для нее ничего, кроме аллаха и его пророка Магомета. Мне скучно у нее бывало… Подумаю: всю жизнь прожил человек, такой фанатик, в одной избе и каждую ночь спал на одной койке – даже страшно станет. Вроде не человек, а камень. И теперь Светлану с бабкой в щель посылает, а сама не хочет с койки уходить. Удивительно, как она паранджу сняла! Паранджу, говорит, не бог, а злые люди придумали. А дело так, мол, было… Захотел аллах обогреть всех сразу. Сделал он солнце большое-пребольшое. Стало на земле до того жарко – жить невозможно. Тогда бог сказал людям: «Лучше сделаю я маленькое солнце, а вам будет казаться, что оно для каждого отдельное». Но наши богатеи сказали: «Мы не хотим, чтобы глупые женщины имели такое же солнце, как мы». И они набросили на жен вместо покрывала свои халаты-жиляны.
«Выходите на улицу только в жилянах». Однако можно ведь смотреть на солнышко и из-под накинутого на лицо воротника. Тогда к жилянам добавили флюр – накидку из редкой ткани на лицо. Богатым – из тюля, бедным – из марли. Так, по рассказу моей тетки, у нас в Нижнем Поволжье стали носить паранджу. Старуха не хочет верить, что наша солнце уже существовало миллионы лет до появления людей, – закончила Галиева серьезно. – В других местах татарки паранджу не носили. Даже в Казани я не видела… Но один жилян и там в старину набрасывали, рукава на спину откидывали. А обычно при встречах с мужчинами прикрывались уголком платка. Такой порядок для скромности был у татар везде. Паранджа – это страшно. Вот гляжу на Светланочку и радуюсь. Пошатнули ведь мы фашистов и не пустим их теперь за Волгу. Знаете что, – сказала Галиева, обращаясь то к Варе, то к Фирсовой, – как прогоним немцев из Сталинграда, съездим хоть на недельку в Бахтиаровку к нашим. Отдохнем там, отоспимся, в настоящей бане помоемся… Будет и для нас за Волгой земля!
– Будет! – Лариса улыбнулась, сначала грустно, точно опасаясь, потом радостно. – Должны мы отогнать фашистов, девчата! Тогда отдохнем, отоспимся, и Алеша погуляет на улице вместе с твоей Светланочкой, Муслима. Уже можно помечтать об этом! – Лариса взглянула на Варю, сидевшую впервые за время обороны с книжкой в руках, заметила молодое ее цветение и вздохнула «Счастливая – все у нее впереди, а у меня – обрыв…»
Галиева пересела на нары, поджав по-восточному ноги; уже издали любуясь портретом дочери и тем как бы включая ее в беседу, сказала:
– Мужа-то моего на Урал эвакуировали. Под Воронежем его ранили. А ранение у него такое было, что день и ночь криком кричал. В другой комнате ходят, а ему – боль, будто кожу с него снимают, – движения воздуха терпеть не мог. Только тем и спасался, что окутывали его мокрыми простынями, даже во рту воду держал. Вот как!
– Что же у него? – Варя отложила книжку. Мягкий свет, так и лучившийся из ее глаз, погас в задумчивом прищуре ресниц. – Это уже какие-то нервные боли.
– Он и лечится у московских нейрохирургов в госпитале на озере Кисегач. Пишет: лечил его доктор Игнатов Михаил Григорьевич. Сделал ему операцию, и все боли как рукой сняло. Теперь поправляется мой татарин. Хвалит госпиталь: помещения богатые, ковры кругом, цветы – загляденье! Кормят хорошо. Уход – лучше не надо. И лесу, лесу кругом! Елки да сосны, ростом с трубы, какие были у «Красного Октября».
– Ну уж! – ласково усмехаясь, поддразнила Лариса.








