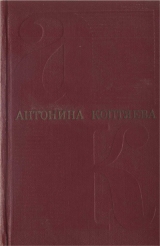
Текст книги "Собрание сочинений. Том 3. Дружба"
Автор книги: Антонина Коптяева
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 35 страниц)
Прямо в воду сброшены с бортов сходни; с плеском вышагивая по ним, санитары и добровольцы-жители переносят пострадавших на баржу.
– Погодите с детишками! Куда вы их суете прежде времени? – раздраженно говорит Чистяков. – Хоть бы ветер подул с запада, нагнал бы дым на реку! Ребятишек погрузим в последнюю очередь, пусть пока в убежище посидят. Варюша! – окликнул он Варвару. – Ты, дочка, не надрывайся. Знай свое дело – принимай раненых, чтобы быстро и по порядку занимали места.
Капитан осматривал пароход, проверял заделку пробоин, распоряжался погрузкой, а душа ныла: «Что с женой? Как она сейчас? Наташенька-то жива ли?..»
42
Хижняк скатился в теплую еще воронку, сильно потянул за край плащ-палатки, на которой лежал раненый командир роты Рябов… Если взглянуть сверху, с высоты птичьего полета, то фельдшер походил на этом изрытом поле на муравья, волокущего свою ношу то в обхват, то, как сейчас, пятясь и упираясь в землю ногами в черных ботинках и зеленых солдатских обмотках. Затащив раненого в укрытие, он захлопотал с санитарной сумкой. Рябов лежал, повернув набок голову, светлый чубчик свалился на восковой лоб, из-под приспущенных ресниц голубел неподвижный взгляд.
– «Умер!» – Хижняк, сразу представил прошумевшую атаку и удалого этого командира в самой гуще боя, но пульс под пальцами слабо забился.
– Живой! – Фельдшер вздохнул с облегчением: он выволок Рябова из вражеской зоны и теперь страшно огорчился бы, если бы его старания пропали даром.
Большими ловкими руками, покрытыми ссадинами от ползанья по земле, он расстегнул воротник поношенной командирской гимнастерки, распорол рукав и сделал впрыскивание камфоры, машинально пригибаясь от осколков, звеневших над углублением воронки, и только после этого осмотрел рану. Осколки черепной кости торчали под кожей, как стропила провалившейся крыши, из раневых отверстий вместе с кровью вытекал размозженный мозг.
«Э-эх ты-ы! Сквозное ранение правой лобной области!» – И Хижняк вспомнил, как Рябов, когда зашатался, упал не сразу, а еще пробежал и ударил раза два прикладом автомата наседавших противников.
«Другой раны нет. Значит, когда я бросился к нему, у него уже было вот это, однако сознание он не потерял, а бежал так, что дай бог здоровому! Иван Иванович всегда интересуется, как вел себя раненный в череп в первые минуты и часы после ранения. Был ли он без сознания или в шоке? Да разве разберешь в таком вот случае, шок ли у него, или без памяти он, или мозговое давление повышено, или все сразу? Лежит расслабленный, но вдруг начинает ругаться, дергаться, причмокивать губами. Пульс еле прощупывается, и дыхание неглубокое – прихватывает воздух чуть-чуть. Вот она где нужна, нейрохирургия!»
Хижняк обмывал рану раствором, накладывал повязку и все думал о том, как почти целый год работал с Аржановым в госпиталях, где были в большинстве черепные ранения. Тогда ему даже снились окровавленные черепа. Наложив повязку, фельдшер снова проверил пульс и, убедившись, что Рябов жив, попытался выглянуть из ямы.
Атака немцев была отбита, но артобстрел с той стороны снова разгорался, и осколки железа со свистом падали на выжженное, взрытое бомбежками и перепаханное снарядами поле. Вылезти из воронки представлялось немыслимым делом; все живое прижималось к земле. Санитары взвода Хижняка должны были уже убраться с поля боя – кто на полковой медпункт, сопровождая раненых, кто в окопы, а его точно мешком накрыло в этой яме.
«Влип я! – подумал Хижняк и зябко поежил плечами. – Пойдут фашисты в атаку и затопчут нас здесь».
Отчаянное, злое чувство охватило фельдшера.
– Ежели они начнут садить из минометов, так и так нам обоим каюк! – рассуждал он вслух. – Заберу-ка я сейчас своего командира и айда до дому.
Траншеи, где сидели, притаившись, наши бойцы, не зря представлялись сейчас Хижняку настоящим домом: можно поговорить с соседом, покурить, видишь, как люди деловито готовятся к бою – проверяют оружие, заряжают автоматные диски, кто-нибудь, привалясь к стенке окопа, строчит письмецо.
«До темноты еще ох как далеко! – Фельдшер щурясь покосился на беспощадное солнце, вставшее вполнеба. – До нее много раз перекатятся через эту выбитую полоску и свои и чужие. Сколько еще людей здесь останется!»
Хижняк снова подполз к краю воронки, то и дело припадая лицом к земле, отворачиваясь от бьющих то с одной, то с другой стороны пыльных вихрей, и глянул в сторону вражеских окопов. Там не чувствовалось пока никакого движения, фашисты спокойно сидели под прикрытием своего артогня.
«Была не была!» – решил фельдшер, знавший, что как раз впереди есть узкий, но довольно глубокий окоп. Оттуда до своей позиции рукой подать. Наверно, саперы уже прорыли там соединительный ход.
Хижняк, как командир санитарного взвода, всегда изучал будущее поле боя, запоминая, где можно проползти, в какое временное укрытие стаскивать раненых, но сейчас все вылетело из его головы, и только рисовался в воображении тот самый окопчик.
Как раз спадала волна огня, но осколки еще жужжали и звенели вокруг. Подхватив Рябова под мышки, Хижняк вытащил его из воронки и, пригнувшись, так быстро поволок по полю, что ноги раненого, чертя землю сапогами, поднимали пыль столбом. Казалось, мотоцикл, вихляясь на рытвинах, катился по полю.
Снаряд артиллериста, взявшего под прицел непонятную движущуюся группу, бухнул позади. Наверно, немецкий наводчик так и решил, что это пьяный или сумасшедший русский самокатчик, неведомо откуда свалившийся на обстреливаемое поле. Хижняк не обернулся на шум близкого разрыва. Он бежал, напрягая все силы, уже угадывая замаскированные брустверы окопов, откуда выскочил недавно вместе с бойцами. В ушах у него стоял сплошной звон, красные круги мелькали перед глазами. Автоматная очередь пронизала воздух над его согнутой спиной: должно быть, выглянул наблюдатель на КП. Хижняк только успел ощутить холодок от близкого свиста пуль. Новый снаряд ударил рядом, воздушная волна взрыва толкнула фельдшера, бросив вместе с ношей на землю. Падая, он отчетливо увидел перед собой памятный ему окопчик, собрав последние силы, ввалился в него и втянул туда раненого. С минуту он лежал неподвижно, жадно хватая пересохшим ртом воздух, насыщенный пылью и пороховой гарью, потом раскрыл глаза, синие, с огоньком в широко разлившихся зрачках, и прислушался: рядом глухо бубнили голоса – говорили по-русски. Подобие улыбки появилось на широких губах Хижняка.
– Что, взяли? Вот, выкусите! – сказал он, обернувшись к вражеским позициям, взглянул на свой черный ноготь и добавил с сокрушением: – Эх ты-ы, медицина!
43
В операционной Хижняк сразу подошел к Ивану Ивановичу, и они обрадованно посмотрели друг на друга.
– Вы даже почернели и с лица совсем спали! – тихо сказал фельдшер вместо приветствия. – Что ж это вы себя так замордовали?!
– Да и ты, Денис Антонович, не лучше выглядишь, – с ласковой хмурью ответил хирург, снимая перчатки и готовясь мыть руки для следующей операции.
– Небось не похорошеешь от таких событий. Выперли наших с Дона. Теперь на этой стороне мы окопались. А надолго ли?! Сталинград-то… А? Черная туча дыма там стоит, и сплошной грохот днем и ночью. А мы теперь вроде на острове…
Но Денис Антонович не умел долго стоять и ахать.
– Где тут командир-то мой? – спросил он, оглядываясь на ряды носилок, наставленных в тамбуре и в предоперационном отделении землянки. – Он первой очереди. Вы уж его сами посмотрите. – Из уважения к хирургическому искусству Аржанова Хижняк до сих пор не мог перейти с ним на «ты», тем более что и Иван Иванович обращался к нему то на «ты», то на «вы». – Это наш командир роты, – пояснил он. – Храбрец, умница и душевный человек. По фамилии Рябов. Куда же его затащили? – И Хижняк метнулся к носилкам, заглядывая в лица раненых. – Вот он, мой голубчик! Если позволите, я вам буду помогать по старой памяти при этой операции. Мне положено теперь сутки отдыхать, – говорил он уже с таким видом, как будто ничего страшного накануне не произошло! – Но какой теперь отдых! Я у вас переночую, а утречком пораньше махну обратно в свою часть.
– Да, необходимо срочно оперировать. – Иван Иванович еще раз осмотрел раненого, положенного на стол. – Разрушение здесь большое. Как только я приподниму осколки, режущие мозг и давящие на него, оттуда так и брызнет.
Сознание у раненого затемнено. Но интересно то, что говорит о нем Хижняк: в первые минуты после ранения он еще бежал и дрался… «Какая сила позволила ему бежать, да еще бить прикладом?!» – думал Иван Иванович во время операции, очень трудной и кропотливой. Вклинились было мысли о Ларисе, о том, что творится в Сталинграде, но кровотечение, возникшее из порванных сосудов раненого, заставило забыть все остальные тревоги. «Хорошо, что Хижняк пробудет здесь до утра. Можно будет посидеть, поговорить еще о Рябове, восстановить отдельные детали: как упал, как вел себя».
Но когда они оба вышли из операционной, доктор сказал:
– Ты, Денис Антонович, вздремни пока часок в холодке – вот здесь у нас землянка вроде ординаторской, – а мне надо еще посмотреть, как мои больные после операции! – И Иван Иванович, устроив на отдых Хижняка, еле стоявшего на ногах от усталости, пошел к блиндажам отделения тяжелораненых.
Широкие ступени вниз. Толстые бревна наката. В подземелье душно и полутемно, хотя горели не обычные фронтовые коптилки, а фонари «летучая мышь», принесенные из бывшего совхоза, расположенного по соседству. Когда-то животноводы и агрономы выходили, покачивая этими походными лампами, в глубокую черноту ночей, кладовщики сновали с ними по токам и амбарам… Всюду, куда не достигал голубой луч степной электростанции, бежал желтенький живой огонек фонаря.
– На другой день обратно стучит, – послышался из угла ласковый тенорок Лени Мотина. – Ну, опять царевичу пришлось идти – толковать с чертом… «Я ведь дал тебе работу!» – «Готово все».
Иван Иванович заметил, что стонов стало как будто поменьше, и, не отвлекая рассказчика, присел возле раненого, у которого был открытый пневмоторакс и который только что пришел в сознание после операции, – нашел пульс, но, проверяя его, невольно прислушался к певучему голосу Лени. «Вот она, фронтовая жизнь: там такое страшное творится, тут сказки слушают!»
– Глянул царевич в окошко. Точно: стоят хоромы, в окнах электричество так и сияет.
– Тогда, при чертях да царевичах, не было еще электричества! – раздался сиплый басок раненого сапера.
– Ладно, не мешай, – со слабой усмешкой сказал кто-то с верхнего яруса. – Не знали про него раньше, вот и в сказках не было.
– Валяй дальше, тетя Мотя!
– «Ну, говорит, сделай мне озеро большое, и чтобы рыба в нем плавала».
Иван Иванович переходил от койки к койке, краем уха слушал побаску Лени, потом тихонько позвал:
– Мотин!
Леня явился тотчас же. Большие сапоги его стояли у двери и, казалось, отдыхали, небрежно избочась, а босиком он двигался неслышно, худенький, как мальчишка-подросток.
Переступая с ноги на ногу, он выжидательно смотрел на своего шефа. Под глазами его лежали черные тени, вздернутый нос заострился.
– Ты спал сегодня? – неожиданно совсем не о том, о чем собирался, спросил Иван Иванович.
– Нет еще.
– А вчера?
– Маленько поспал.
– Следишь за этим раненым?
– Как же! Часа два, не отходя, сидел, хоть он и не просил ничего. А сейчас скучно тем, которые спать не могут. Я с ними и разговариваю.
– Если что, – Иван Иванович кивнул на бойца, неподвижно лежавшего в белых повязках, – сейчас же зови дежурного врача. Пульс-то научился определять?
Леня улыбнулся застенчиво:
– Нахожу теперь сразу и чувствую, когда неладно.
– То-то! Чувствовать надо и понимать, а когда придет смена, еще поспать маленько.
44
Лейтенант Бережков очнулся от тягостного полузабытья… Пошевелил пересохшими губами:
– Пить!
Его никто не услышал.
– Пить! – сказал он, с усилием напрягая голосовые связки. И вдруг вспомнил: ему отрезали ногу…
Два дня назад он и гвардейцы его взвода сражались в степи, прятались по балкам, ползли через рыжие бурьяны и снова дрались, бежали и падали на землю, ощущая ее сухое тепло и нежную горечь полынка, опаленного солнцем. В азарте рукопашных схваток и перестрелок раненый Бережков тоже перебегал, полз, падал, стрелял, помогал товарищам делать перевязки – считал, что ранен легко. Даже когда его начали трепать ледяные ознобы и в пот стало бросать, а острые боли в ране, где засел проклятый осколок, сменились тяжелой, распирающей болью, он все еще крепился, ободряя солдат, обнадеживая их скорой встречей с однополчанами.
Сейчас он вдруг подумал:
«Счастливый я был тогда: мы боролись с оружием в руках, и тело мое было сильным и ловким».
Как хочется пить, и тошнит, и так давит сердце… Душно. Тяжко. Какой-то трепет тоскливый в каждой жилке. Низко навис потолок верхних нар, там мечется кто-то в бреду, а рядом, у самого изголовья, с легкими, короткими всхлипами дышит умирающий. Бережкову хорошо знакома эта предсмертная икота. Где же врачи?
– Сестрица! – зовет Бережков еле слышно: все пересохло во рту. – Что же это вы? Где вы?
Он хочет приподняться на койке, но острая боль и слабость валят его обратно на подушку. На короткий миг он теряет сознание. И снова беззвучно кричит:
– Пить! Сестрица!
Глухо в подземелье, как в могиле, тускло горят коптилки, и все всхлипывает над ухом умирающий. Тоже гангрена. Тут все с гангреной… Что же это за болезнь, при которой так быстро и неотвратимо распадается человеческое тело, сжигаемое каким-то страшным ядом? Зачем такая кара?
«Может быть, и у меня „это“ не остановлено тем, что отрезали ногу? Ведь тут всем сделаны операции, а вот – умирают… Нет, уж лучше безногим остаться, только бы попасть домой. Жена откажется, а сын нет, а мать и такому рада будет. Одна ведь она! А работать и на костылях можно! – Новый страх, страх смерти, охватил больного. – Почему нас бросили здесь одних?! Может быть, наши и отсюда уже отступили?»
– Доктор! – отчаянно взмолился Бережков и вдруг увидел перед собой человека, который своим добрым отношением заставил его расплакаться в операционной.
Большая, сильная рука приподняла его голову, холодный носик поильника коснулся пересохших губ. Одна-две капли воды точно обожгли горло, и раненый громко вздохнул.
– Как ты себя чувствуешь? – В голосе хирурга звучала любовь и тревога, и Бережкову опять захотелось плакать. Но жаловаться лейтенант не любил.
– Хо-ро-шо! – прошептал он, боясь в то же время, что после такого ответа хирург сразу уйдет от него.
Нет, не ушел, лишь удобнее примостился рядом на маленькой скамейке и, обернувшись в глубину блиндажа, негромко позвал:
– Сестрица!
Доктор как будто отдалился от Бережкова, но рука его была тут. Сильные и осторожные пальцы ее цепко держали запястье раненого, и тот, забыв все свои тревоги, поплыл куда-то с единственным сознанием, что пока его держат так, он не утонет.
– Что же это у вас: человек умирает, и никого нет, – точно сквозь вату прорвался суровый, но милый Бережкову голос.
Слова «человек умирает» обострили сознание лейтенанта. «Разве я уже умираю?» – подумал он и открыл глаза.
В проходе между койками стоял дежурный врач, терапевт Смольников, румянощекий, довольно упитанный, с розовой лысиной в ярко-черных волосах.
Он что-то прожевывал и в упор спокойно смотрел на ведущего хирурга госпиталя. Лицо его хранило следы недавнего сна.
– Вы… – Иван Иванович с трудом сдержался от крепкого выражения. – Сестра где… Почему нет санитара?
– Сейчас он будет. – В голосе Смольникова прозвучала обида. – Неужели я сам должен бегать по столовым?..
«Какие столовые!» – хотел возразить Иван Иванович, но вместо того сказал тихо, но резко:
– Острая сердечно-сосудистая недостаточность! Быстро капельное введение физиологического раствора! Глюкозу и сердечные. Сейчас, голубчик, мы тебе поможем, – совсем другим тоном произнес он, наклоняясь к Бережкову.
Сразу забыв об усталости, он засучил рукав его рубашки и начал прощупывать, высматривать нужную вену. Пульса почти не было, больной обливался потом, лицо его посерело.
«Мерзавец!.. Мерзавец! – думал Иван Иванович, не глядя на Смольникова, молча принимая от него шприц с лекарством. – Он и здесь, на передовой, проводит свою теорию „кушать часто и понемножку“. „Супы вредны! Жирные навары гибельны“. Нет, гибельнее всего на свете формальное отношение к людям!»
Появилась сестра, засуетилась, забегала, принесла грелки.
– Может быть, такое состояние оттого, что процесс идет дальше? – спросил Смольников.
– Нет! – решительно возразил Иван Иванович, который уже осмотрел рану и сменил промокшую повязку.
Подумав о том, что поступил правильно, не подвергнув раненого риску повторной ампутации, он снова подсел к нему, торопливый пульс, тоненький, как ниточка, вызвал радостную улыбку на его лице.
– Дайте больному сто граммов водки, – приказал он сестре. – И сделать дробное переливание крови. – Последнее относилось к Смольникову, но тот замедлил у изголовья соседнего ложа.
– Здесь явно неблагополучно: тоже кандидат! – шепнул он Ивану Ивановичу, кивая на раненого, который, обеспокоив Бережкова своим дыханием, теперь почти совсем затих.
– При таком надзоре вы всех сделаете кандидатами! – жестко отрубил хирург. – За Бережковым наблюдать, как во время тяжелого кризиса при крупозном воспалении. Чтобы не произошел отек легких, прекратить капельное вливание раствора, едва пульс придет в норму. И сразу сердечные и глюкозу.
Другому раненому, совсем юному летчику, потребовалось повторное хирургическое вмешательство: гангрена прорвалась за линию ампутации.
Аржанов позвал санитаров и вернулся снова в операционную.
– Умер бы Бережков, не загляни я в палату! И этого тоже упустили бы. Смольников ввел ему сыворотку не внутривенно, как я предложил, а внутримышечно, из-за боязни ввести в кровь излишек чужеродных белков. Перепутал, наверно, а теперь подбирает причину, – устало и раздраженно рассказывал Иван Иванович Решетову. – Нет в этом враче никакой человеческой теплоты. Эгоист первостатейный. Вот Леня Мотин малограмотный паренек, а сколько в нем душевной силы и просто материнской нежности к раненым! Его присутствие в палате все время чувствуется, и при нем у больных нет ощущения одиночества. Да-да-да… Сделаю сейчас глубокое рассечение, а затем сыворотку внутривенно, большими дозами. Я уже не раз применял такой метод: внутрь водки, под кожу морфий и камфору, переливание крови и через час сыворотку в подогретом виде.
– А результат?
– При активном хирургическом вмешательстве хороший. Бывала и смертность в тяжелых, запущенных случаях.
Разговаривая, хирурги мыли руки, облекались в чистые халаты, надевали перчатки.
– А что, если делать ампутацию при гангрене так, как предлагает Злобин, и вливание по вашему методу?
Иван Иванович смущенно покраснел.
– Какой же это мой метод? У нас в госпитале один хирург применял, а я вцепился.
– Смольников не вцепился бы.
Новая агрессия инфекции обнаружена вовремя, но общее состояние раненого было тяжелым. В операцию включились и Решетов, и подоспевший, не выспавшийся, но уже бодрый, Хижняк.
Человек, за которого они боролись, лежал, плотно сомкнув золотистые, как у ребенка, ресницы, и на потном лице его, полузакрытом белой маской, золотился легкий пушок, которого еще ни разу не тронула бритва. Это был летчик, окончивший спортивную летную школу, доброволец, восемнадцати лет от роду, уже награжденный орденом.
Закончив операцию, хирурги и Хижняк, который ни на шаг не отставал теперь от своего бывшего шефа, отправились в госпитальную палату. Иван Иванович сразу приступил к вливанию сыворотки оперированному летчику, затем опять подсел к Бережкову. Тот лежал расслабленный, тихий, но спокойный. Взгляд его при виде хирурга оживился подобием улыбки.
– Буду я жить, доктор?
– Обязательно. – Иван Иванович потрепал его легонько по плечу. – Такому богатырю умирать нельзя!
45
– Досталось мне сегодня. Натерпелся я страху, сидючи под огнем в этой воронке! А когда побежал и командира своего раненого потащил, как волк зарезанного баранчика, то будто по раскаленной плите босиком проскочил. Ей-богу, так и жгло пятки, а по хребту мороз продирал. Что поделаешь: круглые сутки бои – то фашисты нас шатают, то мы их трясем, – рассказывал Хижняк, разрезая спелые, сочные помидоры.
Он положил сверху на красные ломтики тонкие, просвечивающие кружочки лука, посыпал их солью и перцем и уже торопливо, раздраженный видом и запахом еды, отмахнул несколько кусков хлеба.
– Не жалеешь, что согласился уйти от нас на полевую службу? – спросил Иван Иванович, который вне госпиталя необычно приуныл.
– Что жалеть?! Можно ли было не согласиться? Начальник санчасти дивизии меня знает, потому и затребовал. А я безотказный. – Хижняк достал бутылку водки и ударом ладони под донышко вышиб пробку.
В смежной кухоньке похрапывала старуха хозяйка. Под потолком в темноте (окна были завешены всяким тряпьем) сонно жужжали мухи. Заглушая эти звуки, словно глыбы камня в гладкую заводь, обрушивались тяжкие удары фронтовых взрывов, и все гудело устрашающе, не переставая, в той стороне, где находился Сталинград.
– Накрыли – носа не высунуть, – продолжал Хижняк, заканчивая сервировку, но все еще находясь под впечатлением пережитого. Он выпил, крякнул, закусил и с минуту, молча жуя, смотрел перед собой сосредоточенным взглядом. – Страшно сидеть сложа руки под огнем, – кругом железо рвется, и каждый осколок – смерть тебе. Ведь совсем другое, когда бежишь в атаку. Тогда одно стремление – вперед и вперед. Ничего не боишься, несет тебя неведомая сила, и все преграды на пути сметаешь. А сегодня, только дойдя до крайности, рискнул на бросок. Раненый такой, что ему покой да покой нужен, а я лишь об одном помнил: не выпустить бы его из рук.
– Сильная натура! – Иван Иванович вспомнил подробности операции, которую сделал этому раненому, и несколько оживился. – Значит, сгоряча он еще дрался и сознание потерял не сразу? Ну-ка, расскажите мне еще о нем… Каков он оказался, когда вы его подняли?
Усталый Хижняк отмахнулся было, но, зная, что вопрос этот не праздный, стал рассказывать.
– А чего же вы не кушаете? – обеспокоенно спросил он, прерывая себя на полуслове.
– Не хочется.
– Это от переутомления. Выпейте граммов сто, и все как рукой снимет.
– Душа ноет, Денис Антонович!
– Для души-то и выпейте!
Иван Иванович покачал головой, но стакан от Хижняка принял.
– Столкнулся я сегодня один на один со смертью, и так мне жизнь мила показалась! Все вспомнил: и детство на Кубани, и как мы с Леной в Мартайге по грузди хаживали, и Чажму, конечно, и ребят… Быстро, быстро всю жизнь перелистал, – говорил фельдшер, придвигаясь поближе к самовару. – Чувствую, неохота умирать. Никак неохота!.. Теперь наше дело такое: остался жив в бою, ну и радуйся, ешь, пей, усни, если возможно. А горевать и плакать после будем. У меня сегодня двух санитаров убило… Слов нет – до чего хороши были ребята! Оба комсомольцы. Обоих Петрушами звали. Приходится скрепить сердце… А жаль: молодые. Еще не испытали ничего. Кто жены не приласкал и ребенка на руках не держивал, словно и не жил на свете. – Хижняк взглянул на Ивана Ивановича, в запавшие его глаза и замялся, смущенный не тем, что мог задеть Аржанова за живое, а грустной унылостью хирурга, совершенно не свойственной его кипучему характеру. – Жалко, я Варю не встретил, – продолжал фельдшер, намеренно меняя тему разговора. – Она теперь горюет, наверно, что мы ее не взяли в госпиталь.
Лицо Ивана Ивановича совсем помрачнело. Нехитрая дипломатия товарища была понятна ему и вызвала рой новых мыслей, отвлекших его от непоследовательности фельдшера. В самом деле! Если убили сразу двух славных Петруш, если сам Хижняк остался жив только благодаря своей силе, отваге да слепой случайности, когда и пули-дуры, и осколки снарядов минуют бойца стороной, то как можно сожалеть о том, что сюда не приехала Варя? Ведь и здесь каждую минуту можно ждать сильнейшего удара.
– Не успел я поговорить с нею, – сказал Иван Иванович. – На переправе сейчас тяжко!
– В том-то и дело! – Хижняк был очень огорчен спокойным тоном доктора и неожиданно спросил: – А почему Лариса Петровна в город отправилась?
– У нее там семья застряла.
– Красивая женщина… – испытующе глядя на Аржанова, сказал Хижняк. – Очень даже симпатичная и смелая, как ребенок, который беды не видел.
Иван Иванович сразу прояснел, заулыбался тепло.
– Верно, есть в ней что-то детское. Присядет на стул, пока укладывают раненого, да так и задремлет с поднятыми руками, покачнется, глянет будто сердито, а глаза такие добрые… И хирург она отличный.
Хижняк не сразу заметил, как из отвернутого им самоварного крана, переливаясь через край кружки, потек по столу кипяток: не столько слова, сколько выражение лица Аржанова опять поразило его.
«Эх, Варюша! – сокрушенно подумал он, машинально закрыв кран и сгоняя воду со стола ребром ладони. – Не везет тебе! Ежели Иван Иванович влюбился в самостоятельную семейную женщину, то это получится неискоренимый холостяк».
Утром в хатенку явился Злобин и, взглянув на Хижняка, который спал ничком, носом в кулак, на Ивана Ивановича, по-богатырски раскинувшегося и по-богатырски храпевшего, остановился на пороге. Однако вид спящих вызвал у него неодолимую зевоту. Он снял шинель и, постлав ее на чистом земляном полу, улегся рядом с Аржановым.
– Это вы, Леонид Алексеевич? – спросил чуткий Хижняк.
– Да мою саманушку смело взрывом. Посчастливилось мне: остался в ночь еще на одну смену. Всего-то парочку бомб сбросили, а прихожу – прах и пепел.
– Как приток раненых? – спросил Иван Иванович, тоже просыпаясь.
– Усиливается. Теперь и здесь, на юго-западе, нажали.
– Ложитесь на мой тюфяк, отдыхайте, а я пойду в операционную.
Иван Иванович натянул сапоги и пошел умываться. Чугунный рукомойник с носиком, как у чайника, висел на проволоке возле крылечка – нехитрое древнее изобретение. А под косыми лучами утреннего солнца шли и шли в синеве южного неба воздушные пираты двадцатого века. Может быть, у фашиста-завоевателя вид этого рукомойника вызвал бы презрительную усмешку. Но доктор Аржанов, мысли которого были заняты прорывом на Дону, Ларисой Фирсовой и ее семьей, не успевшей эвакуироваться из Сталинграда, так же привычно, как хозяева избы, поплескал себе в лицо теплой мутноватой водой и намочил голову. Рукомойник был не хуже и не лучше шаткого крылечка и камышового плетня, обмазанного глиной. Но из этого самого дворика старуха хозяйка каждый вечер уносила на кухню госпиталя добровольные дары: то десяток яиц, то крынку молока. Ее дети были тоже в армии, и частицу своей материнской любви она переносила на раненых красноармейцев, за которыми ухаживала, как добрая нянька.
Расчесывая непослушный ежик волос, Иван Иванович снова вошел в избу, Злобин уже спал мертвым сном человека, израсходовавшего все душевные и физические силы, а Хижняк лежал, но вид у него был совсем не сонный.
– Пора мне в свою часть. Но ежели что… Ежели в городе придется обороняться, то попрошусь к вам обратно в госпиталь.
В следующий момент фельдшер оказался на ногах, быстренько умылся, подпоясался, и, когда санитар принес котелки с супом и кашей, был уже в полной боевой готовности.
– Спозаранку горячая пища, значит, подкрепляйся и «потише» не жди. Точно! – добавил он, посмотрев на хлеб, сахар и консервы, выложенные на стол. – Сухой паек тоже примета: перед боем. Это на передовой такая примета, а у вас она эвакуацией пахнет.
46
Через несколько минут хирург и фельдшер быстро шли по пыльной улице. В поселке ощущалась тревога: женщины в зимних пальто и накинутых на плечи пуховых шалях тащили по ранней жаре малых детей и узлы с вещами, бежали ребятишки постарше, суетились и лаяли собаки, тоже беспокоясь о своей дальнейшей судьбе.
– Вот как оно поднялось! – говорил Хижняк, поглядывая на хатенки поселка. – Правильно, пусть уходят, нам тут свободнее будет… – Фельдшер вдруг расцвел улыбкой. – Иван Иванович, гляньте-ка! Кто это?
Иван Иванович огляделся, и на лице его тоже выразилось радостное изумление: по улице шел Логунов, смуглый до черноты, в продранной, выгоревшей от солнца гимнастерке, с грязной повязкой на лбу, неузнаваемый и, однако, с первого взгляда признанный Платон с Каменушки… И он узнал земляков, прихрамывая, поспешил навстречу.
– Явился! Ох, как я рад! – Хижняк крепко обнял его. – Из окружения? Вот молодчина! Вчера во фронтовой газете прочитали, как вы танки били… И по боевым листкам это прошло. К правительственной награде представили… Как же! А вы и не знаете ничего?
– Здравствуйте! – перебил шумные излияния Хижняка Иван Иванович.
Рукопожатие, которым они обменялись с Логуновым, было по-солдатски крепким.
– Значит, фашисты прорвались на Дону?
– У Вертячего и Калача. – Логунов помолчал, потом сказал с глубокой печалью: – Погиб в Вертячем Никита Бурцев. Не смог он бросить раненых и остался, хотя я звал его с собой. А потом немцы заняли хутор и сожгли госпиталь. На другой день это стало известно всему району: сообщали в наших боевых листках и по радио. Никиту по фамилии не называли, но говорилось о погибших враче-хирурге и фельдшере. Другого, кроме Никиты, там не было.
– Сожгли госпиталь? – Густые с вихорками у переносья брови Ивана Ивановича вскинулись в мучительном недоуменье – уже осведомленный о зверствах врагов, он все еще не мог освоиться с мыслью, что они способны уничтожать раненых. – Ты слышишь, Денис Антонович, что они сделали с госпиталем и Никитой?
– А что им, оголтелым негодяям?! Ползут по нашей земле как зараза! – Хижняк еще ругнулся бы, но от возмущения и жалости у него так перехватило в горле, что глаза затопило слезами.
Он очень любил Никиту и был совершенно потрясен известием о бесчеловечной расправе с ним и ранеными, попавшими в лапы гитлеровцев.
Расстроенный Иван Иванович стоял, расставив ноги, угнув голову, точно бодаться собрался, но взгляд его был не свиреп, а кротко-печален: ему представилось возвращение с Никитой из тайги на Каменушку. Вольно текущая холодная Чажма с говорливыми струями на широких светлых перекатах. Дым костра на лесистом берегу и Никита Бурцев, добрый, отважный юноша с его мечтами о будущем, с его чуткой заботой о своем хирурге, таком незадачливом в личной жизни.
– Ах, черт возьми! Бедный Никита. Да-да-да… Такой молодой и хороший! – Иван Иванович посмотрел на Логунова и угрюмо-отрешенное выражение его сменилось живым участием. – Вы тоже ранены?
– Немножко. На лице пустяки. А вот ногу прострелили, как собака за икру рванула. Сначала надо срочно посмотреть моего товарища. – Логунов помог подняться бойцу, присевшему на куче земли, выброшенной из щели. – Это Ваня Коробов, тоже сибиряк. Мы с ним порядком покружили в степи, пока сюда добрались.








