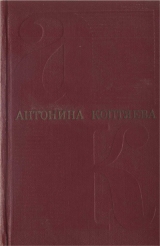
Текст книги "Собрание сочинений. Том 3. Дружба"
Автор книги: Антонина Коптяева
сообщить о нарушении
Текущая страница: 30 (всего у книги 35 страниц)
«Хорошо, что я очутился на своей прежней позиции, – подумал он. – Очень удачно получилось! Значит, раненые за моей точкой, в блиндаже под печью… Наташа сказала – человек сто… Значит, и под второй печью, там, где был КП… Главный удар пришелся левее, а я тут… Держись, старина!»
Вдруг будто клыкастый зверь рванул его под колено.
– Ничего, Денис Антонович! – сказал Хижняк, преодолевая боль. – Не падай духом. Конечно, перевязать надо бы… Хотя бы жгут наложить…
И снова мысли о себе затухали, а оставались только мгновенно возникавшие и исчезавшие серо-зеленые мишени, да живая дрожь пулемета, да взрывы гранат, осыпавших пулеметчика градом щебня. К нему подбирались, за ним охотились и… его боялись.
До тех пор, пока он держится за рукоятки затыльника и нажимает на спусковой рычаг, до тех пор, пока пулемет бьет непрерывной струей и есть в ленте патроны, он сила. И Хижняк старался побороть слабость, не позволяя сумеркам овладеть его сознанием. Надо вести огонь. Еще осколок клюнул его в плечо, другой прожег левую руку, горячая волна ударила сразу в голову, и на какую-то секунду Хижняк потерял сознание. Но и в этот миг он не оторвался от пулемета.
Что-то мягко прикоснулось к его ноге. Он вздрогнул и покосился назад… Раненый красноармеец, белея повязкой, подползал, волоча сумку с гранатами.
– Наташа! – крикнул он хриплым голосом.
Последняя лента подходила к концу. Фашисты опять подобрались близко.
– Давай! – приказал Хижняк раненому…
Тот левой рукой (кисть правой была замотана марлей) подал гранату. Хижняк взял ее, зажимая в ладони, приготовился к броску. Раненый выдернул предохранительное кольцо, Денис приподнялся, бросил, и оба прижались к земле. Без уговора сработались сразу. Кидали и в них… потом осколок ударил раненого в бедро, разодрав шинель, второй, крохотный, попал ему в висок.
– Давай! – поторопил Хижняк, пошарив протянутой ладонью, и взглянул на помощника.
Тот лежал, удобно уложив голову на забинтованную руку… Полузакрытые глаза неподвижно уставились в пространство. Кто он? Откуда? Ясно одно: был он другом не на жизнь, а на смерть.
– Эх! – только и промолвил Хижняк, потянув к себе сумку, присланную Наташей.
Теперь он вырывал предохранительные кольца зубами и с деловитым расчетом, морщась и напрягаясь от боли, бросал гранаты туда, где скапливались враги.
«Конечно, Наташа не успела вынести к берегу всех раненых. Ну, где там! Белый день, место открытое, обстрел, а их сотня. Если сообщили в штаб батальона, Логунов пришлет подкрепление. Должен прислать. Три гранаты осталось… Две… Каким огнем гонят сюда фашистов? Одна граната осталась… Где же замешкалось подкрепление? И неужели выбили наших из остальных пролетов?! Да, ведь мы наступать должны!»
И вдруг все исчезло.
Сияющий весенний день. Цветут сады. Словно белые облака плывут над землей – яблони распушились. Полные пригоршни розоватых вблизи лепестков держит каждая ветка. Глубина неба – сплошная прозрачная синь. Птицы щебечут. Воздух теплый, чистый, напоенный дыханием садов и влажной земли, согретой солнцем. Солнечные лучи льются прозрачными, золотыми потоками сквозь кроны деревьев, еще не одетых листьями, просвечивают нежную кипень цветения, падая на землю светлыми пятачками. В междурядьях чернеют расчесанные граблями гряды; вот-вот брызнет из них юная зелень всходов. Ах, сады! Где ж они, эти сады? Неужели в Сибири?.. И звенит, звенит не то птичий гомон, не то детский смех… Женщина идет меж цветущих яблонь с ребенком на руках. «Здравствуй, жена!»
Но звон становится нестерпимым, и Хижняк открывает тускнеющие глаза. Все насыщено грохотом боя. Дым, горькая гарь, кровь на железе, на битом камне… Кругом убитые. Исчезли сады. Не яблоко, а черная граната зажата в руке…
Фашисты уже в цехе… Если лежать неподвижно, они, может быть, прошмыгнут мимо, но как лежать неподвижно, если граната в руке? Хижняк крепче прижимается щекой к колючей щебенке и, как яблоко, тащит гранату в рот, с трудом размыкает сцепленные зубы, сжимает ими холодное кольцо, дергает его… Секунда, другая… И вдруг поднимается, залитый кровью, жарко светя синими глазами, и швыряет гранату в ощетинившихся врагов.
31
– Всего искололи ножами! А на нем и так места живого нет, – говорила Наташа, с трудом подавляя рыдания. – Платон Артемович, посмотрите: он весь изранен. Они его мертвого резали!..
Логунов, страшно осунувшийся в течение дня, молчал. Еще ни одна утрата не была так тяжела для него, как эта.
– Эх, Денис Антонович, немножко ты нас не дождался! – горестно сказал Ваня Коробов.
«Крепкий контрудар нанесли нам фашисты, – думал Логунов. – Почти никто из наших не продвинулся сегодня, а кто вырывался, сразу терял связь… Вот Коробов, вот и Денис Антонович. Но какое большое дело он совершил!»
– Нет ли у него письма неотправленного? – тихо спросила Наташа, развертывая кусок марли. Она собиралась закрыть лицо Хижняка, чтобы спокойнее лежалось ему в яме под берегом в ожидании похорон.
Логунов все так же молча опустился на колени, начал осматривать карманы товарища; вынул пачку писем, карточки жены и детей, партийный билет, машинально развернул листок бумаги, исписанный энергичным почерком.
«Мы пишем вам в разгар великого сражения под гром несмолкаемой канонады… на крутом берегу русской реки Волги… Мы клянемся вам, что до последней капли крови, до последнего дыхания, до последнего удара сердца будем отстаивать Сталинград».
Логунов с трудом перевел дыхание, наклонившись, поцеловал Хижняка в холодные, твердо сжатые губы:
– Ты сдержал свою клятву, Денис Антонович!
Наташа громко, совсем по-детски заплакала, вытирая слезы марлей, которую держала в руках:
– Мне жалко… я не успела… я не успела с ним поговорить… Я обидела его… Мне было тяжело, и я обидела его…
– Не плачь! – попросил Платон, вставая. – Не надо плакать. Ты зря думаешь, что он обиделся на тебя. Если тебе было тяжело, он, наверно, это почувствовал.
– Правда! – сказал Коробов, тоже расстроенный неудачей наступления и подавленный утратами. – Когда я встретил Дениса Антоновича, он сразу спросил: «Ты не знаешь, что с Наташей?»
– Он не сердился на меня?
– Ну что вы! Он беспокоился о вас, как отец.
– Пошли! – сказал Логунов Коробову.
Вдвоем они вынесли Хижняка из укрытия, вырытого под нагревательной печью. Им не хотелось передавать погибшего товарища санитарам. Они сами решили отдать ему последний долг.
Наташа смотрела, как они, пригнувшись, быстро удалялись по траншее, унося тело Хижняка. Она не могла провожать Дениса Антоновича; за ее спиной стонали раненые, которым требовалась помощь.
32
После совещания с офицерами штаба армии Чуйков всю ночь не спал. Угрюмый, взлохмаченный, шагал он взад и вперед по своему подземному кабинету, подходил к письменному столу; опершись на него ладонями, подолгу всматривался в план города, испещренный пометками, в схему расположения войск, потом снова шагал и думал, думал…
Несколько раз адъютант предлагал ему отдохнуть, но командарм только отмахивался.
«Такую оборону выстояли, а наступление не получилось». – Чуйков насупил густые брови, он был тоже расстроен, даже обозлен, но растерянности не чувствовал.
«В чем дело? На флангах, на дальних подступах, в степях наступление пошло успешно, а здесь, в городских развалинах, линия фронта не сдвинулась. Что же надо предпринять, чтобы обеспечить успех?»
Душно в блиндаже, вырытом в береговом обрыве и обшитом тесом. Да еще печь топится… Сильная тяга в этих печах, сделанных из железных бочек. Так и гудят… Надо сказать, чтобы прекратили топку. Пальцы у командарма забинтованы: начинает одолевать нервная экзема. Так бы и рванул эту мешающую повязку. Чуйков берет белыми куколками пальцев карандаш, подтягивает поближе схему… Да, не продвинулись… Некоторые штурмовые группы вырывались вперед, но тотчас стремились выровнять линию фронта… «Отступали, – подсказывает внутренний голос проклятое слово. – Да, отступали. Так и группа Коробова… В обороне Коробов держался как несокрушимая твердыня, а здесь подался назад. Да, да, отступил. Вот тоже нервная экзема! Существует на свете всякая дрянь!» Карандаш ломается, Чуйков отбрасывает его и тянется за другим. Душевное напряжение сказывается в легком ознобе. Командарм встает, не замечая адъютанта и связистов, привычно занятых у телефонов. На стенах карты. Одна дверь – на выход, другая – в смежную комнату. В тамбуре тихо сидят связные. Командарм ходит и думает; забывшись, сжимает забинтованные руки, крепко потирает их… Потом снова вызывает к себе начальника штаба армии генерала Крылова.
– Вы говорили, Николай Иванович: «Сейчас нам наступать да наступать». И я так говорил. Но на деле вышло иное, – без предисловий сказал он вошедшему Крылову.
– Я после совещания глаз не сомкнул, – ответил Крылов. – Все думал… Фронт у нас необычный, и руководить мы должны не по шаблону…
– Вот именно! – быстро отозвался Чуйков. – Сейчас перед нами задача наступать. Но вопрос – как наступать! И мы с тобой обязаны ответить. Иначе грош нам цена. Я тут тоже думал… Если бы предстояло гнать немцев за Дон, то к нам, в Сталинград, массу сил бросили бы! Но главный наступательный удар с флангов сделан. Под ударами Донского и Юго-Западного фронтов армии врага могут хлынуть к Волге. Несколько сот тысяч гитлеровцев, вооруженных, озлобленных… Мы должны, наступая, выбивая из развалин фашистов, засевших здесь, в Сталинграде, превратиться в несокрушимый заслон и против той лавины. Конечно, ее будут рассекать с флангов, но часть окруженных войск все же прорвется сюда, и она может смять нас, как бешеный табун в степи, уходящий от пожара. Все зависит от того, как мы перестроимся. Надо нам немедленно изменить всю тактику нашего наступления!
…Перед рассветом Чуйков собрал командиров частей. Входили они без шума, чувствовали: командарм крепко не в духе, да и все-то были мрачноваты.
– Ну, товарищи, – Чуйков зорко оглянул собравшихся, – рассказывайте: с какими трудностями вы встретились вчера?
Логунов слушал, готовился выступить и заранее волновался. Основные жалобы младших командиров, которые он принес сюда: утрата связи во время прорывов вперед. Сам он хотел рассказать о невероятной сложности руководства мелкими группами в условиях наступления.
Логунов вздохнул облегченно, услышав, что и другие говорили о том же. Не боясь высказать правду, он опасался, как бы не прозвучали его слова легковесно: а может быть, он просто не сумел руководить.
Очередь до него дошла быстро. Он встал, вспомнил о Хижняке и высказал все, что накипело у него на сердце, вплоть до слов Коробова насчет игры в шашки…
– Коробов не отступил бы зря.
– Почему же вы не поддержали его? Не помогли развить успех наступления на этом участке? – спросил Чуйков.
– Потому что Коробов сразу оторвался от нас. А на его позицию хлынули фашисты, и надо было думать о том, чтобы не пустить их туда. Хорошо, что он пробился обратно. Иначе мы потеряли бы эту штурмовую группу, да нас еще потеснили бы, забрав в плен до сотни раненых, и не забрали бы, а просто уничтожили, и все.
О подвиге и смерти Хижняка Логунов промолчал: слишком болела у него эта свежая душевная рана.
Командарм слушал выступавших и хмурился, то и дело брал карандаш забинтованными пальцами, неловко, но крепко держа его, записывал что-то.
В конце совещания он сказал:
– Мы тут с начальником штаба уже многое обсудили. Сообщения командиров только подтверждают наши выводы. В обороне тактика борьбы штурмовыми группами целиком оправдала себя. Но только лишь в обороне. Теперь в нашей боевой жизни начинается новый этап, не менее сложный: нам самим придется ломать оборону врага. Значит, нужно пересмотреть тактику боя и организовать на решающих направлениях воинскую единицу, которая оправдала бы себя в уличных боях при наступлении. Такой единицей могут стать лишь крупные штурмовые отряды, усиленные легкой артиллерией. Как вы, товарищ Логунов, насчет назначения вас командиром штурмового отряда?
Платон вскочил, бросив руки по швам.
– Постараюсь оправдать доверие, товарищ командарм!
33
– Штурмовому отряду легче будет действовать при наступлении, но все равно придется нам крепко поднажать, чтобы пошатнуть врага. – Логунов взял схему, где была начерчена боевая позиция, и начал прикидывать, куда и как двинуться дальше, советуясь с офицером из штаба полка. Младшие командиры объединенных групп сидели тут же вокруг стола: разрабатывался план боя и задачи отдельных подразделений вновь созданного отряда.
– Как бы опять не застопорить, – жарко шепнул Вострикову стоявший сзади Коробов; большая рука его с голубоватыми жилками, выступавшими под молодой кожей, лежала на плече товарища спокойно, но лицо выражало тревогу и озабоченность.
Все на минуту задумались, атакуя мысленно дзоты противника, танки, зарытые в землю и превращенные в огневые точки, преодолевая минные поля и колючую проволоку.
Логунов вспомнил о Хижняке. Никак не мог он смириться с мыслью, что Денис Антонович убит. То и дело мерещился ему спешащий со своей санитарной сумкой дорогой друг. Вот побежал, пополз и уже тащит кого-то, хлопочет, шутит, успокаивает. Не раз даже голос его чудился Логунову. «Крепко же я любил тебя!» – подумал Платон.
А за Хижняком вставали в его воображении образы других людей, судьба которых будет решаться в бою сегодня. Как при самых малых потерях обеспечить успех наступления?
Атака удалась лишь частично, и, однако, оживленное лицо Чуйкова, с неотрывным вниманием наблюдавшего за нею с командного пункта полка, выражало удовлетворение.
– Каково, Николай Иванович? – сказал он, одобрительно кивнув Крылову. – Мы с тобой стремились всегда вести бой так, чтобы артиллерия сопровождала пехоту огнем и колесами. Видишь, какого четкого взаимодействия с артиллерией требует штурмовой отряд! Мы правильно решили подбросить этой единице побольше пушек для прямой наводки. Но чтобы пушки действительно сопровождали солдат в атаку, мы должны разработать по-настоящему эту тактику.
Крылов, отважный, общительно-веселый человек, участвовал в обороне Одессы, Севастополя, таким прошел и через оборону Сталинграда, в котором был душой всех сражений. Он любил молодежь и «омолодил» штаб армии: первый помощник его в штабе был в чине капитана.
В армии знали: Крылов пошутить любит, но в чем убежден твердо, встанет – не столкнешь.
С ним и командующим артиллерией Шестьдесят второй армии генералом Пожарским и взялся Чуйков за разработку новой тактики штурмовых отрядов.
Генерал Пожарский был непревзойденным снайпером зенитного огня.
– Вот это огневичок! – говорили о нем любовно солдаты, когда он двумя выстрелами из зенитной пушки сбивал фашистского стервятника.
В самые страшные дни обороны, когда гитлеровцы забрасывали сталинградскую землю фугасными и зажигательными бомбами, Чуйков, прислушиваясь к хлопанью зениток, не шутя обращался к Пожарскому:
– Сбей хотя одного!
Пожарский не заставлял себя упрашивать.
И вот они трое собрались опять в блиндаже Чуйкова. Теперь генералы должны были решать уже не задачу обороны, а тактику наступления.
Крылов сразу насел на Пожарского:
– Сейчас одной поддержки мало. Вы нам создайте возможность наступления. А то по площади бьете!
– Не просто по площади, а накрываем и уничтожаем объекты.
– Теоретически. – Голос Крылова зазвучал жестко, но это недоброе волнение относилось не к Пожарскому, которого начальник штаба тоже любил, а к противнику. – Сегодня мы наблюдали с Василием Ивановичем одну атаку. Артобработку вы дали сокрушительную, кажется, все было и накрыто и уничтожено. Но только ребята успели ворваться в переднюю вражескую траншею, как огневые точки врага ожили и открыли такой огонь, что выкатить пушки для прямой наводки оказалось невозможно.
– Так что же, вы хотите, чтобы мы из-за Волги били по каждой пулеметной точке? – спросил сердито Пожарский, на самом деле скорее выпытывая замыслы товарищей, чем сердясь.
– А хотя бы и по каждой. Вон у Батюка есть минометчик снайпер Бездидько. Он через Мамаев курган в шапку попадает.
– Бездидько я знаю, – с уважением к минометчику ответил Пожарский. – Но чтобы дальнобойные батареи привязать к такой цели, как пулеметная точка…
– Придется, Пожарский, подумать и об этом. Надо нам в нашей тактике многое изменить, – сказал Чуйков, внимательно слушавший дружескую перепалку генералов. – Что получается? Дадите вы, к примеру, по восьмидесяти снарядов на ствол каждому расчету, они и рубают «по площади», пока не израсходуют несколько вагонов снарядов. Грохоту много, но враг – он не дурак: взяли его в вилку – уходит в глубокое укрытие, а он здесь укрепился, таких бастионов понастроил! Прилегающие к траншеям блиндажи и дзоты по семи накатов, а из рельсов – в три-четыре наката. Бей по такой крыше из тяжелой артиллерии, блиндаж дрожит, земля сыплется – и только.
Взвилась над нашими окопами ракета – сигнал к атаке. Высыпала пехота, а враг уже начеку – и пошел косить. Не годится такое, – уже властно закончил Чуйков и поднялся, нависая над разложенной картой, поводя над нею забинтованной ладонью, белой под темным обшлагом кителя. – Гляди, генерал, что нам требуется. Попробуем в тактику штурмового отряда ввести движение за огневым валом. Ты даешь обработку на сорок минут: десять минут бей по всей площади, но в основном по первой линии противника; затем переносишь внимание на вторую линию, откатывая весь огневой вал, и за ним безо всякой ракеты-сигнала идет пехота. Противник в глубоком укрытии: артобработка-то гремит. Наши бойцы захватывают огневые точки в окопах. В укрытия – по гранате. Если враг и выскочит, он обезоружен. А ты свое дело продолжаешь и ровно через десять минут переносишь огонь на третью линию окопов. Огневой вал как бы сжимается, сила его нарастает. Атака в это время идет своим чередом. Артиллеристы катят пушки за пехотой. Как оживет где огневая точка, повернулись, ударили прямой наводкой – и дальше. Пройдут и эти десять минут – отводи огневой вал в глубь расположения противника и обрушь всю его силу по резервам, по путям подхода, по наблюдательным пунктам.
– Ишь ты! – Пожарский, невольно увлеченный, смотрит на Чуйкова, на одобрительно кивающего Крылова, но говорит неуверенно: – Десять минут – и без ракеты в атаку, по горячим следам за огневым валом!
– Артиллерии всякий раз сверять секундомеры. – Чуйков отлично понимает сомнение и беспокойство Пожарского. – Тут уж должна быть точность да точность.
* * *
Командарм с группой офицеров стоял на наблюдательном пункте и следил за развитием боя.
Не шумело мощное «ура», не взвивались ракеты, а стоял непрерывный гул и грохот рвущихся снарядов. Даже у самого Чуйкова захватило дыхание, когда ровно через десять минут – он так и держал перед собой полусогнутую руку с часами на крепком запястье – выбросились из окопов бойцы, артиллеристы выкатили пушки, и все устремились прямо на красно-желтые огневые всплески, над которыми метров на полтораста в ширину бил, вздымался и падал, разлетаясь черными брызгами, сплошной земляной фонтан. Казалось, люди бежали прямо в огонь взрывов.
Первая линия окопов занята. Заговоривший было пулемет на фланге сразу накрыт артиллеристами.
– Дай срок, покажет себя такая тактика наступления, – сказал Чуйков Крылову.
34
– Сегодня наша дивизия отбила несколько домов на набережной, – сообщил вошедший в ординаторскую Злобин, от которого так и пахнуло холодом и пороховой гарью.
– Наконец-то! – обрадовалась Варвара, которая просматривала новые газеты и что-то выписывала для себя.
– Ты думала, наши все время будут топтаться на месте? – полушутя спросил Иван Иванович, вместе со всеми радуясь добрым вестям да и тому, что Варя была здесь, живая-здоровая.
– Вы видели, какие мрачные лица были у раненых, которые поступали к нам? А когда объявили приказ о наступлении, даже раненые повеселели, – сказала девушка, уступив место у стола дежурному врачу, и впервые непринужденно села на лавку рядом с Аржановым. – Так мы были огорчены, когда наступление сорвалось, только виду не показывали. А сегодня сразу несколько домов! Заходила я вчера к Коле Оляпкину… Он все спрашивал: «Как наступают?» Не хотелось его расстраивать, и я сказала: «Хорошо». – «А что взяли?» – «Улицу, говорю, взяли». Обрадовался: «Вот здорово!» А сегодня – опять за то же. Я соврала, что один дом отбили. Он был и тому рад: «У нас, говорит, в Сталинграде один дом равняется целому городу. А вчера какую улицу отбили?» Не гляжу на него, а ответить надо. «Улицу Ленина». Про себя думаю: «Уж, наверно, такая здесь была!»
– Конечно, – Иван Иванович ласково улыбнулся.
– Но вы знаете, что вышло? – Варя по давней своей привычке прикоснулась к руке доктора. – Вы знаете, как разволновался Оляпкин? Он сказал мне: «Значит, центр взяли?» – «Нет!» – говорю. – «Как же могли взять улицу Ленина?» Я стою, молчу, словно дурочка. «Значит, и дом сегодня тоже не взяли? Почему плохо наступают?» – «Вовсе, говорю, не плохо. Вы с Коробовым свою развалину сколько дней не отдавали немцам, а наши как пошли, сразу у них отняли». Он опять: «А улицу?» – «Ну, не сразу же, говорю. Хорошо, что крайние дома отбили». А себе зарубила на носу: ври, да знай меру!
– Ты собираешься еще врать? – Иван Иванович взял руку Варвары, расправил, распрямил ее на своей ладони. – Маленькая какая у тебя ручонка! Кого же ты собираешься еще обманывать?
Девушке вспомнился полузабытый разговор не то с Тавровым, не то с Логуновым насчет лжи. Кажется, Варя решительно восстала тогда против нее. Но сейчас все закружилось в голове, и Варвара даже не смогла ответить на вопрос любимого человека.
Вот она, радость! Оказывается, она здесь, рядом… Только не уходи, не выпускай мою руку из своих сильных ладоней! Прислониться бы к нему… Но ведь ты уже однажды прислонялась к нему. Он и на этот раз может погладить тебя, как ребенка, может даже поцеловать, а вздохнет о другой! Варвара сама тихонько отняла руку и машинально начала свертывать в трубочку полученную от замполита газету.
35
– Чего бы тебе хотелось сейчас, Варенька? – спросил доктор.
– Сейчас?..
Варя вздохнула, маленькие твердые груди ее резко обозначились на миг под грубым сукном гимнастерки. Она задумчиво склонила голову. Ведь жизнь-то идет своим чередом, уже двадцать четыре года исполнилось северянке, а еще ничего не сделано ею. Всего на тринадцать лет старше ее Иван Иванович, но как много он уже потрудился, сколько пережил, видел, узнал. Сумеет ли Варя достигнуть такого же духовного уровня в его годы? Очень много было у нее желаний, но осуществлению любого из них мешала война.
– Я бы хотела, чтобы поскорее разбили фашистов; выбросить их отсюда и гнать, гнать без остановки.
– Но это наше общее желание, а есть же у тебя личное, – настойчиво допытывался Аржанов, сам еще не сознавая того, что пропала в нем боязнь услышать снова от девушки слова любви.
– Это и есть самое мое личное, – прямо взглянув в его лицо, сказала Варенька. – Пока оно не исполнится, ничего нельзя.
В блиндаже тепло, даже жарко. На столе светло горит большая гильза-коптилка. Возле нее Софья и Злобин обсуждают историю болезни раненого. Софья настроена наступательно: спорит, повышает голос, сердится. Злобин по обыкновению ведет разговор ровно, но чувствуется, что он не уверен и сдает. Видимо, Софья Вениаминовна решила всерьез просветить его по части невропатологии.
В последние дни бомбежки прекратились, и блиндаж ординаторской сразу стал чем-то вроде красного уголка госпиталя. Да еще обещали сюда радио поставить.
– А мне знаешь чего хочется? Попасть бы на симфонический концерт. Послушать бы! – доверительным тоном говорит Иван Иванович, глядя на огонек коптилки. – Я очень многое упустил в жизни: все некогда было. А у меня абсолютный слух, я даже на рояле немножко играю… Пел иногда. Но, совестно признаться, целыми годами не бывал в театре. До сих пор больно вспомнить… – Иван Иванович взглянул на Варвару. Любящий друг, понимающий все с полуслова, сидел с ним рядом. – Однажды мы с Ольгой Павловной собрались на балет «Жизель» с Улановой. Ведь это иногда просто необходимо… Оторвешься от музыки, от театров, от картинных галерей, каждый день как на костре горишь и вдруг начинаешь ощущать беспокойство, будто тебе чего-то не хватает, будто ты недомогаешь. Получается вроде кислородного голодания. Но только тогда, когда наконец вырвешься, почувствуешь, насколько ты изголодался… Смотришь, слушаешь, блаженствуешь, а где-то в глубине души возникает, растет мысль: «Нет, довольно! Надо жить по-человечески: на курорты ездить, в театр ходить…» Подумаешь: ни разу в жизни на бегах не был, на разных там спортивных состязаниях, понятия не имеешь, что такое кукольный театр, стереокино. Ты знаешь, что это такое?
– Нет, – тихо ответила Варя.
– И я не знаю. Да, что я тебе хотел рассказать?..
Собрались мы с Ольгой Павловной на «Жизель». Уланова… Юная чудесная балерина – живой луч солнца на сцене. Целый день у меня, как обычно, операции. Обсуждения больных совместно с знаменитым профессором. Ну, ты знаешь, как это бывает. Но помню: вечером «Жизель». И вдруг больному плохо. Полчаса… Час… Легче стало, Ольга звонит, по голосу слышу – устала ждать, очень нервничает. «Бегу, говорю, одевайся и выходи на улицу». Еду. Возле дома стоит товарищ: в Институте усовершенствования врачей лекция Бурденко… Это был еще очень спорный вопрос – по рентгеновскому исследованию черепных опухолей, для меня тоже страшно интересный. Иду наверх, думаю уже не о балете, не об Улановой, а только о предстоящей лекции. Оказывается, я день перепутал… Навстречу Ольга Павловна, напудренная, конечно, надушенная. Я остановился и говорю: «Оля!..» Она только взглянула, сразу потускнела:
«Что, опять не пойдем?» – «Поезжай, говорю, одна, сделай милость, а мне на лекцию надо». Села Ольга Павловна прямо на ступеньки лестницы и заплакала.
– Ну, и что же? – Голос Вари совсем упал: так тяжело ей стало оттого, что Иван Иванович даже в эти минуты снова вспомнил о другой женщине.
– Помчался я, конечно, на лекцию, а Ольга Павловна расстроилась, весь вечер просидела дома.
– И долго… сердилась она? – Варвара искоса посмотрела на него.
– Нет, тогда она не умела подолгу сердиться. – Доктор легко вздохнул. – Но ты понимаешь, суматошная жизнь – то же, что неправильно поставленное дыхание.
Иван Иванович замолчал, вдруг подумав про себя: «К чему это я Вареньке про свою бывшую жену?» И тут же ответил про себя: «Еще совсем недавно я не мог так просто заговорить об Ольге».
Словно проникнув в его мысли, Варвара светло улыбнулась:
«Если бы он любил Ольгу Павловну по-прежнему, он не стал бы мне рассказывать о ней. Значит, эти воспоминания связаны только с тем, что многое упущено в жизни. Бега, кукольный театр… Ах, дорогой Иван Иванович, как же ты обошелся без кукольного театра?! А я еще завидую тому, что ты все видел, все знаешь! – Искорки смеха мелькнули опять в глазах Варвары и погасли. – Нужны ведь и бега, и кукольный театр, и хотя бы раз в жизни побывать в цирке. Люди создали столько интересного, и надо все знать, недаром существует на свете хороший зверь – любопытство».
– Я об этом тоже часто думала, но ведь мы не могли иначе, – сказала она, и Иван Иванович почувствовал, что девушка поняла все и не обиделась, и оттого что так легко было снято с его души мгновенное, но острое сожаление, еще милее стала она ему. – А правда, хорошо бы побывать в театре! Только я хотела бы посмотреть драматическую постановку.
И Варваре, словно наяву, представилось, как она вместе с ним идет в театр в таком же черном платье, какое она видела у Ольги. Нет, она не надела бы ничего, что могло бы напоминать дорогому человеку о его драме. Она нарядилась бы в темно-вишневое – ей, с ее светлой кожей и ярко-черными глазами, очень пошло бы такое – и золотую цепочку на шею.
Девушка взглянула на свою юбчонку, еле прикрывавшую колени, на грубые сапоги, голенища которых были широковаты для ее ног.
«Вот глупая-то! – подумала она с затаенным внутренним смехом. – Нашла время думать о нарядах!»
Она вспомнила свои скромные платья, свои книги. Все это осталось на попечении жены Хижняка. И шубка и ботики… А посуду – большой голубой таз, внутри белый как снег, и такой же кувшин – Варвара подарила перед отъездом Елене Денисовне. Будь у нее золотая цепочка, она тоже подарила бы ее старшей подруге. А платья Вари ей малы. Но когда девушка заикнулась о том, чтобы одно из них переделать для Наташи, Елена Денисовна рассердилась.
– Не на смерть же ты собираешься! – сказала она, обняла Варвару добрыми, работящими руками и заплакала вместе с нею.
36
Варя обернулась на стук двери. За это время, пробежавшее как одна минута, ушли из блиндажа Софья Шефер и Злобин, появились врач-терапевт и Решетов. Никому не показалось странным, что сидят рядом на скамье и беседуют главный хирург госпиталя и молодая хирургическая сестра: все знают, что Аржанов и Варя Громова – земляки.
Но вот в блиндаж зашла Лариса, повела неулыбчивым взглядом, и сразу неспокойно стало на душе Варвары.
Да, ступила через порог строго красивая, даже суровая на вид женщина в шинели, в пилотке на коротко подстриженных пышных волосах, и точно холодный ветерок потянул в жарко натопленном блиндаже. Варвара быстро взглянула на доктора. Лицо его стало напряженно-серьезным. Он, в свою очередь, заметил настороженность Вареньки. Может быть, следовало девушке проявить побольше спокойствия и выдержки и весело продолжать разговор. Но она не умела притворяться и очень боялась помешать кому-нибудь. Дорогому человеку особенно. Ну отчего он так сразу переменился?
Совсем ненатуральным голосом она сказала:
– Мне пора! Надо еще зайти в гипсовую.
Конечно, мог бы Иван Иванович встать и пойти вместе с нею: ему пора отдыхать. Но он продолжал сидеть. И, еще раз поднявшись над болью оскорбленного самолюбия – ведь не ради нее, Вари, или той же Ларисы зашел сюда доктор Аржанов, наверно, у него разговор будет с замполитом или с начальником госпиталя, – еще раз поборов злое шевеление ревности, Варвара сказала ласково:
– Спокойного вам отдыха, а я побежала.
Лариса все заметила: и то, как дружно сидели они, и то, как сразу после ее прихода ушла Варвара.
«Значит, сердечные дела у Вареньки налаживаются. Ну, что же, хорошо! – подумала Лариса почти равнодушно. – Но как он быстро… перестроился!»
Подойдя к Решетову и заговорив с ним, она все-таки продолжала думать об Аржанове и Вареньке и, не глядя в тот угол блиндажа, чувствовала присутствие сидевшего на скамье человека. Так, наверно, и продолжает сидеть: ссутулив широкие плечи, слегка опустив темноволосую голову. Бегло посмотрели на Ларису его карие глаза. Совсем еще молодой, сильный, умница. Если все сложится благополучно, будет счастлива с ним Варенька.








