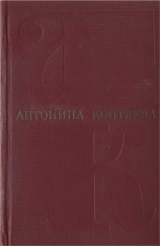
Текст книги "Собрание сочинений. Том 2. Иван Иванович"
Автор книги: Антонина Коптяева
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 27 страниц)
Тавров отошел, будто ослепнув, споткнулся о камень, чуть не упал, однако выправился и, вцепившись рукой в ремень ружья, висевшего за его плечом, быстро зашагал в сторону.
«Нетрудно оторвать ветку даже от дуба, но невозможно оторвать ее от этого человека!» – подумал он, когда, не выдержав, обернулся и уже издали увидел, как Ольга стояла над кручей рядом с Аржановым.
39
– Тебе не скучно? – Ольга взяла мужа под руку, прижалась плечом к его плечу.
– Напротив, я очень рад, что мы выбрались сегодня в горы, – весело ответил Иван Иванович, радуясь и хорошему настроению Ольги, и ее сдержанной ласке. – Если бы мне удалось еще дело со стлаником!
– Ты поверил Варваре?
– Да, она навела меня на мысль. Народ своим опытом подводит нас ко многим открытиям. Когда найдут средство лечения туберкулеза и рака, мы, наверное, ахнем: так оно будет доступно и до смешного незамысловато. Ты хотела мне что-то сказать? – спохватился он, уловив рассеянность в ее выражении.
– Я хотела… – Ольга беспомощно осмотрелась. Она просто вцепилась в него сейчас, как встревоженный ребенок.
Они стояли на краю обрыва, где грудились выветренные останцы желто-бурых скал. Внизу на крутом каменистом склоне росли кое-где кусты стланика, похожие на темные шалаши, еще ниже ярко зеленела сплошная чаща ольховника.
– Смотри, какие странные скалы! Правда, интересно получается…
– Что получается, Оля?
– Камни… Целые горы превращаются в прах… А впрочем, дело не в этом… Мне просто захотелось побыть вместе, и я нарочно отозвала тебя.
– Это и мое желание, – счастливо улыбаясь, сказал Иван Иванович. – В последнее время ты отдалилась от меня.
– Куда же он ушел? – сердито спрашивала Пава Романовна. – Совсем невежливо с его стороны нарушать компанию. Некрасиво заставлять нас ожидать и тревожиться. Ведь мы пошли, чтобы развлечься! В обществе нельзя думать только о себе. Это распущенность!
– Вы столько приписали доброму человеку! – не вытерпев, перебил ее Иван Иванович. – Пусть погуляет.
«Ему стало стыдно, и он сбежал», – догадалась Ольга, серьезно обеспокоенная нарушением дорогих для нее отношений с Тавровым.
Она была достаточно чуткой, чтобы давно разгадать его чувство к ней, но так увлеклась подсказанной им работой, так ценила его дружеское внимание, что прежде всего хотела верить – и верила – в совершенно беспристрастную заинтересованность своего критика.
«Зачем вмешивается „это“? Может быть, он просто льстил мне и сам хотел показаться в лучшем виде», – искренне огорченная, почти со страхом думала Ольга.
– Вы слышите… выстрел! – крикнула Варвара. – Два сразу!
– Да, похоже, в той стороне, – согласился Иван Иванович. – Значит, охотится. Он догонит нас, если мы укажем ему маршрут.
– Девушка моего наречия осталась одна. Разрешите мне взять роль покровителя? – сказал Игорь, обращаясь к Варваре.
– Нет, я не разрешаю! – вмешалась Пава Романовна. – Кто же тогда будет ухаживать за мной? Варвара – дитя тайги и прекрасно обойдется без вашего покровительства.
Игорь только улыбнулся. Ему нравились и Пава Романовна, и Ольга, и другие хорошенькие женщины, с которыми он был знаком, но ни одна не привлекала особенно. К тридцати годам это начало тяготить его. Ему хотелось настоящей любви, хотелось переживать и страдать…
– Страдание вдохновило бы меня на высокое творчество в поэзии, – говорил он. – Оскар Уайльд сказал: когда разбивается сердце поэта, оно разбивается в музыку.
Но сердце Игоря упорно не разбивалось в музыку. Часто целую ночь он сидел над блокнотом, потом рвал написанное и с отчаянным стоном валился на кровать.
– У вас синяки под глазами! – заметила Пава Романовна. – Опять стихи писали до утра? Зачем вы себя мучаете?
– Я хочу жить красиво.
– Вам надо жениться! У вас тогда все будет заполнено.
– Да, да! Друг жизни, дети, пеленочки, пелериночки… Если нет всемогущей любви, то это не по мне: поэт должен быть свободен от серых будней.
– Но вы не поэт, а механик…
– Можно ли так рассуждать? И в механике есть поэзия, когда мысль взлетает и рождается новое. А просто работа – скука страшная!
Пава Романовна на минуточку задумалась.
– Я нигде не работаю, а мне не скучно…
– Вы – другое дело!
– Другое? – Ее жгучие глазки широко открылись, но она не обиделась, а только встряхнула кудрями. – Ну, хорошо, пусть я другое… Иван Иванович, скажите, вам скучно бывает?
– Мне? Нет, я, пожалуй, никогда не испытывал скуки. Столько интересного!
– Но что же, собственно, интересного? Люди вас окружают больные, охающие, умирающие…
– Положим, умирающих немного. А больных и охающих я стараюсь превратить в здоровых. Десятки тысяч людей, избавленных от разной напасти, – таков будет мой итог к старости. Целая армия возвращенных в строй! Разве этого мало для оправдания одной жизни?
– Значит, вы довольны собой?
– Если бы я был вполне доволен, то все пошло бы по замкнутому кругу. Тогда могла бы появиться скука. Но человек, занятый любимым трудом, имеет возможность двигаться вперед, расти. А я свою работу люблю.
– Я хоть сейчас набрал бы охапку стланиковых веток – и тягу домой! – весело сказал Иван Иванович Ольге.
– Успеешь еще.
– Придется потерпеть, чтобы Пава не обвинила меня в подрыве устоев общества! Да-да-да, это у нее здорово получается: «Клянусь честью!» Но вечером я откладываю все занятия, надеваю твой фартук и открываю собственную кухню! Настойка из стланика, настойка из краснотала, салат-пюре из толченой хвои… Я стану комбинировать, пробовать, искать.
– Вы думаете, его надо искать? – спросила Пава Романовна, привлеченная широкими жестами доктора.
Иван Иванович обернулся к буйной ватаге, шумно бредущей следом.
– Кого «его»? Таврова? Ну, он, наверно, уже дома. Я совсем о другом.
«Вот так и надо работать! – глядя на мужа, подумала Ольга. – Совершенно одержим своими идеями».
Она вспомнила, как лет восемь назад Иван Иванович начал искать новые пути в работе. Страстность сочеталась у него с диковинным упорством и усидчивостью. Занятия в нейрохирургической клинике он, уже опытный хирург, начал почти с азов, а через три года блестяще защитил кандидатскую диссертацию. Когда для проработки подсобного материала к теме потребовалось знание немецкого языка, он попутно овладел и языком. Ольга вспомнила его благодарность и уважение к светилам избранной им науки. Нейрохирургия! Это слово он произносил с благоговением.
«Да, я люблю его и горжусь им. Но беда в том, что мы живем без контакта. Я сразу отстала и вот всю жизнь не успеваю, задыхаюсь, а он если и оглянется, то каждый раз с улыбочкой, не сознавая, как мне тяжело бежать за ним».
40
Утром Ольгу разбудил воющий гудок фабричной сирены; помаргивая спросонья и тревожно прислушиваясь, она взглянула на Ивана Ивановича. Доктор, тоже разбуженный этим воем, лежал с открытыми глазами.
– Пожар, что ли?
Где-то далеко забухали выстрелы.
Ольга вскочила, босиком, в одной ночной рубашке подбежала к окну и распахнула его. Пасмурное утро дохнуло в комнату мозглой сыростью. Дождь, всю ночь стучавший по крыше, перестал, и над прииском неподвижно висела густая белесая мгла, не видно было ни гор, ни домов поселка.
– Что случилось? – спросил Иван Иванович. Ольга, не ответив, высунулась в окно и увидела Елену Денисовну с Наташкой на руках.
– Вы не знаете, почему гудок? Кто стреляет? Елена Денисовна перевалила Наташку, укутанную клетчатым платком, на другую руку и, прижимая к груди тяжелый живой сверток, посмотрела на Ольгу.
– Тавров потерялся. Он ведь не вернулся вчера. Я Наташку понесла было в ясли, слышу: гудок. Ну, думаю, пожар!.. А тут бежит шофер Пряхина… Заблудился, говорит, Тавров. Искать пошли, вот и стреляют.
– Ну, что там? – с нетерпением спрашивал Иван Иванович, торопливо одеваясь.
– Тавров потерялся! – растерянно повторила Ольга слова Елены Денисовны, провожая ее остановившимся взглядом. – Не пришел домой… Вот и стреляют.
– Как это он отбился от нас?! Не живал здесь, местности не знает… И понесло же его одного! – сказал Иван Иванович с искренним огорчением.
– Побродит и вернется, – неуверенно промолвила Ольга, смущенная и опечаленная.
– В тайге бродить не так просто! – Ивану Ивановичу даже стало досадно на Ольгу за ее наивное предположение. – Если бы заблудился ваш стихоплет, наверное, закудахтали бы, как куры.
– Да, уж наверно! – сказала она сердито.
Весь день у нее прошел за письменным столом, но работалось плохо. Тогда она принесла подобранные ею книги о добыче золота и путешествиях по Сибири и Дальнему Востоку. Однако сосредоточиться на чтении тоже было трудно, и Ольга то и дело, заложив ладонью страницу, да так и забывшись, смотрела на мокрые от дождя стекла окон. За окнами выла сирена, и ее вой особенно настраивал на скорбный лад.
Когда вернулся с работы Иван Иванович, озабоченный, но бодрый, в доме как будто посветлело. После ужина Ольга вымыла посуду, снова растопила плиту, согрела воду, и началась настоящая детская игра в кухню. Забавная суетня Ивана Ивановича у мисок и кастрюль, наполненных толченой и цельной стланиковой хвоей, мелко нарубленными молодыми побегами краснотала и смородины, отвлекла Ольгу от тяжелых мыслей.
Опять целую ночь выла сирена. Едва встав с постели, Ольга подбежала к окну.
– Как погода? – поинтересовался Иван Иванович. Ольга безнадежно махнула рукой:
– Все то же.
– Я к вам с приятной новостью, – объявила Пава Романовна, явившаяся, едва Иван Иванович ушел на работу, и начала торопливо доставать что-то из-под полы прорезиненного пальто. – Я так рада за вас, так рада, – приговаривала она.
Ольга недоверчиво следила за движениями ее пухлых ручек, в которых вдруг зашуршала газета.
– Вы знаете, ваш очерк о старателях все-таки напечатали на прошлой неделе, а мы прозевали, – сияя сказала Пава Романовна. – Мой Пряхин говорит, что это бывает в тех случаях, когда материал попадает более сведущему работнику. Возможно, прочел сам редактор. Зря вы не подписались полной фамилией.
Ольга, не слушая Павы Романовны, просматривала газетный лист, руки ее дрожали. Да, один из многих посланных ею и не принятых редакцией очерков был напечатан полностью. Даже заголовок его сохранен. Жар, опахнувший Ольгу вначале, сменился ознобом, все так же держа газету в вытянутых руках, она опустилась на стул, ее трепала настоящая лихорадка.
– Попейте водички! – суетилась Пава. – Это еще проклятая погода обессиливает. Меня тоже беспокоят мои гланды. Чуть остыну – и уже чувствую… Выпейте воды, пожалуйста!
– Не надо.
Теперь мысли Ольги со всей силой устремились к Таврову. Где он бродит? Бродит ли? Мало ли в тайге дикого зверья и других опасностей. А как он был бы доволен первым маленьким успехом Ольги! Ивану Ивановичу она даже не позвонила: для него статья в газете – попутное дело, а для нее – огромное событие в жизни.
Когда принесли извещение на перевод денег, она пошла на почту, и по дороге ей казалось, что встречные смотрят на нее приветливее, чем обычно, как будто они могли знать, что очерк в областной газете, подписанный кратко: «О. А.», принадлежит ей.
Перевод из редакции… Еще ни разу Ольга не владела копейкой, заработанной ею, и, принимая деньги от кассирши, не могла унять бившую ее снова дрожь.
– Гонорар от издательства, – не то недоумевая, не то поражаясь такому событию, сказала кассирша.
На губах молодого корреспондента готовно складывалась в ответ ребячески счастливая улыбка, но над поселком опять угрожающе и тоскливо завыл гудок.
Ольга сразу присмирела, свернула новенькие бумажки, опустила их в сумочку, но, выходя за порог, еще раз посмотрела, там ли они. Теперь на нее напал страх: вдруг читателям не понравился ее очерк?
Минут пять она стояла на террасе почты и всматривалась в ту сторону, где заблудился Тавров. Даже ближних гольцов, что поднимались над долиной, не было видно. Даже взгорье, где произошла встреча Ольги с Тавровым перед спуском в рудник, утонуло в тумане, из которого смутно виднелись только углы да крыши ближних домов прииска.
По горам ходили охотники, разведчики, рабочие прииска. Хорошо одетые, с запасом продуктов, они обшаривали мокрую тайгу, кричали, стреляли вверх, чтобы случайно не подстрелить кого-нибудь. Нелегкая задача – отыскать человека, затерявшегося в этой мгле, нависшей над диким, необжитым краем на десятки, а может быть, и сотни километров.
41
Когда Тавров уходил от веселой компании, горький стыд и тоска душили его. Все это перешло в ожесточение, которое он сорвал на красноголовом нарядном дятле, сняв его дуплетом с дерева. Не взглянув даже на птичку, растерзанную выстрелом, он устремился вперед, топча сочные травы, налитые зеленью. Незаметно наступил холодный вечер. Вдруг пошел дождь. Белые туманы закипели в долинах, поползли по распадкам к самым гребням гор.
Тавров поднялся на крутую вершину, но ничего не увидел: вокруг нависла сплошная, серая мгла. Он кричал, стрелял, тщетно ожидая ответа, потом выбрал укромное местечко среди скал, заросших кустарником, лег на землю и уснул, сломленный физической и душевной усталостью. Проснулся он от того, что озяб: вся одежда его пропиталась сыростью. Над землей сеялась студеная изморось, и впервые Тавров пожалел, что не пристрастился к курению. Будь у него спички, какой костер пылал бы между этих камней! Представление о тепле вызвало неудержимую тягу к жилью, и Тавров не смог дольше лежать, скорчившись, в своем логове – встал и пошел.
Бледный рассвет занимался над горами, с трудом пробиваясь сквозь толщу облаков. Дождь перестал, но мокрые, унизанные каплями влаги кусты и деревья, выходившие бесконечной чередой навстречу Таврову и снова терявшиеся в тумане, кропили его водой с головы до ног.
Так прошел день.
Тоска по человеческому теплу удесятерила тоску по Ольге. Тавров вспомнил, как однажды на пароходе они играли в шахматы. Она уронила под стол пешку. Он вскочил, быстро нагнулся – поднять, но круглая фигурка откатилась дальше, и, потянувшись за ней, он на одно мгновенье прислонился щекой к теплому под платьем колену Ольги. Это воспоминание пронизало его теперь нестерпимой болью – он чуть не закричал.
Когда Тавров находился до изнеможения, то решил идти по течению ключа, прямо по мелкой воде, там, где берега заросли непролазной чащей. Так можно скорее добраться до Каменушки или далее до Чажмы.
Перебираясь через завал бурелома к берегу, он поскользнулся, упал и долго, не шевелясь, лежал на мокрых круглых корягах.
– Что же я лежу?.. Нашел время! – спохватился он наконец, хотел подняться, но острая боль подкатила к сердцу так, что у него потемнело в глазах.
«Кажется, я сломал ногу! – подумал Тавров, когда, очнувшись, попытался разобраться в своих ощущениях. – Только того мне и недоставало! Неужели я подохну в этой чащобе, как подстреленный волк! Тут меня никто не найдет… Рядом пройдут и не увидят!»
Если бы его спросили, то он не смог бы объяснить, как выбрался на открытую поляну. Все происходило словно в бреду. Но он выбрался, выполз, даже выволок ружье и теперь находился на открытом месте, видном с горного склона, над которым по-прежнему висел туман. Больше он ничего не мог сделать: лежал, ждал, забывался и снова открывал глаза, глядя в безнадежную черноту ночного неба, ощущая, как мелкий дождь, перемешанный со снегом, падал на него и холодил губы, пересыхающие в лихорадке.
В один из таких просветов кто-то в больших очках глянул на него враждебно и настороженно. Тавров шевельнулся и с удивительной отчетливостью увидел в сумерках большого зверя, уходившего неуклюжей походкой. Это была росомаха. Мало приятного, если она вздумает прийти снова. Тавров сделал невероятное усилие, перевернулся на бок, потом на живот и выстрелил вслед зверю, исчезавшему в тумане…
42
– Я должна увидеть его! – сказала Ольга Паве Романовне, которая примчалась к ней, узнав, что эвен-охотник привез Таврова, найденного им в тайге, километрах за пятьдесят от Каменушки. У Бориса была сломана нога, и его доставили на носилках в очень тяжелом состоянии.
– Человек-то какой хороший! Неужели умрет! – говорила Ольга со слезами в голосе.
– Почему умрет? С чего вы взяли? – возразила Пава Романовна, успевшая собрать дополнительные сведения. – Теперь он в безопасности под крылышком Ивана Ивановича. Но навещать его сейчас не надо, клянусь честью! Во-первых, он без сознания, простудился, и температура у него до сорока градусов. Ведь на другой день после нашей прогулки в горах выпал снег… Во-вторых, вы зря скомпрометируете себя: могут подумать бог знает что! Вот сделают ему операцию… А как же! – отвечая на испуганный взгляд Ольги, воскликнула Пава Романовна. – У него перелом ноги ниже колена, но Гусев утверждает, что это легко поправимо. Понимаете: даже Гусев уверен в благополучном исходе! Пусть Борис Андреевич придет в нормальное состояние, а потом вы навестите его вместе со мной. И все будет выглядеть вполне благопристойно.
– Вам лучше? – Варвара отставила на столик стакан с водой и поправила подушку под головой Таврова. – Намочили наволочку! – заметила она и, взяв полотенце, вытерла ему крепкий, давно не бритый подбородок и гладкую шею. – Вы теперь маленький: кормили вас эти дни с ложечки, – весело шутила девушка, присаживаясь на табурет и складывая на коленях руки, не терпящие безделья.
– Мне лучше. А нога болит. – Тавров покосил на Варвару еще мутным взглядом. – Как вы думаете, срастется она?
– Обязательно! Хорошо, что у вас был закрытый перелом, а мы сделали все возможное. Иван Иванович говорит: вы даже хромать не будете.
– Правда?
– Честное слово. Вы не думайте о плохом: у вас сильная натура, поправитесь быстро. Здесь мальчик один есть, Юра. Наш якут. Он тяжело болел, такую операцию серьезную перенес, а потом упал с койки и тоже сломал ногу. Я заплакала, когда узнала. Зачем ребенку столько страданий? Оказывается, другой мальчик, постарше, подзадорил его подняться без разрешения, даже помог встать, пока нянечки не было в палате, и оба упали. А сам он никак не признавался, боялся, что приятелю попадет.
– Молодец! – сказала Тавров, слабо усмехаясь.
– Вовсе не молодец, – серьезно и горячо возразила Варвара. – Ребенок должен говорить правду.
– А взрослые?
Варвара неожиданно покраснела, но сказала убежденно:
– И взрослые тоже.
– Ну, а если это невозможно? Вы сами еще ребенок, Варенька! Человек должен жить по правде, а говорить ее другим в глаза не всегда нужно, а иногда и жестоко. Я имею в виду маленькую житейскую правду.
– Все равно! – упорно настаивала Варвара. – Надо лучше думать о людях, тогда и жестокости не будет. Я знаю… Могут получаться неловкости. Одна женщина послала свою дочку посмотреть за поломойкой. Та спросила: «Почему ты здесь стоишь, девочка?» – «А меня мама послала посмотреть, чтобы вы не украли чего-нибудь». Работница – в слезы, ребенка наказали. Кто же виноват? Неужели правдивость? По-моему, раз не доверяешь кому-нибудь, не зови в дом!
– Это Ольга Павловна так начудила в детстве! – Тавров ласково улыбнулся сразу просветлевшими глазами. – Я слышал, как она вам рассказывала, но вы же неправду говорите, Варенька. Послала ее не мать, а тетушка. Мать была прекрасный человек, только умерла очень рано…
– Так это же просто пример. Тут можно сочинить немножко, – защищалась Варвара, приметно смущенная.
– Женская логика! Мы с Юрой, как мужчины, куда последовательнее. Тут в столике гостинцы, принесенные мне товарищами. Отнесите их ему в знак уважения.
Придерживая руками и подбородком целую охапку пакетов, Варвара вошла в детскую палату.
– Это кому столько? – по-якутски спросил Юра, делавший лечебную гимнастику под наблюдением Хижняка.
– Послали тебе, но я хочу оделить всех ребят.
– Разделите, – разрешил мальчик и добавил по-русски: – Денису Антоновичу тоже надо дать что-нибудь вкусненькое.
– Чувствуешь, Варюша, какая забота обо мне: задабривает, чтобы я побольше с ним занимался, – промолвил Хижняк, широко улыбаясь. – Ладно уж, кушай сам на здоровье. А за то, что жалуешь своего лекаря, принесу тебе сейчас стланиковой настойки.
– Она сладкая?
– Какое там сладкая! Это же лекарство. Чтобы цинги не было, чтобы косточки крепче стали.
– Давайте, раз лекарство!..
– Уже всем даете ее, Денис Антонович? – спросила с живостью Варвара, расхаживая легкой походкой между койками и разнося подарки, переданные Тавровым.
– Безотказно, кому потребуется.
– Помнишь, я говорил тебе о старателе Фирсове… Да ты видела его… умирал от цинги. И за одну неделю… за восемь дней… Нет, ты обязательно должна посмотреть его. Я перепробовал на нем все свои настойки: из краснотала, из хвои лиственницы, из смородины и стланика. Стланик дал наилучшие результаты, просто сверх ожидания. Ты знаешь, он уже сидит.
– Кто… Тавров? – очнувшись от задумчивости, спросила Ольга, занятая маленькой починкой рабочего костюма мужа.
– Тавров? Да. Это не удивительно. А вот Яков Фирсов сидит!.. Ох, до чего же я рад! Ты знаешь, Оля, как мы теперь пустим в ход стланиковую настойку?!
Иван Иванович взял со стола метелку стланика, полюбовался ею. Квартира еще была завалена ветками, некрашеный пол на кухне позеленел, и завхоз обещал Ольге прислать маляров.
– Только шпаклевочку надо прежде сделать. Да олифы привезти килограммов пятьдесят.
Теперь Ольга немножко некстати напомнила мужу обещание завхоза.
– Пусть красит, – согласился Иван Иванович, но вдруг рассердился: – Пятьдесят килограммов олифы? Для одной кухни? Что он, выкупать нас в олифе хочет? Я ему в прошлом году показал в больнице, как полы красят! Забыл уже! – Иван Иванович помолчал, улыбнулся застенчиво, взъерошил и без того ершистые волосы: – До чего приятно сделать что-нибудь хорошее для всех. Да-да-да. Я чувствую себя счастливым именинником.
Перед уходом на работу он поцеловал Ольгу и спросил:
– Ты придешь посмотреть наших выздоравливающих цинготников? Можешь написать о них в газету, автор О. А., – добавил он с доброй усмешкой.
– Нет, о них ты сам напишешь, – сухо сказала Ольга, оскорбленная его усмешкой. – Но приду обязательно.
43
Пава Романовна сумела отговорить Ольгу от посещения Таврова, а потом, побегав и посудачив по прииску, сама слегла, заболев ангиной. Ольга, порывистая, но не очень решительная, не пошла в больницу одна, удерживаемая чувством неожиданно возникшего стеснения: свободная простота ее отношения к Таврову исчезла. Все эти дни она жила в состоянии лихорадочного ожидания, почти не замечая того, что творилось вокруг.
– Ты как в воду опущенная! – заметил ей накануне Иван Иванович. – Ну, в чем дело? – спросил он нетерпеливо, торопясь в больницу.
– У меня ничего особенного… – Ольга сдвинула брови, сразу готовая ответить раздражительной вспышкой на его недовольное замечание. – Почему я должна ходить возле тебя, подпрыгивая и улыбаясь?
Иван Иванович только махнул рукой, и этот жест, вызванный досадой на ее слова и нежеланием ссориться, Ольга истолковала тоже в самом обидном смысле.
«Он никогда не уделял мне внимания. Я всегда была у него на последнем плане. Вроде предмета домашней обстановки!» – подумала она, оставшись одна в квартире с шитьем в руках и сразу забыв все хорошее, что делал для нее муж.
Нащупав пальцем наперсток, Ольга машинально взяла иголку.
«Мне сочувствие нужно и понимание, а не снисходительность. Почему я к постороннему человеку отношусь с большим доверием?» При этой мысли сердце ее так сжалось, что она замерла.
– Вот еще новости! – растерянно прошептала она.
Порывистый теплый ветер, словно заждавшись, принял ее на крыльце в распростертые объятия. Отбиваясь от его буйных ласк, Ольга сбежала по ступенькам, посмотрела кругом, и снова все показалось ей прекрасным. А особенно хорош был кусок чистого неба, нежно голубевший среди разодранных ветром пепельно-серых туч. Пожалуй, никогда еще не видела Ольга столь яркой, праздничной голубизны. Потом она шла к больнице, уже ничего не замечая, погруженная в размышления, отражавшиеся на ее лице то беспокойной хмурью, то светлой улыбкой.
Несмотря на запрещение Скоробогатова и на то, что ответа из области еще не получили, нейрохирургическая операция по поводу гангрены была назначена.
– Надо считаться с живым делом, а не с бумажками, – ответил Иван Иванович на обычную попытку Гусева «внести ясность», «согласовать», «продумать».
Будь Гусев не таким нудным человеком, он, неплохой специалист, сумел бы за два года если не повлиять на Ивана Ивановича, то хотя бы заразить и его своими постоянными опасениями. Но он действовал слишком раздражающе, и его высказывания – иногда справедливые – пропадали впустую.
Совсем иные отношения сложились у Ивана Ивановича с хирургом Сергутовым, которому он помогал от души, создавая возможность самостоятельной работы, лично консультируя и переживая с ним все его затруднения.
В особо тяжелых случаях он оперировал всегда сам.
– Я не могу допустить, чтобы плохой исход объясняли неопытностью хирурга, – сказал он однажды.
– Такие сложные операции, какая предстоит нам сейчас, не делаются пока в массовом порядке. Поэтому я попрошу вас быть особенно внимательными, – говорил Иван Иванович своим помощникам, проходя по операционной и держа на весу обнаженные до локтей, порозовевшие от мытья мокрые руки.
В длинном клеенчатом фартуке, который он отбрасывал на ходу носками ботинок, с лобной лампой, блестевшей рефлектором над его белой шапочкой, он казался еще больше и выше даже в этой просторной комнате, прекрасно оборудованной для операций.
– Самопроизвольная гангрена, как и всякая гангрена, – это нарушение кровоснабжения, иначе сказать – болезнь сосудов – артерий, отсюда и название «эндоартериит», – негромко объяснял он, надевая с помощью Варвары стерильный халат. – Раньше она считалась болезнью старческого возраста, но жизнь показала, что ею заболевают совсем молодые люди.
– Но стоит ли удалять симпатические узлы, если ткани уже омертвели? – спросила Варвара, натягивая резиновые перчатки на руки хирурга.
– Стоит: операция точно укажет границу отмирания. Здоровая часть обязательно порозовеет. Вместо ампутации до бедра мы без риска для жизни больного отнимем ему ногу по колено, а может быть, одну ступню или пальцы. При омертвении руки с тем же результатом удаляются симпатические узлы грудного отдела. Такие операции хирурги начали делать недавно, но уже установлено, что никаких вредных последствий они не приносят. А человеку надо жить, и жить как можно полнее! Правильно, Леша?
Тот, к кому он обратился, юноша лет двадцати трех, тонкий от истощения, только кивнул: он торопился лечь на стол.
Когда ему в областной больнице предложили сделать ампутацию, он возмутился. Но злые боли в течение семи месяцев измучили его, и он начал колебаться. Целыми ночами просиживал он на постели, подтянув к груди колено больной ноги, укачивая ее, точно ребенка.
Отрезать недолго… Но те же первичные признаки начали появляться и на другой стороне: неожиданная усталость, перемежающаяся хромота от болей в икре и стопе, холод в пальцах. Леша уже знал, что будет дальше: стопа отечет, пальцы посинеют, потом начнут чернеть. Значит, через несколько месяцев явится необходимость отнять и левую ногу. Это в двадцать три года от роду!
– Раньше мерзла, а теперь печет. Сначала при ходьбе болела, сейчас даже при покое, – жаловался Леша соседям по койке в долгие бессонные ночи.
В конце концов он решил:
– Режьте ее, будь она проклята!
Но в это время стало известно, что в Чажминском приисковом районе хирург Аржанов лечит гангрену по-новому…
44
– Ну, Леша? Каково самочувствие? – спросил Иван Иванович, наблюдая, как укладывали раздетого больного на левый бок и привязывали к столу его ноги.
– Так себе…
– Почему же «так себе»?
– Он боится! – прикрепляя к руке Леши свинцовую пластинку диатермии, сообщил Никита Бурцев, следивший за общим состоянием больного. – Страшно ведь!
– Я сам твержу: операция серьезная, но не надо бояться, сделаем хорошо, – обещал Иван Иванович, ревниво оглядев компактный, точно радиоприемник среднего размера, прибор для электроножа.
Этот прибор, а также электроотсос, отсасывающий кровь в операционных ранах, Иван Иванович добыл в области, пустив в ход всю свою хозяйственную изворотливость.
– Сейчас мы поколем вас немножко, заморозим… Если почувствуете потом боль, скажете, добавим еще, – говорил он, становясь на место, пока ассистент Сергутов обмывал спиртом и смазывал йодом операционное поле.
Иван Иванович сам сделал пометку зеленкой на желтой от йода пояснице больного, опоясал его бок чертой, поставил точки там, где будут прикреплены с помощью нескольких швов полотенца и простыни, и принял от Варвары шприц с новокаином…
Сергутов делал встречные уколы по зеленой черте, пока сразу вспухшие беловатые валики не сомкнулись. Потом уколы были повторены более длинной иглой. Минут через пять можно приступить к операции: когда хирурги доберутся до глубины, там уже наступит полное обезболивание.
Иван Иванович, не глядя, протягивает руку, в которую Варвара вкладывает скальпель. Она привыкла во время операции, по лицу хирурга и движениям его губ и рук угадывать то, что нужно. Во всей ее тоненькой фигурке, запакованной в белое, с белой марлевой повязкой на лице, выражается серьезная сосредоточенность. Пусть хирург и врачи разговаривают о чем угодно, пусть шутят и улыбаются, она не позволит себе отвлечься.
Иван Иванович быстрым движением делает длинный разрез по направлению от позвоночника к срединной линии живота.
– Не мешайте! – говорит он ассистенту, сунувшемуся с марлей.
Варвара подает один за другим зажимы с тупыми клювообразными кончиками. Пощелкивают их замки под рукой хирурга, и по краям разреза образуются сплошные металлические подвески, откинутые в обе стороны.
– Ток!
Никита Бурцев, тоже в белом и маске, включает электроприбор.
Хирург прикладывает к мелкому кровеносному сосуду сведенные острия пинцета, к пинцету наконечник от диатермии. Легкий треск, сосуд затромбирован, «сварен» вместо перевязки шелком. Зажим снимается, и так – пока не освободится от стали все операционное поле. Еще разрез…
Ассистент легко разводит крючками края раны.
– Расширители!
Варвара уже подает клешневатый инструмент с двумя редкозубыми гребнями.
И опять разрез. Зажимы. Ток…
Потом обкладывают края раны свежими стерильными полотенцами и снова расширяют ее.
– Сейчас, Леша, будет самое неприятное. – Иван Иванович заглядывает под высокую платформочку-столик, поставленный над головой больного. – Придется потерпеть. Это для всех неприятно.
Он накладывает широкий тупой крючок с противоположной стороны и вручает его Сергутову.
– Пожалуйста, держите так, как я вам дал. Не сдвигайте и не придавливайте. Тупфер! – требует он и принимает от Варвары длинный зажим с тампоном, смоченным в двухпроцентном растворе новокаина…








