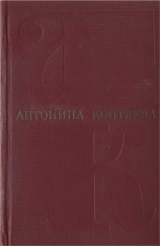
Текст книги "Собрание сочинений. Том 2. Иван Иванович"
Автор книги: Антонина Коптяева
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 27 страниц)
Инженер резко повернулся и пошел обратно к своей фабрике, однако на полдороге еще раз передумал и свернул в сторону, к скалам, где летом уговорил Ольгу пойти на рудник. Вот камень, на котором она сидела тогда, уронив на колени руки, опустив задумчиво-сосредоточенный взгляд.
Тавров тоже присел на этот камень, потрогал его, он был сырой и холодный. Тавров вспомнил теплоту рук Ольги, ночную прогулку с ней. Воспоминание превращалось в пытку, но если бы можно было повторить тот вечер! Если бы!
Звук шагов и знакомые женские голоса вывели его из тяжелого оцепенения. Мысль о возможности желанной встречи обожгла: он уже отвык радоваться за эти бесконечно тянувшиеся две недели, поднялся и, сдерживаясь, чтобы не кинуться вперед, сделал несколько шагов. Из-за скал показались Варвара, Елена Денисовна и две санитарки. Тавров еще искал взглядом, еще ждал…
– Пойдемте с нами за брусникой! – крикнула Варвара, улыбаясь ему из-под старенького полушалка.
На ней, как и на других женщинах, была надета стеганая куртка-телогрейка, шаровары, сапожки, за плечами в рюкзаке ведерная банка. Но даже в таком неказистом наряде девушка привлекала внимание своей яркой миловидностью.
– Пойдемте! – позвала и Елена Денисовна. – Здесь хоть недалеко, да без мужчин страшно: вдруг медведь вывернется!
– Медведи сейчас сытые, жирные и думают лишь о том, где бы залечь на зиму. – Варвара махнула рукой Таврову. – Пошли, Борис Андреевич. Мы покажем вам такой богатый ягодник, какого вы сроду не видели. Наберем брусники, а потом разведем костер и будем печь картошку. Я умею разжигать огонь в любую погоду. Подумайте, как славно: печеная картошка у костра!
Снова быстро прошумел холодный дождь; облака точно кипели, перемещаясь в вышине, а на земле зябко вздрагивали кустики каменной березы, роняя капли воды и крохотные желтые листья на глянцевитый брусничник, покрытый тяжелыми кистями красневших повсюду ягод.
Тавров собирал в миску мокрые ягоды и ссыпал их то в банку Варвары, то к Елене Денисовне. Обе они жили в том же доме, где жила Ольга, дружили и каждый день встречались с нею, поэтому и для него было в них что-то свое, близкое. Руки его озябли, а лица женщин стали сизыми. Тавров вдруг понял, что пришел сюда в надежде услышать от них хоть какие-нибудь вести об Ольге, болтушка Пава Романовна не смогла сказать ему ничего вразумительного. У него защемило сердце, когда он представил жалкость своего положения, не хватает еще того, чтобы подслушивать под окнами! Нервным движением Тавров сжал кулаки, и сок раздавленных ягод брызнул на его кожаное пальто, блестевшее от недавнего дождя…
– Хватит! – Варвара выпрямилась улыбаясь.
Банка ее, полная с верхом, стояла в приспущенном рюкзаке, словно накрытая красным платком. Остальные женщины еще бродили по косогору, кланяясь в пояс спелой, крупной бруснике.
– Давайте скорее собирать дрова! – И Варвара первая побежала к давно обгорелым и высохшим кустам стланика, согнутого серыми дугами.
В руках ее появился якутский нож-кинжал. Вынув из мешка сухие палочки, она быстро оперила их застругами, подожгла, обложила пучками мелких, как солома, хворостинок, потом набросала более толстые ветки – и через несколько минут огонь жарко запылал.
Вы здоровы? – спросила Варвара, кидая Таврову картофелины, которые тот зарывал под горячие угли. – В последнее время вы ходите такой мрачный!.. У вас не болит сломанная нога в дурную погоду? – Она подтащила и сунула в огонь еще несколько больших ветвей и, щурясь от дыма, пытливо взглянула на директора фабрики.
Тот молчал, играя палкой-клюшкой, постукивал ею по сушняку, охваченному пламенем, и следил, как взлетали и сразу чернели в полете золотые искры.
– Нет, у меня другое, Варенька. Скажи, если бы ты полюбила и тебя полюбили и вышла бы какая-то жестокая заминка, по своей непонятности жестокая… – быстро поправился Тавров, вспомнив, что страдательным лицом являлся совсем не он.
Варвара смотрела сочувственно и выжидающе, его дальнейшее молчание она истолковала как боязнь проговориться. Если бы ее полюбили!..
– Я не допустила бы неясности. Если двое полюбят друг друга, их жизни складываются в одну. Значит, все интересы общие…
– А если есть еще третий? – тихо сказал Тавров, подталкиваемый потребностью поделиться с нею хоть частицей своих терзаний.
– Третий? – Варвара настороженно взглянула на него, нахмурив темные брови; но она подумала не о том, кто же третий у Таврова, а о собственном отношении к Ивану Ивановичу и Ольге.
Что, если бы Аржанов полюбил ее? Но такое предположение показалось ей просто немыслимым: ведь там семья… жена, которой доктор очень предан. Варвара ничего не могла посоветовать Таврову.
Но он уже не мог молчать.
– Ты понимаешь, тот, третий, – лишний между нами. Она любит меня, а не его. Сама сказала… А потом…
– Потом? – Варвара все еще не могла догадаться, о ком идет речь.
– Нет, ты скажи: имеем мы право любить и стремиться к совместной жизни, если она замужем?
Девушка покраснела, но в глаза Таврову посмотрела прямо.
– Мне кажется… Нам очень много дала Советская власть, однако не дала права обманывать. Да и не нужно обманывать. Если бы мой муж разлюбил меня ради другой… – лицо Варвары выразило искреннее страдание, словно то, о чем она говорила, произошло на самом деле, – мне было бы тяжело, очень! Я сделала бы все, чтобы он снова полюбил меня, но если нет, то я сказала бы ему: иди к ней, я не хочу тебе плохого. – Варвара задумалась, потом добавила: – Трудно угадывать, как получится. Наверно, в каждой семье по-разному, ведь характеры у людей неодинаковые. Но мы все стремимся к хорошему…
– А картошка-то сгорела! – огорчилась Елена Денисовна, выгребая из золы обугленные клубни. – Эх вы-ы, повара-философы!
73
Ольга равнодушно прислушалась к разговору на крыльце и шагам Ивана Ивановича, хотя он входил не один, а с Хижняком. Уже поздний вечер, на улице осенняя темь и слякоть. Мужчины пришли с собрания. Что ж, пусть посидят, может быть, выпьют по рюмке вина…
Но тут раздались еще шаги и голос, который точно ножом резанул сердце Ольги. Да, это, несомненно, голос Таврова, только подавленный, глухой, бесцветный… Похоже, говорил тяжело больной человек. Вот он спросил о ней.
– Ей нездоровится, – ответил Иван Иванович. – Пожалуйста, располагайтесь по-домашнему. Денис Антонович, хозяйничай. Сейчас я узнаю, что Ольга Павловна. Ты не спишь, Оленька? – тихо окликнул он, подходя к дивану и бережно притрагиваясь ладонью к ее лбу. – Как ты себя чувствуешь?
– Хорошо, – ответила она, не открывая глаз.
– Может быть, ты выйдешь, посидишь с нами немножко? Там Борис Андреевич и Денис Антонович. Мы купили тебе фруктов и бутылку «Саами». Ты, кажется, любила это вино…
Ольга хотела отказаться, но не смогла выговорить ни слова.
Иван Иванович все еще стоял возле нее.
– Хорошо. Я приду.
«А каково Борису? Почему у него так изменился голос?» – подумала она, стараясь представить то, что пережил он за это время.
Теперь она уже не могла не встать, переоделась, посмотрела на себя в зеркало и похолодела от страха: бледное, даже серое лицо, щеки ввалились, под глазами синева, от носа к углам рта и между бровей прорезались скорбные морщины. Губы женщины задрожали: как постарела! И, все не отрывая взгляда от этого чужого, подурневшего лица, Ольга прислушалась к беседе в другой комнате. О чем говорил Тавров, она не разобрала, хотя голос его звучал оживленнее: он ждал ее выхода. Ну что же, пусть посмотрит на нее, безобразную. Может быть, это вылечит его. Ольга решительно двинулась к двери, но у порога опять замедлила: как она встретится с ним при муже?..
С трудом преодолев минутную слабость, толкнула дверь и, почти падая, хватаясь за косяк, шагнула в ту комнату.
Иван Иванович укладывал на блюдо медово-желтую дыню и яблоки, Хижняк, увлеченный разговором, нарезал ветчину. Оба они не сразу обернулись к неслышно вошедшей Ольге, а Тавров, который, не зная, куда себя деть, рассматривал безделушку из слоновой кости, взятую им с этажерки, – точно застыл на месте. Когда Ольга подходила к нему, он стоял все в той же позе, но руки его дрожали так, что только слепой не заметил бы его волнения. Увидев любимого в беспомощном положении, Ольга вдруг обрела твердость: почти непринужденно заговорила с мужем, пошутила с Хижняком и сама начала хозяйничать, отвлекая на себя их внимание. Когда стол был уже накрыт и рюмки наполнены вином, она опять на минуту потеряла равновесие: Тавров глядел на нее, забыв о всяких условностях. Как предупредить, убедить его, что дальше так нельзя?
– Валерьян Валентинович посоветовал мне обязательные прогулки, – сказала она, обращаясь к Хижняку, – а я третью неделю не выхожу из дому. И правда, у меня не проходят головные боли. Завтра с утра возобновлю свой летний маршрут по горам.
74
День выдался холодный. Пустынно серело высокое, будто выметенное ветром небо. Печально покачивались у тропы мертвые травы. Куда ни глянь, повсюду ровная желтизна лиственничных лесов: словно диковинные хлеба выспели по склонам гор; стоят, не клонятся, ждут, когда взмахнет над ними белыми рукавами северная жница-метель. Снегопад здесь часто опережает листопад, но быстро сходит молодой снежок, перемешанный с иголками хвои и вялым мокрым листом, и тогда становится особенно неприютно в тайге. Пусть бы мороз, пусть настоящая пурга, только не эта мозглая слякоть.
Ольга карабкалась на водораздел, скользя на крутых подъемах, хватаясь за ветки кустарника. Ветер с налету злобно подталкивал ее в спину, рвал косынку из цветной шерсти, повязанную концами под подбородком. Когда женщина добралась до вершины, у нее дрожали и руки и ноги: то ли отвыкла от таких прогулок, то ли волновалась, ожидая встречи с дорогим человеком.
Увидев его среди скал, перегородивших нагорную тропинку, она не смогла даже ускорить шаги. Он сам бежал ей навстречу.
Выходя из дому, Ольга продумала все, что ей надо было сказать Таврову, но даже рта раскрыть не успела, как очутилась в его объятиях. Несколько минут они стояли молча под порывами злого ветра. Потом тихо пошли рядом.
Ольга опомнилась от радостного потрясения не первая, может быть, еще медлила, как человек, которому не хочется проснуться. Вернули ее к действительности слова Таврова, ласкавшего ее озябшие руки:
– Хочешь, я поговорю с Иваном Ивановичем?
Она понурилась. Прядка светлых волос выбилась из-под платка и волнисто струилась по ветру, падая то на ее лицо, то задевая склоненное к ней лицо Таврова.
Теперь они стояли в небольшом распадке, заросшем редкими кустами кедрового стланика. Однообразно серые тучи вдруг сдвинулись, снизились и потекли над горами сплошным потоком. Уныло перекликались взъерошенные чечетки, перелетая с камня на камень, печально шумела темно-сизая хвоя. Все выглядело грустно, и двое людей, встретившихся здесь, тоже погрустнели, точно подчиняясь природе.
– Почему ты молчишь? – тревожно спрашивал Тавров. – Неужели ты опять уйдешь и спрячешься в четырех стенах? Ведь так же нельзя, Ольга!
– Мы не должны встречаться больше. Я… У меня… Я беременна. – И точно подкошенная этими словами, она опустилась на камень, закрыла лицо руками.
– Оля! – вскричал Тавров. – Дорогая!.. – Он присел рядом, стараясь заглянуть ей в глаза, отводил и целовал ее мокрые от слез ладони. – Что же тут плохого? Пусть будет ребенок от него. Я стану его любить.
– Нет, у меня сердце разрывается, но я не могу! – Она поискала в карманах, не найдя платка, стащила с головы косынку, вытерла глаза и щеки. – Нам надо расстаться.
– Не надо! – Тавров взял косынку из рук Ольги и сам неумело, но старательно повязал ее. – Ведь ты любишь меня! Я знаю, чувствую, ты не шутишь этим!
– Еще бы! – тихо промолвила Ольга. – Но я и теперь не шучу. Нельзя нам вместе. Невозможно! Иди.
Снова она оттолкнула его похолодевшим тоном и взглядом. Тавров встал и, как тогда, летом, медленно двинулся под гору.
Ольга, сжав губы, смотрела ему вслед запавшими в глубину глазами. Глаза звали его обратно. Тавров почувствовал это, обернулся.
– Ольга! – произнес он тем же угасшим, сдавленным голосом, каким говорил вчера.
Жалость и любовь отразились на ее лице. Но она успела овладеть собой и, когда он повалился к ее ногам, сказала с твердостью:
– Перестань мучить себя и меня. Напрасно!
И он снова пошел. Пошел, уже не оборачиваясь, все убыстряя огрузневшие шаги, словно горе тащило его вниз своей тяжестью.
Ольга осталась в каком-то забытьи. Когда она очнулась, начала сыпать мелкая изморось, потом снежная крупа. Косяк гусей, запоздавших с отлетом, вырвался из-под облаков и пошел на посадку на ближнее озеро. Долго слышался в таежной пустыне их тревожно зовущий переклик. Лиственничные леса желтели в долинах и по склонам гор, а среди этой чистой осенней желтизны серел сухостой. Много сухостоя в северо-восточной тайге! Намертво высушивают деревья жестокие морозы.
Часть вторая
1
Шел снег. Он падал густо, тяжело, уверенно; давно надо было ему лечь на эти каменистые горы, на долины, покрытые лиственницами, черными в зимней наготе. Он так запоздал! Стремительные реки, схваченные морозом, холодно пламенели отсветами багровых зорь. Ветер бешено рвался по речным ущельям, катил по льду сухие сучки, камешки, осыпавшиеся с утесов, с шорохом перегонял отвеянный песок. Подо льдом, перечеркнутым трещинами, мрачно темнела текучая вода. Тускло зеленели на высоких берегах поникшие стланики и кустики застывшей брусники.
Неуютной лежала северная земля, выдуваемая жгучим полярным ветром.
И вот наступило серое затишье. Отмяк резкий от мороза воздух, и пошел снег…
Белая звездочка опустилась на рукав меховой дошки Ивана Ивановича. Он посмотрел на нее и улыбнулся: так строго и тонко были выточены ее хрупкие лучики. Вторая упала рядом, третья… Скоро вокруг все побелело, смягчаясь в очертаниях, и угловатые вершины гольцов, и изломанные ступени береговых террас, и, точно сведенные судорогой, ветви деревьев. Зима вносила покой в жестокое творчество осени.
Порхание снежных хлопьев успокоило и Ивана Ивановича, который трудно переживал эту осень. Теперь он уже начал осознавать, что терял радость и теплоту своей жизни – любовь Ольги. Словно прозрев в предчувствии надвигавшегося несчастья, хирург по-новому наблюдал природу. Он видел, как вихрь обрывал с ив и тополей последние листья и, кружа, гнал их над долиной. На ветвях, потемневших от осенних невзгод, зябко ежились зачатки будущих почек, но деревья со стоном рвались за своими улетавшими листьями. Застывая, они царапали друг друга ветвями, и, когда на закате быстро тускнело багровое небо, льдинки, намерзшие на неровностях коры, туго натянутой, готовой лопнуть, казались каплями крови.
Иван Иванович проходил мимо деревьев приискового парка, слушая, как в оголенных сучьях уныло свистел ветер, и шел вниз до мутно-желтого, а потом прозрачного льда реки. Ружье праздно висело за спиной. Он бродил вдоль застывшей Каменушки и думал о жене, жившей с ним рядом со своими затаенными мыслями и чувствами. Она очень изменилась за последнее время: не осталось ничего похожего на прежнюю ласковую, общительную Ольгу. Все попытки Ивана Ивановича вызвать ее на откровенность наталкивались или на апатичное спокойствие, или на отчужденность. Куда она уходила, с кем встречалась, он не знал, не знал и того, над чем она просиживала теперь целыми вечерами и, наверное, целыми днями, когда его не было дома. Но он видел, как иногда глаза жены неподвижно останавливались, точно стекленели, руки вяло опускались и тяжелый вздох рвался из ее груди.
Отчужденность любимой женщины угнетала Ивана Ивановича. Недаром он пристрастился к одиноким вечерним прогулкам – теперь его единственному отдыху, – тишина, прижившаяся в квартире, выгоняла его. Ольга не разделяла новую страсть мужа к «шатанию» и совсем перестала выходить с ним вместе. Иван Иванович все замечал, терпел и даже, надеясь на хорошее, пытался обмануть себя: Ольга была его первой настоящей любовью и могла оказаться последней.
Однажды, придя из больницы раньше обычного, он застал жену уснувшей на диване. Сон сморил ее во время работы. Возле нее лежали раскроенные куски материи, какое-то маленькое шитье, кружева. Иван Иванович посмотрел, протянул руку… Первое, что попалось ему, оказалось распашонкой для новорожденного, тут же крохотный чепчик и фланелевая кофточка, годные разве только на куклу. Доктор бережно перебирал эти вещички, взволнованный до глубины души.
«Неужели? – думал он в счастливом смятении. – Но почему она скрывает? Отчего так угнетена? Разве можно в ее положении целыми днями сидеть в комнате?»
– Я шью для Павы Романовны, – сказала проснувшаяся Ольга, глядя на него полуоткрытыми, но не сонными глазами.
Иван Иванович вспомнил домогательства Павы, и ему стало обидно и стыдно за свое наивное заблуждение.
Ольга продолжала настороженно смотреть на него. В конце-то концов сколько времени еще можно скрывать? Она уже готова была нарушить свое молчание, но представила радость Ивана Ивановича, которую не могла разделить, и промолчала, подумав: «Может быть, и для меня это станет потом радостью».
2
Иван Иванович медленно шагал по реке. Лед, приподнявшийся острыми краями трещин на речных изломах, хрустел под его ногами, и этот приглушенный хруст один нарушал плотное безмолвие оседавшей в горах зимы.
Куропатки вырвались стаей из заснеженных береговых кустов, подняв светлую метелицу, и сами, точно комья снега, взметнулись среди мелькавших и падавших хлопьев.
Доктор рассеянно последил за их косым полетом. Они опустились где-то рядом, в черно-белом лесу, оживленном шепотом и вздохами: ветер снова потянул по долине, и снег обрушивался с ветвей.
Пни выше человеческого роста толпились у подножья горы, нелепые в своей наготе, с криво нахлобученными снежными шапками. Иван Иванович посмотрел на них и удивился: «Кто мог так высоко срезать деревья?» Пригибая меховыми унтами кустики голубики и остропахучего рыжего багульника, торчавшие из пушистой пороши, он подошел к месту порубки. Похоже, великаны валили здесь лес.
– Да-да-да! Вот это работка! – пробормотал Аржанов, осматриваясь. Искорки смеха вспыхнули в его глазах. И тут он сообразил, что лес пилили зимой, когда в низине лежали двухметровые снега; лесорубы ходили тогда высоко над землей.
«Может быть, и я в жизни хожу, как на ходулях! – подумал Иван Иванович, снова шагая по реке. – Мне-то самому не видно, а другим странно…»
Позади него послышались приближавшиеся голоса, и вскоре из-за крутого выступа берега показались двое: Варвара, а за ней, тоже в лыжном костюме, Ольга.
Плечистая в мохнатом свитере, она подкатила к мужу, намереваясь что-то сказать, но, не сумев затормозить вовремя, подбила его соскользнувшей с мягкого крепления лыжей, и оба упали.
– Я не ушиб тебя? – испуганно спросил он, быстро вставая.
Ольга покачала головой, широко открытыми глазами с каким-то болезненным недоумением глядя на него.
– Нет, я не ушиблась.
Намереваясь подняться, она уперлась каблуком в черный лед, блестевший в снежной борозде, взрытой ею при падении, и громко охнула.
– Зачем же говоришь «нет»! – Иван Иванович подхватил жену под мышки, поднимая, нечаянно прислонился щекой к ее нахолодавшему лицу.
Она вздрогнула, словно от укола, и отстранилась.
– Все уже прошло! – Почему-то не трогаясь с места, она взмахнула ресницами, белыми и мохнатыми от инея, стянув перчатку, прижала теплую ладонь к глазам, жалко и хмуро улыбаясь. – Обмерзли!
– Вернемся домой?.. – предложил Иван Иванович, опытом врача и чутьем любящего человека угадывая боль, которую она скрывала.
– Нет, нет, мы пойдем дальше. Мы специально отправились… С сегодняшнего дня я учу Варю ходить на спортивных лыжах! Таежница, а не умеет бегать на них.
– Да, я все время падаю. Дома у нас только камасовые. Такие короткие, но очень широкие лыжи, подбитые шкурой с оленьих ног. Идешь и идешь, как в больших шлепанцах.
Куртка, штаны, шерстяной с кистями желтый шарф Варвары были в снегу. Она стояла, опираясь на лыжные палки, и, смущенно сжав яркие губы, смотрела на Ивана Ивановича. На лице ее играл нежный, точно наведенный румянец.
Снег перестал, только пролетали изредка мелкие пушинки. Мороз крепчал. Трое двигались вразброд по нетронутой целине богатой пороши. Варя еще падала, но с каждым шагом держалась увереннее. Напряжение, владевшее ее юношески гибким телом, сменялось непринужденной ловкостью. Маленькие ноги в черно-полосатых оленьих унтах, похожие на проворных бурундучков, двигались все быстрее, и все легче скользили узкие полозья лыж, уносивших девушку вниз по реке, белой в черных обрывах береговых террас. Может быть, сейчас, с разгона, одним мощным толчком удастся оторваться от нее и взлететь над речными утесами, над лесом и горами, придавленными серыми тучами. Промелькнуть, как сказочный дух, ловящий золотым арканом небесных оленей, о котором рассказывала в дымной юрте бабка Анна, ослепшая от трахомы. Кто знает наверное, что это только падающие звезды? Откуда и куда они падают?
Взлететь бы, но так, чтобы попасть обратно на милую землю, в свою чистую комнатку у Хижняков, к ребятам-комсомольцам, в дорогую сердцу больницу, где ходил, работал, улыбался и сердился Иван Иванович.
Упав еще один раз, Варя круто развернулась, побежала обратно и неожиданно увидела: те двое стоят, обнявшись, на проложенной ею дорожке. Она хотела снова повернуть, однако странное упрямство заставило ее приблизиться к ним. На нее не обратили никакого внимания, но она сразу заметила, что Ольга плачет, а Иван Иванович с расстроенным и строгим лицом держит ее за плечи так, словно боится уронить.
Не зная, как быть, Варя хотела проскочить мимо, но доктор остановил ее.
– Ольге Павловне нехорошо, – сказал он, и у нее сжалось сердце. – Беги скорее домой, попроси прислать сюда лошадь или оленью нарту.
Едва дослушав, Варя сильно оттолкнулась лыжными палками и поспешно двинулась к прииску. Она не могла видеть Ивана Ивановича таким печальным.
Ольга плачет… Но ведь и он вот-вот заплачет с ней вместе. Этого нельзя было допустить, и девушка, устремившись вперед, совсем перестала падать, а бежала, как самый заправский лыжник, даже не замечая своего достижения. Румяные щеки ее точно засахарились, над верхней губой появились белые усики; она дышала всем ртом, и мороз покрыл инеем ее шапку, шарф и поднятый воротник.
3
Иван Иванович скинул с себя дошку из собачьего меха и, подстелив на снег, усадил на нее Ольгу.
– Ты простудишься, – тихо сказала она.
– Нет, со мной ничего не случится! – ответил он с сожалением.
Потом она покорно ожидала рядом с ним, когда пришлют сани, безмолвная, неподвижная, сжавшись в комочек. Никогда еще так ясно не чувствовал он ее отчужденности и никогда, казалось, не любил так сильно…
Где тот чудный день, когда он привез ее из родильного дома! Она сидела на краю кровати в светлом капоте, с косичками, туго заколотыми над гладким лбом, держала у груди дочь, высматривавшую из пеленок розовым личиком, и заботливо следила, как ротик ребенка сдавливал деснами ее еще по-девичьи плоский сосок. В ее материнском сочувствии, в выражении молодого лица и рук, бережно обнимавших теплый сверток, сказывалась нежность и к Ивану Ивановичу, а он стоял перед женой, одно только ощущая распустившимся от счастья сердцем: любовь к ней и к этому крошечному существу, связавшему их жизни в одно прекрасное целое.
И вот ребенка, смуглой, темноволосой девочки, не стало. Не потому ли пропало чувство у Ольги? Но почему она скрыла беременность? Отчего теперь, когда случилось что-то страшное, так безучастна? Заплакала, но это были слезы страха и жалости к самой себе. Обманываться Иван Иванович уже не мог. Дрожь пробирала его, но не от мороза, а от внутреннего нервного холода.
– Ты простудишься, – снова сказала Ольга и приподнялась с места.
Она заставила его одеться. Натягивая дошку, отыскивая завернувшийся ее рукав, доктор взглянул на жену… Она, вся поникнув, стояла на коленях в своем спортивном лыжном костюме, а вокруг нее расплывалось на снегу черное в полутьме пятно.
– Родная моя! – едва вымолвил потрясенный Иван Иванович.
Он взял Ольгу на руки и, чувствуя, как обмякло ее сразу обессилевшее тело, пошел по свежей лыжне, проложенной на реке. Теперь лишь тревога за жену и нежность к ней владели его душой.
«Почему такое? Зачем такое?» – лихорадочно, безостановочно неотвязно звенело в нем.
Лошадь, бесформенно большая в облаке пара от ее дыхания, как-то вдруг надвинулась на него, он едва успел отступить со своей ношей. Поселок был уже близко, но, только опустив Ольгу в просторные санки, Аржанов почувствовал, как до онемения устали его руки, сел рядом с ней, придерживая, обнял и подумал: «Ей неприятны даже мои прикосновения!» Он откачнулся в сторону, но сразу строго одернул себя: «Человек заболел. Время ли сейчас заниматься объяснениями?» И еще Иван Иванович сказал мысленно, глядя на огоньки, замелькавшие, словно волчьи глаза, сквозь заросли: «Пусть будет, как она решит. Сам я отказаться от нее не могу».
Ольгу, не завозя домой, положили в больницу.
Пока срочно вызванный Гусев мыл руки, Иван Иванович нервно ходил из угла в угол, с тоской и надеждой смотрел на сутулую под белым халатом спину хирурга.
– Может быть, вы сами? – обратился к нему Гусев.
– Нет, нет! – испуганно сказал Иван Иванович. – Вы знаете, как трудно, когда свой человек!..
Операция, от которой обычно отмахиваются крупные хирурги, считая ее пустяковой – которую в экстренном случае может выполнить такая опытная акушерка, как Елена Денисовна, – представлялась теперь Ивану Ивановичу страшно серьезной. Он не мог заставить себя переступить снова порог операционной, где находилась Ольга: все мерещились ее заострившиеся неподвижные черты и руки с посиневшими ногтями. Как переменилась она!
У нее была судорожная икота умирающей, и даже после переливания крови ее лицо осталось мертвенным. Иван Иванович не вынес его как будто осуждающего выражения и удалился, когда Гусев подходил к столу…
Там, за дверью, слышалось только холодное позвякивание инструментов. Потом легкий стон, вскрик – и наступила тишина.
Главный хирург сел на кушетку, покрытую белой клеенкой, облокотился на колени, опустив голову в ладони больших рук. Мимо него проходили люди, что-то говорили, чем-то стучали… Он продолжал сидеть, ничему не внемля, застыв, как изваяние.
– Ну, вот и все! – прозвучал над ним голос Гусева.
Иван Иванович, сам бледный, словно мертвец, посмотрел на него исподлобья, боясь переспросить.
– Все в порядке, – разъяснил Гусев, развязывая тесемки халата. – Хорошо, что нашелся сразу донор нужной группы! У нее первая…
– Она будет жить?
– Конечно, – не понимая растерянности опытного хирурга, ответил Гусев. – Женщины удивительно легко переносят… – Он не договорил, заметив, как задрожали губы у Аржанова. – Что вы, право! Часа через два она начнет уже смеяться.
– Спасибо! – тихо и серьезно сказал Иван Иванович.
Он встал и, осторожно ступая, вошел в операционную. Ольга еще лежала на столе, прикрытая свежей, заутюженной в квадраты простыней, голова ее была повернута набок, глаза плотно смежены. Иван Иванович приложился щекой к ее прохладным волосам.
Она осталась неподвижной, длинные, почти черные ресницы не шевельнулись.
4
С ощущением холодной пустоты проснулась Ольга утром на больничной кровати. Она лежала без подушки, вся вытянувшись и, точно продолжение сна, припоминала падавший снег, лед, черневший в белой, пушистой борозде, потом боль, опоясавшую ее тело. Не очень-то хотелось ей в этот раз сделаться матерью, но раз уж так вышло, то она примирилась с неизбежностью, чтобы заполнить пробел в жизни, сказывалось и подсознательное желание восстановить теплоту отношений с мужем – ведь она не чувствовала к нему ни ненависти, ни презрения, уважая его по-прежнему…
И вдруг ничего нет. Ольга шевельнула под одеялом руками, потрогала чуть втянутый живот и устало закрыла глаза. Она лежала холодная, слабая, вся какая-то пустая: ни мыслей, ни желаний.
Приближавшиеся шаги вывели ее из этого состояния: в палату входил Иван Иванович.
Отведя взгляд от его властного лица, с каким он выслушивал на ходу то, что говорил ему дежурный врач, Ольга заметила пожилую женщину, смирно сидевшую на своей койке. Та смотрела на Ивана Ивановича с материнской ласковой гордостью и просто расцвела, когда он справился о ее здоровье. Избегая встретиться с ним глазами, Ольга увидела, как осветились лица всех находившихся в палате. Его любили здесь. Его ждали. Преодолев волнение, охватившее ее, Ольга повернула голову. Иван Иванович стоял уже около нее. Властное выражение, с которым он вошел в комнату, сменилось робким и радостным. Рослый, широкоплечий, могучий, как дуб на раздолье, он был особенно хорош с доброй улыбкой. Ольга смотрела на него, силилась найти в своей душе хоть искорку прежнего чувства… Она видала его человеческую и мужскую красоту, но эта красота не трогала ее: не гордость, а грусть и сожаление испытала она и с невольным вздохом закрыла глаза.
Иван Иванович присел рядом, взял ее руку, проверяя пульс, это тоже ощущалось ею, как прикосновение чужого человека.
– Как ты чувствуешь себя? – В голосе его Ольге почудился упрек.
– Хорошо. – Она не знала, что муж до утра пробыл в больнице, беспокоясь, не один раз подходил к ее кровати.
– До чего я измучился! – тихо сказал он, прикладывая вялую руку Ольги к своей щеке.
Жалость переборола отчуждение, Ольга ответила слабым пожатием, но ей сразу стало стыдно за это притворство.
Позднее Иван Иванович приходил снова, принес печенья, конфет, фруктов; пробовал заговаривать о разных пустяках. Ольга больше отмалчивалась, а когда он, очень расстроенный, отправился домой, раздала принесенное соседкам по палате: ей самой кусок не шел в горло. Разве ожидала она, что так обернется, когда молодая, правдивая, любящая соединяла свою судьбу с судьбой Ивана Аржанова? Казалось, счастья хватит на целый век! И вот все рухнуло!
Ночью, осторожно повернувшись на бок, Ольга смотрела на окна, щедро выложенные лунным серебром по морозным узорам. Видимо, зима установилась сразу по-настоящему, наверное, все бело, а над белым покоем одиноко бродит ущербная луна. Серебряная нить протянулась от окна к постели Ольги. Стоит протянуть руку – и схватишь ее. Но мертвенным светом скользит меж пальцев лунная пряжа. Ольга рассеянно ловит ее и думает, мучительно, напряженно думает, шевеля рукой, как заигравшийся ребенок. В дальнем углу палаты затянулась беседа; тихо шелестит над койками женский шепот: кому-то еще не спится. И многим не спится в большом доме с просторными замороженными окнами: мучают людей разные боли…








