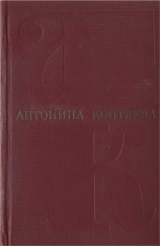
Текст книги "Собрание сочинений. Том 2. Иван Иванович"
Автор книги: Антонина Коптяева
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 27 страниц)
– Эх вы, рационалисты! – вздохнула Пава Романовна.
– Вы хотели бы, чтобы я тоже завешивал окна и двери и сидел в потемках? Что в этом хорошего?
– Возможность побыть с приятным человеком, когда все дрожит от раскатов грома, – с оттенком лукавства сказала Пава Романовна.
«Вот соблазнительница!..» – подумала Ольга, усмехаясь.
Она хотела уйти, но невольно замедлила, прислушиваясь к словам Таврова:
– Я не люблю прятаться по темным углам…
– Не очень-то любезный ответ! – добродушно заметила Пава Романовна и, неожиданно выглянув в окно, увидела на крыльце Ольгу. – Вот вы где попались! Почему не заходите?
Ольга вспомнила посещение рудника вместе с Тавровым и открыла дверь. Пусть он не думает, будто она ничего не сделала!
– Я написала, – сообщила она, едва успев поздороваться с ним. – Но все, что меня так взволновало, на бумаге вышло плохо, несмотря на мое старание.
– Почему вы решили, что плохо?
– Потому… – Ольга замялась, не желая говорить о мнении Ивана Ивановича. – Мне так кажется.
– Кому и о чем вы написали? – с любопытством спросила Пава Романовна.
– Хотела написать в газету, да не получилось, – ответила Ольга безнадежно грустно, но все-таки с беспокойством, проводила взглядом Таврова, отошедшего в сторону, чтобы прочесть ее очерк без помехи.
– Ах, я так завидую писателям, вообще художникам! – защебетала Пава Романовна. – Они свободно располагают своим временем. А какой почет! И они могут иметь любые фамилии.
Ольга вспыхнула от стыда и досады, точно увидела себя в злой карикатуре.
«Зачем я зашла?!» – подумала она с раздражением.
– Идите ко мне! – позвала ее Пава Романовна, устраиваясь с коробкой конфет на диване, заваленном грудой пестрых подушек. – Посмотрите отсюда в окно. Вид прелестный. Я хочу повесить на двери бисерные шторы. Правда, сквозь них все видно, но зато очень нарядно. Бисер цветной и подобран в рисунок. Вы подходите, перед вами экзотические цветы, листья, но шагайте смело: нити заколыхаются, заколыхаются, и вы свободно пройдете сквозь этот блеск.
– Это солнце проглянуло, – рассеянно сказала Ольга, с трудом уловив слова Павы Романовны. – Солнце… дождь идет… и оттого все заблестело. – Руки ее вдруг озябли, и она потерла их нервным движением.
– А вы знаете: это неплохо! – сказал Тавров.
Обе женщины сразу обернулись к нему: одна с жадным интересом, другая встревоженно.
– Вы ему верьте! – посоветовала Пава Романовна, по-своему истолковав хмурый вид Ольги. Он совсем не склонен говорить дамам приятные вещи. Я уже убедилась, что он не беспокоится о впечатлении, которое производит.
– Когда как! – возразил Тавров шутливо и густо покраснел.
– Видите! Я же говорю! – вскричала Пава Романовна. – Страшно похож на вашего Ивана Ивановича: сказал, точно отрубил, и хоть тресни с досады, ему все равно.
– Но я не сказал ничего плохого, – возразил Тавров, чутко уловив выражение печали, промелькнувшее на лице Ольги при последних словах Павы Романовны. – Очерк мне нравится, хотя здесь больше размышления автора. Для газеты потребуется усилить деловую сторону.
– Деловую сторону? Что же вам понравилось в нем?
– Написан свежо, местами взволнованно… Только на руднике вы лучше рассказывали: проще, сердечнее. Почему бы вам не написать так, как вы рассказывали? Тогда дойдет и до тех, кто, подобно вам, не бывал под землей. Это хорошая проба, но лучше переделать по-настоящему.
– Каким образом? – спросила Ольга.
– Возьмите самые существенные факты. И расскажите о них, как о своей личной жизни.
– Проникнуться? – напомнила Ольга, улыбаясь.
– Обязательно! Сходите еще раз на рудник к Мартемьянову. Да, может быть, и не один раз. Возьмите нужные цифры, фамилии рабочих. У вашего безыменного героя (я догадываюсь, кто он) биография просто замечательная. Он уроженец Азербайджана, а здесь, на Севере, чувствует себя дома в полном смысле слова; из месяца в месяц побивает рекорды сибиряков, и семья его у нас освоилась. Большая, милая семья. Вам надо побывать у них. Тогда вам легче будет написать о том, как он работает.
34
Яков Фирсов, вывезенный якутами с вольной старательской разведки, болел тяжело. Тело его, распухшее, неподвижное, было покрыто багрово-синими пятнами – это началось точечное кровоизлияние в мышцы, в кожу, и все новые и новые пятна возникали на огромных руках рабочего-землекопа, на лице и широкой груди, распиравшей ворот узкой больничной рубахи.
«Этакий богатырь… был», – подумал Иван Иванович, присаживаясь у койки и привычным движением отыскивая пульс больного. Тело у страдающих цингой словно сырая глина, и доктор с тяжелым чувством посмотрел на отпечатки своих пальцев на отекшем запястье Фирсова.
Черная болезнь – цинга! Вспомнились рассказы о том, как выбирались с Чажмы артели старателей в тысяча девятьсот двадцатом году, когда на приисках случилась голодовка. Тогда цинга уложила всех, и те, кто пережил зиму, двинулись в путь ползком, спасаясь от смерти, караулившей их в темных, холодных зимовьях. Весна наступила ранняя, недружная. Через горные хребты, через промерзшие болота, по кочкам, на которых ветер теребил обсохшую травяную ветошь, тащились больные люди, прямо с кустов, по-медвежьи, обсасывали прошлогоднюю бруснику, поднимавшую их на ноги, и двигались дальше навстречу первой зелени…
«В то время здесь не было ни шоссе, ни машин, ни огородов, – размышлял Иван Иванович. – Чажма вообще считалась цинготной местностью. А теперь? Осенью и даже зимой есть овощи. Питание улучшено. И все равно по веснам много случаев заболевания цингой. Особенно среди выходцев с дальних приисков».
Доктор сидел на табурете возле койки, забывшись, неотрывно глядел в отекшее лицо Фирсова, но ни глаз его, ни распухших кровавых губ не видел, а только чувствовал его тоску и боль и покорную боязнь смерти. Гневное возмущение против этой покорности, против боли, которую нечем облегчить, все нарастало в душе Ивана Ивановича. Он не мог примириться с тем, что человек без борьбы уходил в небытие.
На столике у изголовья едва вместилась очередная порция усиленного больничного пайка: каша с маслом, тертые овощи, молоко. Но сейчас это уже бесполезно: у больного от малейшего прикосновения выпадают зубы и льется кровь из десен… Хирург вспомнил крупные, непорочно-белые резцы Фирсова, вынутые санитаркой на хлебном мякише при кормлении, и болезненно нахмурился. «Вываливаются, точно бобы из лопнувшего стручка! Нет! Нужно думать о срочной помощи. Есть болезнь – должно быть и лекарство!»
Иван Иванович встал и, прикрыв краем одеяла неподвижные руки Фирсова, сведенные мучительной судорогой, молча двинулся к выходу из палаты. За ним потянулись врачи, сестры и практиканты-фельдшеры.
– Ничего не слышно из области по поводу нашего послания? – спросил его в коридоре глазной врач Широков.
– Пока ничего… – промолвил Иван Иванович.
– Не расстраивайтесь, коллега. Наше дело справедливое.
– Какое письмо получено сегодня больничным месткомом от Петрова, студента Укамчанского горного техникума! – весело сказал подошедший Хижняк. – Перешел на последний курс и всю зиму был отличником.
– Это тот, у которого мы удалили опухоль височной области. – Глаза Ивана Ивановича тоже засияли. – Значит, продолжает учиться?
– Просит местком выразить благодарность хирургу Аржанову и передает сердечный привет. А помните, он ни читать, ни писать уже не мог…
– Я своих больных, которых оперирую, всех помню. Даже если операцию делал лет десять назад. Как встречу – сразу узнаю.
– Да, память у вас завидная. А вот билеты на спектакль второй раз в кабинете забываете. Опять пропали, – упрекнул молодой хирург Сергутов – активист клуба.
– До спектаклей ли? – Иван Иванович снова помрачнел, представив себе выражение лица Скоробогатова, который еле здоровался с ним в последнее время.
– Держись, казак! – сказал Широков, сердито поправляя докторскую шапочку, всегда сидевшую боком на его жестких, густых волосах. – Вы мне, Денис Антонович, дайте письмо от студента. Пошлю ему срочную телеграмму, пусть побывает в обкоме в облздраве и других бывших пациентов Аржанова с собой прихватит. Наглядное доказательство всегда хорошо действует.
– Дай-то бог! – пошутил Сергутов, но пухлые губы его сложились в кислую гримасу. – Гусев теперь стал вмешиваться в каждый пустяк. Кто-то распустил слух о том, что его снова сделают заведующим больницей. Тогда нам, молодым, крышка: он все задушит.
Иван Иванович продолжал обход, переходя из палаты в палату. Гораздо сильнее, чем новое столкновение со Скоробогатовым, его волновало поведение Ольги.
Кто это внушил ей мысль писать в газету? Когда на другой день после чтения очерка он в шутку назвал ее сочинительницей, она вспылила. Назвала его эгоистом и еще наговорила невесть что. Теперь набрала в библиотеке книг – все очерки, – читает и пишет, а в свободное время в бегах. Уже стороной Иван Иванович случайно узнал о том, как она с Мартемьяновым облазила весь рудник и, кажется, снова с ним встречалась. Но мужу не говорит, где бывает, хотя скрытность не в ее характере: на днях сообщила, что отправила в областную газету уже четвертую заметку.
«Если бы серьезно, а то ведь блажь очередная, – с грустью думал Иван Иванович. Так он и Ольге ответил: оскорбила до глубины души ее недоверчивая настороженность. – Как будто я мешал ей проявлять свои способности. Пусть пишет! Чем бы дитя ни тешилось… Но к чему создавать из этого семейную драму? Завтра с таким же пылом может увлечься астрономией… А тут еще цинга!»
– Проштрафился? – обращается доктор к старателю, лежавшему вторую неделю после тяжелой черепной травмы.
Бывалый таежник, смущаясь, точно девочка, показывает на кончике пальца:
– Маленечко, товарищи…
– Зачем же вы нашу работу портите! – говорит Иван Иванович, угрюмо глядя на этот огрубелый палец. – Думаете, не узнаем, если вы украдкой выпьете? Нам мало того, чтобы снять вас со стола живым. И вам этого мало: надо вернуться в первоначальное состояние. Вылечиться и работать.
Возле койки, на которой лежал недавно оперированный шахтер, в повязке, окутывавшей его голову словно белый шлем, Иван Иванович опять замедлил.
Пока он разговаривает с больным, Хижняк шепчется о чем-то с Валерьяном Валентиновичем.
– Вполне достаточно! – говорит невропатолог в твердое, слегка оттопыренное ухо Хижняка, сияя оправой золотых очков и золотыми прядями волос; даже острый нос его, позолоченный веснушками, светится самодовольством.
– Спасибо! – отвечает Хижняк, так стиснув руку невропатолога, что тот крякает. – От всего месткома спасибо! Теперь на эти деньги мы свободно можем отправить Любушку на Урал к ее бабке.
– Какое местное средство существует в тайге против цинги? – спросил Иван Иванович у своих курсантов.
– Чем лечились раньше приисковые рабочие? – пытался выяснить он у горняков.
– Помогает сырая оленья печенка, – сказали эвенки и якуты.
– Надо есть чеснок и квашеную капусту, – посоветовали шахтеры.
– Спирт лучше всего, – заявили таежники-старатели, не раз побывавшие в лапах цинги.
– Пользительны припарки из стланиковой хвои, – утверждали мамки-стряпухи из старательских артелей. – Ягода тоже.
Иван Иванович задумался, припоминая известные ему случаи цинги на полярных зимовьях, в тюрьмах, на пароходах дальнего плавания, в городах во время войны.
Конечно, эта болезнь не имела прямого отношения к главному приисковому хирургу, но он был убежден, что нет в медицине таких областей, которые не касались бы его. Он интересовался всем. То, что северяне страдали от цинги, являлось для него глубоко личным и очень волнующим делом.
Что значит «цинготный район»? Будет ли цинга у жителя Поволжья, который получит рацион чажминского разведчика? Там цинга возможна лишь при страшном голоде, здесь ею болеют и сытые люди.
Иван Иванович вспомнил прошлое… Детство, в дыму и копоти железнодорожной станции, промелькнуло перед ним. Витамины! Озорная усмешка тронула губы доктора. Скачет по шпалам черноногий оборванный мальчишка с волосами ежиком, подбирает то окурок, то корку хлеба, вихрем мчится от станционного сторожа, с ходу врезается в горячую мальчишечью свалку: наших бьют! А дома мать встретит не лаской, не со сдобной булочкой: рука ее, огрубевшая от работы, щедра только на подзатыльники, ведь у нее целая лесенка ребятишек и старше и младше Вани, такие же вечно голодные галчата. Но цинги у них что-то не замечалось. Месяц вся семья буквально голодала, когда Ваньку и его старшего брата устроили в училище (их надо было одеть, обуть). Старшему учиться не довелось: определили на работу, а Ваня уперся и отстоял право на ученье. Отец-грузчик расправлялся с домочадцами жестоко и просто, но, удивленный стойкостью сынишки, стал на его сторону. Однако только революция командировала Ивана Аржанова на рабфак, а затем в Саратовский государственный университет. При небольшой стипендии ему пришлось и учиться и работать, так как он помогал отцу, обремененному семьей. Трудно жилось, о витаминах понятия не имели, а цинги не было. Почему же здесь она свирепствует?
35
Однажды, придя домой раньше обычного, Иван Иванович опять застал Ольгу у письменного стола. Но бумаг перед нею не было. (Теперь все свои записки она запирала на ключ в шкафчике.) Она просто сидела, подперев голову руками, и даже не обернулась на звук шагов Ивана Ивановича. Лишь по легкому движению ее плеч он угадал, что жена слышала, как он вошел.
«Расстроена», – подумал он, нежно проведя ладонью по ее лбу и пушистым волосам.
Ольга приподняла лицо, и он увидел в ее глазах копившиеся слезы.
– О чем ты, Оленька? – спросил он участливо, и тогда слезинки готовно навернулись на большие ресницы и покатились по щекам.
– Что случилось? – повторил Иван Иванович уже тревожно.
– Не напечатали, – сказала Ольга сквозь слезы. – Только один… о бурильщиках, и то выбросили все, что я сама… Только факты! Осталось… от заметки… ну, просто несколько строчек…
– Вот видишь! Я говорил! – добродушно сказал Иван Иванович, тронутый искренностью ее, как ему казалось, маленького горя. – Такими вещами можно заниматься лишь попутно с основной работой. Я ведь тоже пишу в газету и о фельдшерских курсах, и о больничных делах. У меня даже научные брошюрки есть, но я совсем не стремлюсь стать профессиональным литератором… Каждый грамотный человек хоть раз в жизни что-нибудь сочинит, в стенную газету да напишет.
Слезы Ольги сразу высохли. Она сидела, вся выпрямись, и слушала, не перебивая, речи Ивана Ивановича, пока он сам не заметил ее враждебного выражения.
– Опять обиделась! – сказал он с горечью.
– Стоит ли обижаться, раз ты не хочешь понять, – ответила она с небрежностью, за которой таился гнев. – Ты пишешь в газету, каждый грамотный!.. Ведь вы о своем любимом деле пишете, когда волнуетесь, болеете за него. Поэтому у вас и получается попутно. А о чем я буду писать попутно? У меня ничего другого нет! Я плачу потому, что тоже хочу быть настоящим человеком и не могу примириться со своей новой неудачей. И не примирюсь! Пусть меня еще не напечатают. Десять, двадцать раз не напечатают. А я все равно буду писать.
– Это бывает. Для того чтобы достигнуть цели, надо много работать, – сказал Ольге Тавров в гостеприимном доме Павы Романовны.
Пава Романовна могла бы «поклясться честью», что Тавров влюблен в Ольгу: когда человек краснеет и бледнеет при одном упоминании женского имени, тут трудно ошибиться. Но сколько она ни прислушивалась и ни приглядывалась, ничего такого интимного между ними не происходило. Они читали сочинения Ольги, которыми Пава Романовна искренне восхищалась, как и стихами Игоря Коробицына (она даже предлагала устроить более открытые обсуждения, льстя себя мыслью о подобии литературного салона); рассуждали о музыке, театрах, политике, играли в шахматы. Иногда Пава Романовна завидовала возможности таких отношений, необычных, по ее понятиям, между мужчиной и женщиной данного возраста. Это было гораздо привлекательнее простого флирта, но и требовало от женщины чего-то большего, чем ловкое кокетство и умение вести занимательный разговор. Каким образом можно удерживать влюбленного мужчину в границах серьезной, юношески чистой и преданной дружбы?
И сегодня, когда Ольга пришла очень расстроенная, он утешает ее просто, как брат родной!
– Всюду завистники и негодяи! – энергично заявила, в свою очередь, Пава Романовна, узнав о неудаче Ольги. – Ничего, милочка, вы не обращайте на них внимания. Если бы я могла так складно писать, я бы для собственного удовольствия сочиняла.
Слушая ее, Ольга почти виновато взглядывала на Таврова, но тот относился к болтовне Павы Романовны снисходительно.
– Насчет завистников и негодяев – это вы зря, – сказал он ей, рассеянно поглаживая баловницу кошку, которая ластилась к нему, мурлыча и толкая его зеленоглазой мордочкой. – Просто газетные работники иногда пугаются вещей, написанных не по шаблону. Да и Ольга Павловна еще не научилась писать. Знаете, что я вам посоветую?.. – обратился он к Ольге.
Она сидела близко и так прямо посмотрела на него, что на минуту он потерял душевное равновесие. Однако открытый взгляд ее выражал лишь грусть и доверие. Тавров нахмурился, улавливая утраченную мысль, а рука его почти с нежностью потянулась снова к кошке, свернувшейся рядом в теплый и мягкий клубок.
– В самом деле, пишите больше, чаще бывайте на производстве…
Для «собственного удовольствия». – Ольга усмехнулась. – Я, правда, нетерпелива: только начала, а хочу немедленного признания. Но теперь не отступлюсь так просто. Чтобы стать хорошим механиком, нужно пять лет специального обучения да практика… А работать в газете еще более серьезное дело.
– Значит, стоит потрудиться! – весело договорил за нее Тавров. – Напишите очерк о женщинах-националках, пришедших на производство в последние годы, таких, как Варя Громова. О ней одной стоит написать. И напишите о Чажме.
36
– Не плачь, умница! – дрогнувшим голосом сказал Иван Иванович, задерживая в своей ладони узенькую руку девочки. Это была Люба – дочь женщины, умершей на операционном столе, школьница в темном платье, с белым воротником вокруг тонкой шейки и туго заплетенными короткими косами. Слезы еще текли по ее лицу, розовому от горестного волнения, но она вытерла их левой рукой, тыльной стороной кулачка, в котором крепко зажала ремень кожаной сумки, и вскинула на высокого доктора карие глаза, ясно блестевшие в мокрых ресницах.
– Я пришла сказать вам спасибо за деньги, за все…
– Полно, голубчик! – Иван Иванович, очень расстроенный, стоически выдержал взгляд осиротевшего ребенка. – За помощь надо Дениса Антоновича благодарить. Да никого не надо благодарить! Мы обязаны помочь…
– Нет, не обязаны. Ведь вы не виноваты в том, что мама умерла. – Глаза Любы опять налились слезами. – Мама так страдала от головных болей. Так мучилась!.. Просто не знала, куда деваться. А губы искусывала в кровь, только бы не кричать. Какая уж это жизнь для нее была! – с интонацией взрослого человека, возможно, с чужих слов, но с глубокой чистой печалью говорила девочка.
Отец ее утонул в прошлом году в Чажме, и после смерти матери она осталась одна.
– Вот доля хирурга! – сказал Хижняк, возвратясь в комнату, где помещался местком. – За больного переживай, да еще родственники почти у каждого есть. О них помнить надо!
– Хорошо, что нашлись попутчики до места жительства, – задумчиво отозвалась Елена Денисовна, забежавшая к мужу на минутку. – Славная девочка, так жалко ее! Я бы с охотой взяла ее в дети.
Хижняк сразу встрепенулся:
– О чем мы до сих пор думали?..
– Я с ней разговаривала. И не только я – Ольга Павловна тоже. Им вовсе хорошо было бы взять ребенка, раз своих нет.
– Ну и как?
– Отказалась. К бабке хочет.
Синие глаза Хижняка заволоклись дымкой грусти.
– Осталась сирота, как пташка нежная, в самом беззащитном возрасте! Но у нас хоть есть кому о ней позаботиться, и от государства пенсию получать будет. А сколько сейчас остается безнадзорных по белому свету в Англии, в Германии! Развязали войну проклятые господа, чтоб им провалиться!
– Люба похожа немножко на нашу Леночку, только ей уже десять лет, и не по годам развитая, – говорила Ольга Ивану Ивановичу. – Как взрослеют дети, переживая горе!
Она взглянула исподлобья в лицо мужа и умолкла, вспомнив свое недавнее столкновение с ним по поводу его работы. В самом деле, какую большую ответственность берет он на себя по доброй воле!
Но Иван Иванович не слышал последних слов Ольги, внимание его в это время привлек приисковый механик Игорь Коробицын.
На Игоре были клетчатые брюки с манжетами под коленом, пестрые чулки и туфли на толстой каучуковой подошве. Белая, заправленная под пояс брюк рубашка с мелкой вышивкой и розовыми ленточками у воротника, походила на женскую кофту.
Глянув на эти ленточки, Иван Иванович сразу развеселился.
– Какой день! Какой прекрасный день! – торопливо заговорил Игорь, еще более худощавый под большим козырьком сверхмодного кепи. – Иван Иванович, Ольга Павловна! Желаете пойти с экскурсией по горам? Завтра организуем компанию. Пава Романовна тоже примет участие…
Иван Иванович решил было отказаться, но, посмотрев на Ольгу, спросил:
– Пойдем, что ли?
– Если тебе хочется…
– Ужасно хочется, – протянул Иван Иванович, глядя вслед Игорю. – Нарядился-то! Серьезный работник, а с виду – шут гороховый! Я чуть не фыркнул, когда рассмотрел его ленточки… Прямо как тот, который приезжал к Левиным. Помнишь у Толстого?.. Ну, еще Левин выгнал его…
– Васенька Весловский, – вспомнила Ольга. – Только ничего общего. Васенька походил на жирного поросенка, и ленточки у него были на шляпе.
– Нет, не на шляпе, – заспорил Иван Иванович. – Впрочем, сходство действительно не в этих вязочках, а в том, что я тоже выгоню его когда-нибудь. Очень уж любезничает с тобой!
– Коробицын со всеми любезен. Зачем обижать его?
37
– Мы отправимся пешком, – приказала Пава Романовна. – Никаких велосипедов! Зачем они, если пойдем по горным хребтам? Доехать раньше других по шоссе? Это эгоистично.
– Есть все пешком! Эгоисты, спешивайтесь! – Игорь Коробицын первый весело покатил свой велосипед по дорожке к сараю.
– Многие на материке думают, что у нас лишь медведи да глухие тропы, а здесь асфальт превосходный. Даже нейрохирурги есть, – сказал Тавров.
– Да, но и цинга еще есть, – в тон ему промолвил Иван Иванович, пытливо посматривая на жену, огорченную решением Павы Романовны и с явной неохотой расставшуюся с взятым напрокат велосипедом.
«Как же это она: пригласила меня на прогулку, а сама хотела укатить вперед с молодыми шалопаями!»
Ему вспомнилась первая встреча с Ольгой. Он возвращался домой после работы. На бульваре свежо зеленели деревья. Только что прошел дождь, и маленькие следы детей, бегавших по аллее, четко отпечатывались на влажном песке. Вдыхая запахи молодой листвы и травы, Иван Иванович пересек бульвар. Звонок велосипедиста заставил его оглянуться. По улице быстро мчалась девушка. Загорелые руки ее твердо лежали на руле, ноги были стройны и тоже смуглы. Поглядывая по сторонам, она повертывала головой, и светлые волосы то отлетали, то снова падали на плечи, обтянутые белой майкой…
Улыбка удовольствия и гордости тронула губы Ивана Ивановича при этом воспоминании.
– Пойдемте! – сказал ему Тавров, и они двинулись всей компанией, нагруженные кто рюкзаком, кто корзинкой с продовольствием.
– Почему же не пригласили Варю? – спохватился Иван Иванович, увидев Варвару, которая шла по улице вместе с Логуновым. – Платон Артемович, присоединяйтесь к нам!
– Мне сегодня некогда. Просто невозможно, – с сожалением сказал Логунов.
– А может, пойдем? – предложила Варвара нерешительно. – Я отказалась вчера… У меня вся неделя была очень занята, и я отложила многие дела на выходной. Но сейчас мне захотелось отдохнуть. День такой хороший. Как вы думаете, Платон?
– Нет, Варя, я не могу. – Логунов покосился на Таврова и добавил вполголоса: – Ты сегодня непоследовательна: собиралась заниматься, а после обеда играть в теннис.
Варвара только тряхнула косами, уже присоединяясь к уходящим.
– Не всегда же быть последовательной! Я очень устала за эти дни, а заниматься надо с ясной головой. На горах теперь привольно: и комаров, и злобных мошек разогнал ветер. Дедушка медведь, козы, олешки – все уходят сейчас из долин на вершины.
– Жаль, что он не пошел с нами! – сказала Варвара Ивану Ивановичу, когда все, свернув с дороги, поднимались по крутому склону. – Он славный, мой Платон Логунов. Правда?
– Очень хороший. Но почему ты говоришь: мой Платон? Разве выходишь за него замуж?
– Я еще не решила. И, наверно, не решу. Но он любит меня, и я радуюсь…
Иван Иванович весело рассмеялся:
– Значит, ты тоже любишь его.
– Не смейтесь, – попросила Варвара. – Если вам смешно, то мне… мне совсем не смешно. Это очень серьезное дело, – быстро добавила она, сломив мимоходом ветку кедрового стланика и кусая острыми зубами молодой побег, пахнущий хвоей и смолкой.
– Ты словно коза: нет того куста, с которого не попробуешь сорвать что-нибудь. Варя по пути обгрызает каждое дерево, – шутливо сказал он Ольге, легко шагавшей по другую сторону. – То траву жует, то березку обсасывает.
Варвара смутилась.
– Ешьте все, как я, и у вас не будет цинги.
– Не будет цинги? – Иван Иванович подхватил брошенную ею ветку. – Вот сила жизни! – сказал он, глядя, как выпрямлялась смятая им хвоя. – Здесь нет ни сосен, ни елей, а кедр прижился, выродившись в кустарник. Почему я не обращал на него внимания до сих пор? Да-да-да! Ты посмотри, Оля, до чего он красив! А растет и на голых каменистых вершинах гор, и по берегам рек. Лепится всюду! – Иван Иванович тоже покусал и пожевал смолистый побег. – Ты знаешь, у него и вкус приятный. Попробуй!
– Я не Варвара, – возразила Ольга холодно.
– Эти мохнатые кусты похожи на раскиданные шубы. Ей-богу! – не замечая ее отчужденности, с увлечением говорил Иван Иванович. Утверждают, будто припарки из стланика полезны при ревматизме и цинге. А его тут так много! Почему он растет именно в цинготных местностях?
Ольга знала способность мужа увлекаться попутными делами и его редкостную настойчивость.
– Попробуй разгадай эту загадку.
– Постараюсь! Этот кедр перехитрил даже суровый климат. Зимой, при морозе в шестьдесят градусов, дремлет себе под снегом живой, зеленый.
– Впереди площадка! – перебила мужа Ольга. – Ну, скорее! Мы первые будем там.
– Нет, первая буду я! – крикнула Варвара.
– И мы! – ответил Иван Иванович, подхватывая Ольгу под локоть.
Почти одновременно они трое выскочили на ровное, как стол, плоскогорье, будто нарочно покрытое слоем мелкого щебня. Над щебнем, подернутым ржавой зеленью лишайников, диковинно разрослись громадные кусты кедрового стланика.
– Сколько орехов будет здесь осенью! – сказала Варя.
– Эти кусты… нет, всю площадку перенести бы на прииск! Вот был бы сад! – размечталась Ольга. – Как хорошо гулять между такими кустами – просто южное что-то!
– Здесь мы устроим привал! – скомандовала Пава Романовна, глубоко дыша полуоткрытым ртом.
Она вся разрумянилась, но шла легко, покачивая располневшим станом.
– Прелесть, до чего хорошо! – Она перевела дыхание, смахнула пот с лица маленькой, мягкой ручкой. – Эта тренировка – ходить пешком – очень полезна… В моем положении особенно.
Иван Иванович мельком оглянул приисковую львицу. Цветущий вид здоровой будущей матери был симпатичен ему, но, вспомнив о ее ветрености, он подумал: «В работу бы тебя, а то жиры кипят!»
– Правда, хорошо! – восклицала Пава Романовна, пока остальные устраивали место для привала.
– Что делает ваш муж? – обратилась она к Ольге, посмотрев на Ивана Ивановича, который срезал перочинным ножом молодые побеги стланика.
– Он решил использовать хвою для лечения больных.
38
– Работаете? – спросил Тавров.
– Да. Очень много вижу каждый день, а потом мучаюсь у письменного стола. Так неспокойно: пишу, а не нравится, не нравится, а пишу! Хочется найти какие-то новые слова… Горит на душе, да выразить не умею. – Ольга задумалась на минуту. – Кажется, теперь все-таки лучше получается: начинаю находить опорные точки, меньше растекаюсь по пустякам. Трудно, но и радостно.
Тавров смотрел на нее с любовным сочувствием, счастливый тем, что смог подсказать ей занятие, которым она заинтересовалась по-настоящему.
– Вы только послушайте! Какие замечательные стихи! – громко говорил Игорь Коробицын.
Девушка моего наречия,
по-весеннему тиха и смугла,
приходила ко мне под вечер
быть любимой, и не могла…
…И глаза ее темные, темные
тихой грустью цвели, цвели…
– Она похожа на Варвару! Варя, вы девушка моего наречия…
– Ничего подобного! – категорически запротестовала Пава Романовна. – Варя – комок энергии, и цвет лица у нее – дай боже! А та, которая приходила к вам, такая постная. Не мудрено, что она не могла быть любимой.
Раздался общий смех.
Они снова шли по узкой стежке, пробитой копытцами коз и горных баранов, утоптанной лапами медведей. Тропинка тянулась по самому гребню хребта, то острому, то сглаженному в седловинах, заросших мхами. Легко и весело было идти по ней. Все оживленно перекликались, опьяненные солнцем, светом, воздухом, далеко раскрытыми просторами; съезжали, сидя, в распадки по упруго скользкому пышному дерновнику белого мха – ягеля; пели, швыряли вниз теплые камни. Только Гусев, неожиданно очутившийся в компании, вел себя, как обычно, сдержанно. Мальчишеские выходки взрослых людей явно смущали его, и он с подчеркнуто озабоченным видом поправлял без надобности свой аккуратный костюм.
– Зачем он пошел?! – сказала Варвара Ольге, пожимая тонкими плечиками. – Сидел бы лучше дома и играл в преферанс! Тащится, будто черная тень!
Ольга, захваченная общим настроением, развеселилась: сбросив жакет, швыряла камни с высоты, гонялась за юркими чернополосатыми бурундучками, дразнившими людей озорным свистом.
– Стряхните его! – попросила она Таврова, когда зверек, вспугнутый ею, как белка взлетел на верхушку молодой лиственницы.
Вдвоем они крепко потрясли деревцо. Легкие соринки посыпались сверху на их поднятые лица, на бронзовые руки Ольги и ее светлые волосы. Впервые Тавров увидел так близко ее смеющийся рот. Руки их встретились, будто нечаянно, и Ольгу точно подменили: она сразу снова замкнулась, нахмурилась.
«Вот тебе урок! – подумал Тавров, пораженный ее внезапной враждебностью. – Она расположена к тебе за дружескую помощь и сочувствие, а ты уже готов заключить ее в объятия!» Но так больно задело его это, что он снова подошел к ней.
– Не сердитесь! Поймите человека, который любит вас больше всего на свете.
– Не говорите таких слов! – строго сказала Ольга. – Я вам благодарна и ценю в вас лучшего своего товарища, но я не хочу… не могу терять права открыто смотреть в глаза Ивану Ивановичу.








