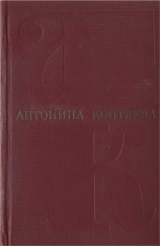
Текст книги "Собрание сочинений. Том 2. Иван Иванович"
Автор книги: Антонина Коптяева
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 27 страниц)
– Вы уже чудесно выглядите! – сказала Пава Романовна, кладя на столик пакеты и пакетики. – Вот бисквиты, шоколад, это вот от Игоря засахаренные фрукты. Я специально посылала нынче шофера в Укамчан за сладким для детей. Дети растут, им нужно сладкое. Приятно, если они вообще ни в чем не имеют отказа. Детство не повторится в жизни человека… – Пава Романовна на минутку умолкла, вспоминая собственную, ничем не примечательную юность. – Ланделий съел сразу почти кило шоколада. Потом ему пришлось давать слабительное. Мальчик со странными наклонностями: все бьет, ломает, но волевой, клянусь честью: чего не захочет сделать, не заставишь никакими силами. А Камилочка – кокетка: целый час может вертеться перед зеркалом, но тоже все ломает.
Почему они не берегут вещи? По-моему, это от презрения к частной собственности, – добавила Пава Романовна, испытывая смутную потребность оправдать поступки своих детей.
– Еще бы! – Ольгу уже начинала раздражать болтовня приятельницы.
– Говорят, не сегодня-завтра немцы начнут вторжение в Англию, – сообщила та, неожиданно вспомнив и о международных делах. – На берегу реки Ла-Манша…
– Пролива…
– Да-да, на берегу пролива… все уже подготовлено. Немцы сделали три тысячи плотов, которые будут сцепляться по шесть штук вместе. Потом их покроют бронированными плитами. Получится мост. По нему пойдут на английский берег пехота и танки, а вверху самолеты, самолеты… Это должно быть красиво! Клянусь честью! Они ждут только подходящей погоды, чтобы туман и спокойное море… Ах, как мне хочется побывать на море! В Сочи хочется! Ах, Сочи, Сочи! Там еще розы цветут вовсю!.. Да, я забыла, тут миндаль очищенный… Но самое-то главное!.. – спохватилась Пава Романовна, вынимая из-под накинутого на платье больничного халата модную кожаную сумку с глубокими складками и блестящими застежками.
– Обычно говорят сначала о главном, а потом о пустяках, – щебетала она при этом, – а у меня всегда наоборот, о серьезных вещах я почему-то забываю. Так, пожалуй, естественно: всплывает раньше то, что легче… – И Пава Романовна покосилась на Ольгу смеющимся глазом.
Она очень долго рылась в сумке. Ольге даже захотелось приподняться и самой заглянуть туда. Чем собиралась удивить ее беззаботная вертушка?
– Вы запретили мне упоминать об этом человеке. – Пава Романовна пытливо взглянула на Ольгу, и хорошенькие веселые ямочки заиграли снова на ее толстощеком лице. – Сегодня я рискнула принять от него поручение потому, что дело идет не только о личных чувствах: он поздравляет вас…
– С чем?
– С новым литературным успехом. С каким именно, он мне не сообщил… – Пава Романовна наконец-то зацепила за уголок конверт и потянула его кверху. – Тут вырезка из одной московской газеты, – все-таки не утерпев, проболталась она, следя за выражением Ольги. – Вы только представьте: вас напечатали в Москве! Это значит, ваше имя прогремело по всей стране!
– Будет вам! Зачем такие слова? – с искренним недовольством и даже боязнью перебила ее Ольга.
Она взяла письмо, положила его под подушку и, придерживая ладонью, точно боялась, что оно исчезнет, зажмурилась от слабости и волнения.
Когда Пава Романовна ушла, Ольга достала конверт, осторожно вскрыла. Сердце ее сильно билось.
«Я счастлив возможностью сообщить вам приятную весть, – писал Тавров. – Газета, в которую вы обратились, напечатала ваш очерк. Если есть сокращения и маленькие изменения, то пусть это вас не огорчает. Первые ваши шаги удачны. Я вижу, вы не теряете даром времени, избавившись от некоторых излишних знакомств.
Желаю вам успеха.
Ваш Борис Тавров».
– Мой Борис Тавров! – прошептала Ольга.
Она спрятала письмо под одеяло у самого горла, задыхаясь от шершаво-ласкового прикосновения бумаги, от одного-единственного слова, нарушавшего деловой тон записки. Потом она развернула вырезку из газеты.
У нее опять сильно забилось сердце, когда она увидела свою фамилию, крупно набранную под пятью колонками убористого газетного шрифта. Чуть успокоясь, Ольга прочитала очерк. Изменения действительно были, но на этот раз они не огорчили ее.
«Неужели это я сама так хорошо написала?» – подумала она, приятно ошеломленная, уронив уставшие руки. Ей даже показалось, что в сокращенном виде очерк выглядит лучше. Уверившись в том, она испытала благодарность и к редакторам газеты: ее поняли, почувствовали то, что она хотела выразить.
Теперь Ольгу приятно радовало даже ощущение свежести, исходившее от чистого, хорошо проглаженного пододеяльника, в котором желтело плюшевое одеяло.
«Какие богатые здесь одеяла!» – подумала она, обводя проясневшим взглядом светлую комнату, уставленную двумя рядами кроватей, на которых сидели и лежали больные женщины.
Где-то стонала роженица, рядом, за стеной, нетерпеливо плакали, кричали голодные сосунки, и няни пробегали мимо открытой двери, неся на руках по одному и по два туго завернутых живых пакетика: был час кормления.
Ольга сочувственно улыбнулась и с остановившейся улыбкой прислушалась к голосам, приглушенно звучавшим в палате: разговаривали о войне.
– Сколько мирных людей погибло, – говорила многодетная пожилая мать. – За одну ночь… Ведь сбрасывают бомбы весом до тысячи восьмисот килограммов. Такая сразу целую улицу домов разнесет. В пыль. В щебень. Заживо хоронят…
Ольга слушала. Улыбка медленно сбегала с ее лица: пожар, разгоравшийся над миром за тридевять земель отсюда, опалял тревогой.
5
В операционной еще не рассеялся сладковатый запах эфира; только что сняли со стола и увезли в палату больного, которого Иван Иванович оперировал по поводу язвы желудка. Настороженно вдыхая странный запах и боязливо посматривая по сторонам, вошел темнокожий, в белом больничном белье, пожилой якут, коренастый и крепкий, как лиственничный пень. Вместе с Никитой Бурцевым он приблизился к столу и остановился, придерживая просторную рубашку.
– Рубашку надо снять, – сказал Никита, взяв его за левую руку, неподвижно висевшую в несмятом рукаве.
Он помог якуту стянуть рубаху и оглянулся на дверь в соседнюю комнату. Иван Иванович решил сделать вторую операцию без перерыва, но не слышно было, чтобы он сам готовился.
– Укол морфия сделаем на столе, – остановил Никиту, потянувшегося за шприцом, ассистент Сергутов. – Пока Иван Иванович будет мыть руки, пройдет больше десяти минут.
Якут лег на стол, закинув вверх подбородком крупную на короткой шее голову, мощные его ребра сразу выперли полудужьями над опавшим смуглым животом. Дышал он прерывисто и сипло.
– Не надо бояться! Иван Иванович сделает все быстро и хорошо, – сказала Варвара по-якутски. – Это медведь изломал его, – пояснила она, следя за движениями пальцев Сергутова, ощупывавших плотные сизые рубцы ниже локтя охотника. – Второй год рука не действует. Где он помял тебя, Амосов?
– На Ульбее, – глухо ответил Амосов, косясь на блестящую штуку, похожую на большой серебряный патрон с длинной иглой наверху, которую, точно собираясь выстрелить ею, подносил к нему Никита Бурцев.
– На Ульбее, – повторила девушка, с улыбкой посмотрев на охотника, вздрогнувшего скорее от страха, чем от укола. – Как же ты, медведя не боялся, а тут дрожишь? Он этого медведя ножом убил, когда тот навалился на него, – сообщила она Сергутову. – Зверь успел помять его, да больше сил не хватило – издох. – И Варвара выжидательно обернулась к дверям предоперационной.
Аржанова все еще не было.
«Что с ним?» – удивленно-тревожно подумала она и быстрыми шагами прошла в кабинет главного хирурга.
Он сидел у своего стола, странно выгнув поднятые плечи. Около него стоял нетронутый стакан остывшего чая, папироса опала палочкой пепла на блюдце и погасла.
– Иван Иванович! – вдруг оробев, окликнула Варвара.
Он не пошевельнулся. Тогда она подошла ближе. Доктор вздрогнул, поднял голову.
Теперь вздрогнула Варя, встретив его точно неживой взгляд. Лицо хирурга, непривычно неподвижное, его фигура, скованная каким-то внутренним оцепенением, поразили ее.
Девушка помедлила, точно его оцепенение передалось и ей. Он продолжал молчать. Тогда верное чутье любящего человека подсказало ей нужные слова.
– Больной уже на столе и подготовлен к операции, – твердо доложила она, всем тоном подчеркивая первостепенную важность именно этого.
И Иван Иванович, тоже, может быть, подсознательно, подчинился ее деловому настроению.
6
Вся жизнь показалась ему теперь в совершенно ином свете: бесконечная занятость и, словно солнечные полянки в дремучем лесу, часы, проведенные с семьей. С Ольгой тепло и радостно, но он рвался от нее в свои дебри, как рвется страстный охотник, искатель, разведчик. Отчего он столько сил отдавал работе, забывая о семье, об отдыхе, о милых радостях жизни? Разве ему больше всех было нужно? Не зря ведь его называли то аскетом, то одержимым! Неужели за это его разлюбила жена? Почему они не шли вместе, рядом, плечом к плечу? Кто виноват, что у них так получилось? Ведь Ольга тоже стремилась к труду, отчего же отставала?
Как грустно было ее лицо, когда они сидели с Логуновым на скамейке под тополем…
«Угораздило меня подсунуть ей перевод этой книжонки!» – думал Иван Иванович, крупно шагая за медицинской сестрой, спешившей в операционную.
Машинально он мыл и протирал руки, надевал с помощью Варвары стерильный халат поверх клеенчатого белого фартука и резиновые перчатки и, почти не слушая пояснений Сергутова, подошел к больному. Он сам знал его историю, осматривал и изучал операционное поле. Интересная, но безразличная сейчас операция. Больной лежит на спине. Лицо его со стороны хирурга прикрыто простыней: ему не полагается видеть, что станут делать с его рукой, протянутой из-под простыни вверх ладонью на маленький, вплотную придвинутый столик-платформочку. Вся эта рука до локтя ярко-желтая: смазана йодом. Следы клыков зверя, растерзавших ее, стянули кожу тугими рубцами. Пальцы собрались крючьями в неплотно сжатую горсть, да так и застыли. Срединный нерв явно поврежден.
– Укол будет, – коротко предупредил Иван Иванович.
Он взял шприц с раствором новокаина, примерился, затем сделал двойной ряд уколов – сначала поверхностно, а потом глубже, и под кожей вздулся продолговатый валик.
– Больно?
– Немножко, – перевела Варя ответ охотника.
Иван Иванович делает длинный разрез скальпелем от шрама вниз.
В рану вводится расширитель. В разрезе белеет рубец – сросшаяся как пришлось порванная ткань.
– Зонд!
Варвара сразу находит в своем сверкающем хозяйстве изогнутый инструмент с узким и длинным клювиком, с желобком посредине и вручает его хирургу.
Иван Иванович еще сгибает зонд, с заметным усилием запускает его под рубец.
– Нигде не отдает?
– Нет.
Хирург рассекает твердую рубцовую ткань над желобком зонда, чтобы не задеть случайно ниже лежащий нерв, разрезает ножницами, останавливает легкое кровотечение током и снова берется за скальпель, расчищая себе дорожку среди рубцов измененной ткани.
– Все перепутано, – цедит он сквозь зубы. – Вот сухожилие, обычно оно белое, гладкое, как шелковые нитки, а тут сплошные комки. Рассечен остаток рубца над нервом. – Этот кусочек можно бы отрезать, чтобы он не мешал, – вполголоса советует Сергутов.
– Отрезать все можно, – глухо возражает Иван Иванович, – а вот пришить…
Он делает паузу, продолжая свое кропотливое дело. Теперь нерв, округлый и светлый, толщиной в карандаш, лежит на дне разреза, выделенный из рубцовых сращений.
– Здесь испытывать электродом проводимость не понадобится, – негромко говорит Аржанов. – Картина ясная.
Действительно, картина ясная: в нижней половине операционной раны разорванный нерв разошелся сантиметра на полтора.
– Освежим концы и будем его сшивать…
– Натяжением? – спрашивает Сергутов.
– Да, тут натянуть легко.
Придерживая пинцетами освеженные им концы, Иван Иванович медленно и плавно потягивает их, пока они не сходятся. Плотно сведя края нерва, он сшивает его оболочку.
– Дайте шелк тоньше! Этот очень толстый! Куда, к черту, он годится! – раздраженно и нетерпеливо бросает он Варваре.
Та вспыхивает, даже маленькие уши ее с круглыми, нежно припухлыми мочками краснеют. Но она покорно и понимающе молчит, быстро вдевая в иглу нужную нитку.
Зашив подкожную клетчатку, доктор так же нетерпеливо говорит:
– Давайте шить кожу.
Иглодержатели как будто сами собой попадают в его руки, а он хмурится, но на лице Варвары уже полное спокойствие. Она стоит наготове у своего столика и по-хозяйски смотрит на операцию. Все понятно ей: и состояние больного, и сделанная работа, и даже настроение хирурга.
– Завязывайте только до сближения, чтобы не собирать кожу. Так шов будет красивее, – наказывает Иван Иванович Сергутову, выправляя сшитые края пинцетом.
Нерв сшит, и мысли хирурга уже далеко. Проводка налажена, но тока по ней еще нет. Омертвелый конец нерва должен заново прорасти пучками нейритов, которые начнут расти от места перерыва вниз по нервному стволу, по всем его разветвлениям до мельчайших точечных окончаний в коже, осязающих и чувствующих. Нейриты растут медленно, по одному миллиметру в сутки, и омертвелая рука так же медленно начнет оживать.
Ассистент Сергутов накладывает повязку, Варвара перебирает оставшийся стерильный инструмент, искоса поглядывая на Ивана Ивановича. Он закончил дело, но еще стоит у операционного стола в тяжелой задумчивости…
Больной поворачивает голову, сдвигает здоровый рукой простыню и смотрит на Ивана Ивановича запоминающим взглядом.
– Спасибо, дохтур! – неожиданно по-русски говорит он.
И такая благодарность и уверенность в исцелении звучат в его хриплом голосе, что Аржанову становится неловко за свое вынужденное безразличие.
– Ты думаешь, все уже хорошо? – отвечает он с грустной улыбкой. – Это, друг, долгое дело! Месяца четыре… Понимаешь ты: четыре месяца, не меньше, надо ждать, пока сила сюда придет. – Хирург трогает холодную кисть охотника. – Ждать надо.
– Подождем. Ничего-о! – простодушно улыбаясь, обещает якут. – Хорошо ждать – хорошо. Плохо ждать – беда!
7
Грязные сумерки сгущались за окном. В мутной мгле беспорядочно сплетались черные ветви тополей: снег скатывался с гладкой коры молодых деревьев, и они как будто зябко жались друг к другу. Тополя сюда, к больнице, на высокую террасу долины перетащил с берега речки Хижняк. Упрямый, он хотел переупрямить северную природу, но тыква в три пуда не удалась, неохотно приживались на новом месте и тополя: болели, хирели, чахли листом, пока не выросла за ними живая изгородь тоненьких лиственниц с подсадкой ольхи. Фельдшер создавал сад вокруг больницы, сетуя на скудость северной природы: елочек бы! Не доверяя старожилам, он сам облазил ближние горы и долины: ни елок, ни сосны – сплошное чернолесье зимой, когда стланик ложится под тяжестью снега.
Иван Иванович стоял у окна, смотрел на переплет тонких ветвей на сером вечернем небе, и ему хотелось заскулить от тоски, давящей сердце.
Лицо Ольги неотступно стояло перед ним. Прекрасное, но холодное лицо, смуглевшее на белизне подушки, с твердо сжатым ртом и бровями, изогнутыми не то скорбно, не то устало-недовольно…
«Уйди!» – без слов говорило оно; это же выразило движение руки, слабо дрогнувшей в ответ на пожатие и сразу скользнувшей под одеяло.
– Все еще неважно себя чувствую, – сказала Ольга, накрываясь до подбородка, до самых губ, а глаза ее блестели сердито, и в каждой черте сквозило нетерпеливое раздражение.
Он ушел из палаты и вот стоит у себя в кабинете и не может тронуться с места. Куда идти? Ведь эта больница его второй дом, по-настоящему свой дом с тех пор, как он почувствовал охлаждение Ольги. Сюда он скрывался от сомнений, здесь забывался, горел в работе. А сейчас и здесь устремлен на него уничтожающий взгляд – уйди!
Иван Иванович шагает взад и вперед по кабинету, представляет пустоту квартиры, бесконечные часы ночи, зимний рассвет, бледной немочью вползающий в окна… Все возмущается и протестует в нем.
«За что? Почему? – Доктор смотрит на свои сильные руки. – Сколько добра людям сделали они! И разве он стар? Некрасив? Неласков?»
Остановясь перед дверью высокого шкафа, хирург пытливо всматривается в отражение в большом стекле.
Неужели тот хлюпик Коробицын лучше? Что это: жалость, любопытство, просто каприз?
И вдруг страшная догадка:
«Потому-то и скрывала она, молчала о беременности!..»
Тяжкий вздох, почти стон вырвался у Ивана Ивановича. Доктор опустился на ближний стул и долго сидел, сжимая руками голову, покачивая ею, словно у него заболели зубы.
Дольше выносить неизвестность он не мог, встал и с красными пятнами на щеках, со взъерошенными волосами решительно двинулся из комнаты.
И почти в это же время Тавров тоже решился и шагнул из морозной темноты на крыльцо; скрипнул снег под его ногами, скрипнула чуть дверь.
Скинув меховую куртку у вешалки, он еще помедлил, проводя платком по ресницам, мохнато обросшим инеем: видно, долго ходил под окнами больницы, прежде чем рискнул войти.
В коридоре его перехватила Варвара.
– Вы к кому? Так поздно… Больные уже спят.
– Я на одну минуточку, Варя. Вы дежурите?
– Да, я дежурю сегодня… Тяжело больной после трудной операции.
– Проведите меня к Ольге… Павловне. Мне только передать, – волнуясь, попросил Тавров. – Я увидел в окно, что вы здесь, и зашел…
– Вы бы лучше пришли днем с Павой Романовной, – сказала Варвара, которой показалось странным это позднее посещение. – Правда, приходите завтра вместе, – попросила она.
Тавров поколебался, тронутый ее особенным выражением, но Ольга была теперь совсем близко…
– Я на одну минуту, – сказал он упрямо, отводя руку Варвары.
Едва он скрылся в дверях палаты, где лежала Ольга, как в коридоре послышались другие шаги, и Варвара, оглянувшись, увидела Ивана Ивановича…
Он шел, глядя себе под ноги, нахмуренный и печальный.
«Третий! – неожиданно вспомнила Варвара слово, сказанное Тавровым, когда они осенью собирали бруснику. – Так вот кого имел он в виду тогда! – с ужасом подумала она, только теперь поняв, что творилось около нее. Вот что означало состояние Ивана Ивановича и самой Ольги, недомолвки и взгляды при встречах, волнение Таврова, то, как он прямо ворвался в палату. – Глупая ты, глупая! – кричала про себя Варвара, остолбенев от потрясения. – Третий, лишний между ними! Она не любит его! Это Аржанов-то лишний! И он увидит это сейчас своими глазами! Что будет с ним тогда?!»
Варвара не умела хитрить, но положение обязывало ее принять какие-то срочные меры.
– Иван Иванович! – позвала она, заступая ему дорогу.
Он поневоле остановился.
Вся напряженная, девушка с отчаянной прямотой глядела на него.
– Что ты, Варя? – спросил доктор, точно пробуждаясь.
– Мне очень важное надо передать вам… Как можно скорее! – произнесла она, изнемогая от страха и волнения. – Пойдемте сюда. – И, не оглядываясь, направилась в сторону, обратную той, куда ушел Тавров.
Иван Иванович вернулся следом за Варей. Два слова, произнесенные ею, поразили его: «Передать важное». Важное? Неужели об Ольге?
В кабинете Варвара пропустила Ивана Ивановича вперед и, прикрывая ему выход, полыхая румянцем, долго молчала, теребя завязки халата.
– Я слушаю, – сказал доктор хрипловатым от волнения голосом и понурился, ожидая.
Варвара поняла, чего он ожидал от нее, представила всю жестокость удара, который могла нанести. Правдивые глаза ее дрогнули.
– Я насчет курсов хотела… – заговорила она и неловко улыбнулась.
– Насчет курсов? Ох, Варя! До них ли мне сейчас! – Иван Иванович махнул рукой и хотел выйти из комнаты.
– Подождите! Одну минуточку! – попросила девушка, не трогаясь с места и не уступая дороги: еще немножко – и Тавров уйдет. – Одну минуточку!
Хирург насторожился.
– Почему ты не пускаешь меня? – спросил он, бледнея. – Зачем ты привела меня сюда?
– Я хотела… – Варвара в замешательстве опустила черные как смоль ресницы. – Я так люблю вас! – страстно промолвила она, стискивая маленькие руки. – Скажите мне только: «Умри!» – и я умру, если это вам нужно. Я все сделаю, что вам нужно!
Иван Иванович растерялся.
– Мне совсем не нужно, чтобы ты умерла. Зачем так говоришь, девочка?! Ты знаешь, как хорошо я отношусь к тебе!..
– Да, я знаю. – Варвара поднесла к вискам крепко сжатые кулачки, сдерживая желание заплакать. – Вы не умеете… не можете плохо относиться к людям.
8
Ольга ожидала прихода Ивана Ивановича… Он не уходил из больницы, не простившись с нею, и она нетерпеливо вслушивалась в звуки шагов по коридору, потому что хотела поскорее избавиться от тягостного ожидания.
И вдруг вместо него явился Тавров. Один… ночью, когда многие больные уже спали. Несколько часов он, скрипя снегом, уминал тропинку в насаждениях Хижняка около больницы: все порывался, но не решался войти. И вот, совсем закоченев, как с неба свалился. Приподнявшись на локте, придерживая у горла широкий воротник рубашки, Ольга испуганно смотрела на него. На его лице выражалось страдание и какое-то робкое оживление. Горячая волна нежности прихлынула к сердцу Ольги. Сказалось ли это в ее глазах, почувствовал ли Тавров ее душевный порыв к нему чутьем влюбленного, но шагнул вперед и тихо опустился на табурет возле кровати.
– Я не могу дольше жить без тебя, – прошептал он. – Я честно старался совладать с собой, но только измучился, устал и как будто на сто лет постарел душой.
Ольга посмотрела на дверь, в которую каждую минуту мог войти Иван Иванович, на соседние кровати и снова обернулась к Таврову.
– Если у тебя такое же чувство, то зачем эта мука? – говорил он, завладев ее рукой и страстно и нежно целуя ее тонкие пальцы. – Кому легче от наших мучений? Неужели он не понимает, не видит, как ты чахнешь?
– Мы потом поговорим об этом.
– Почему потом?
– Сейчас я боюсь, что может войти он, – призналась Ольга, стыдясь такого признания, но не сумев скрыть своего ужасного беспокойства. – Он здесь…
Тавров неотрывно глядел на нее широко открытыми глазами, похоже, он совсем не слышал ее слов.
– Я вижу: мне самому надо действовать решительнее. Когда тебе станет лучше, я сразу увезу тебя к себе, – неожиданно вырвалось у него.
– Увезешь? – повторила Ольга, слегка уязвленная: как будто она предмет обстановки и они оба могут распоряжаться ею по своему усмотрению.
Но глаза его, увлажнившиеся, мягко блестевшие, говорили о покорности, о преданности.
– Разве ты еще долго будешь здесь? – спросил он, лаская взглядом лицо Ольги.
– Ты все знаешь? – вместо ответа с трудом вымолвила она, вся покраснев.
Тавров утвердительно наклонил голову: нервное удушье помешало ему говорить, и он промолчал, снова целуя ее руки.
Он словно забыл о том, что находится в больничной палате, где несколько пар посторонних глаз и ушей. Женщины спали или притворялись спящими, но если хоть одна из них бодрствовала, то уж никак не могла – даже спросонья – принять его за Ивана Ивановича.
– Мы поговорим потом, – повторила Ольга. – Верь мне. Но сейчас тебе надо уйти. Я прошу…
Ее лицо выражало такое тревожное беспокойство, что Тавров наконец опомнился.
– Ухожу! – сказал он и встал рывком. – Только помни – обратно повернуть невозможно.
«Как странно складываются людские отношения!» – с горестью думал Иван Иванович, снова шагая по коридору.
Мысль о том, что вот сейчас он объяснится с Ольгой и все станет ясно и до дикости безобразно, неожиданно остановила его: надо было еще подумать!
В комнате отдыха сидели больные, слушали радиопередачу.
– Спать, спать пора! – машинально промолвил главный хирург, заглянув мимоходом в дверь.
Передавали последние известия. Он прислушался, вошел и, сев в уголке на диване, снова словно оцепенел.
В мире шла война. На востоке разбойничала Япония; на западе не стихал гул самолетов: англичане бомбили Берлин, немцы сбрасывали бомбы на Лондон. Придворные Букингемского дворца отсиживались в убежище. Король и королева отсутствовали: дворец подвергался бомбежке уже в четвертый раз.
– «Жили-были король и королева!» – пробормотал Иван Иванович. – Да… Жили-были…
Бомба попала в большой дом, где находилось много людей… Конечно, король останется невредимым при любой бомбежке. Чопорные леди и лорды умчатся в убежище. Как же насчет этикета в такие минуты? Яркая озорная искорка промелькнула в глазах Аржанова и погасла.
«Заводы Ковентри производили высокосортные стали, они, конечно, работали на войну. Но там жили тысячи металлургов. У них были семьи… Да, были!»
Хирург огляделся. Он сидел в комнате один, даже не заметив, как исчезли больные, которых спугнуло его появление. А Ольга? А разговор с нею? Ивана Ивановича точно взрывной волной подбросило и вынесло в коридор.
Все уже спали в палате, одна Ольга лежала с открытыми глазами, не слыша приближения мужа. Он тихо подошел и остановился, сдерживая тяжелое дыхание, всматриваясь в ее задумчивое, странно разгоревшееся лицо.
– Ты? – еле слышно промолвила Ольга, и красные пятна ярче проступили на ее щеках. – Ты здесь?
– Где же мне еще быть? – Иван Иванович вспомнил объяснение с Варей и с чувством неловкости добавил: – Я не мог зайти раньше.
Неужели он чувствует себя виноватым перед Ольгой в том, что выслушал признание влюбленной девушки? Злая ироническая усмешка искривила губы Ивана Ивановича, но рука Ольги, к которой он слегка прикоснулся, опалила его сухим жаром. Только теперь доктор заметил лихорадочное состояние жены.
– У тебя высокая температура… Ты не вставала сегодня?
Густые вихорки его бровей озабоченно сошлись к переносью: мысль о возможном осложнении вмиг вытеснила все остальное.
9
«Опять ухожу с тем же!» – думал Аржанов, возвращаясь домой из больницы.
Тревога за здоровье Ольги смягчила его настороженное отношение к ней, вызванное чувством обиды и ревности. Далекий от всепрощения, он никому не подставил бы под удар вторую щеку, но Ольга была для него самым дорогим человеком.
Снег скрипел под его неторопливыми шагами, мороз обжигал лицо, перехватывая дыхание, но Иван Иванович все шел, пока не очнулся на привычной дорожке у реки и не остановился, соображая. Идти сейчас к себе, в пустую квартиру, он не мог, надо было еще больше устать, чтобы, придя домой, сразу свалиться и уснуть.
Мех его шапки-ушанки оброс инеем, обмерзли ресницы и брови. Подняв глаза к мглистому небу, доктор увидел сквозь тонкий плывущий пар звезды. Звезды расплывчато светились, тускло мигая и дрожа в разреженном воздухе, и ему показалось, что он слышит их шорох. Неужели правду говорила Варвара, или это шуршал воздух от его дыхания?
Воспоминание о Варваре толкнуло мысли Ивана Ивановича по новому направлению. Мог ли он заменить Ольгу другой женщиной? Все в нем запротестовало против этого. Как скромно он жил два года на Каменушке до приезда жены. Разве мало женщин находилось возле него и на работе и на досуге! Когда ему становилось слишком тоскливо, он пропадал на охоте, до упаду ходил на лыжах или колол дрова. Вспомнились полуоткрытый ротик Павы Романовны, выражение лукавой и готовной нежности в ее лице, кокетливые заигрывания этой избалованной, чувственной ветреницы, и он зло сплюнул.
Одна Ольга была нужна ему, такая, какой он встретил ее восемь лет назад, какой знал и любил все эти годы.
«Она представлялась мне чистой, правдивой, преданной… А теперь не правдива, не чиста, уже не преданна, отчего-то мучается, что-то скрывает от меня. Почему же я продолжаю любить ее? Только как женщину красивую? Но вот Варя и красивее и моложе…»
С каким смелым порывом, с какой страстью Варвара высказала свое признание, когда стояла перед ним в белом халате, прижимая к лицу стиснутые кулачки. Вот где чистота, непосредственность, благоговение перед трудом и стремление самой принять во всем деятельное участие!.. Недаром столько молодежи увивается за ней! Тот же Логунов… Иван Иванович любил Платона и, подумав о нем, сразу повернул к прииску: ему нужно было сейчас дружеское участие.
Но до квартиры Логунова он не дошел. Все его замыслы обрывались в эту ночь на полпути: за мостом у родника, где они с Ольгой брали воду летом, ему встретился Тавров.
– Доброй ночи, Борис Андреевич! – окликнул его доктор.
В последнее время он почти не видел Таврова, к которому по-прежнему относился с симпатией.
– Да, ночь добрая! – быстро сказал тот. – Стоит немножко зазеваться, и она на всю жизнь приголубит: оставит без уха или без носа.
– Мороз, – согласился Иван Иванович, прислушиваясь больше не к словам, а к голосу Таврова, звучавшему очень громко и бодро.
– А вы гуляете? – рассеянно спросил он.
– Горе размыкиваю: был на свидании и, похоже, получил отставку, – ответил Тавров с вызывающей дерзостью.
Неизвестно, чего наговорил бы он еще удивленному Ивану Ивановичу, но с пригорка послышались звонкие шаги спешившего человека, потом показалось белесое облако, и на них, тяжело дыша, налетел Хижняк.
– Наконец-то! – вскричал он, ухватываясь за локоть Аржанова. – Весь прииск обежал!.. Несчастье случилось, а вас нигде не найду!..
– Ольга?! – дружно отозвались сразу двое.
До того дружно, что это прозвучало как вопрос одного и не дошло до Ивана Ивановича, а Хижняк слишком запыхался, чтобы вникать в разные тонкости.
– Да нет! – отмахнулся он, и опять двое одновременно вздохнули с облегчением. – Женщину привезли, раненую. Сердце задето… Гусев взять на стол, конечно, отказался.
Последнее Хижняк досказывал уже на ходу, едва поспевая за доктором, крупно шагавшим к больнице.
10
Женщина, маленькая и худенькая, словно подросток, лежала в приемной на кушетке, неловко запрокинув голову. Как ее положили, когда внесли, так и лежала, ко всему безразличная. Иван Иванович торопливо, но с привычной тщательностью мыл руки, косился на больную, заранее взвешивая ее шансы на жизнь, уже отметив признаки, ничего не говорящие обычному наблюдателю. Крайняя бледность. Одышка. Глаза полузакрыты: слабость, не смогла даже смежить век.
Фельдшер Хижняк распахивает на ней разрезанную белую кофту и рубашку. Кровь склеила белье, и оно, мокрое, липнет к пальцам. На груди слева, несколько выше соска, темнеет небольшая рана с ровными краями… Мысли, недавно до умопомрачения угнетавшие доктора, улетучиваются без следа. Он внимательно осматривает раненую, выслушивает ее грудную клетку.
Очень слабый и частый пульс. Быстрое увеличение сердечной тупости: кровоизлияние в перикард – оболочку, окружающую сердце. Напрягая слух, хирург еле улавливает приложенным ухом совершенно необычные булькающие и плещущие шумы.
– Как вы думаете? – спрашивает он, обращая взгляд к Гусеву, срочно вызванному с квартиры.
Гусев отвечает с видом полной безнадежности:
– Сердце!
– Да, слепое ранение сердца, надо немедленно оперировать. На операционный стол! – приказывает Иван Иванович Хижняку. – Сразу капельное вливание физиологического раствора!








