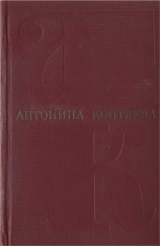
Текст книги "Собрание сочинений. Том 2. Иван Иванович"
Автор книги: Антонина Коптяева
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 27 страниц)
Из редакции Ольга вышла счастливейшим человеком. До вечера в ее распоряжении было шесть свободных часов – четверть суток!
Впервые за этот день она с жалостью и невольным торжеством подумала об Иване Ивановиче: теперь он не стал бы – говорить ей о «попутности» писания статеек.
Ее потянуло в порт. Она села в автобус. Сверкающая белизной дорога вела через знакомый перевал. Ветер упал, и голые лиственницы с изломанными сучьями неподвижно темнели в парке. Ветер не разбирался, дикие ли это деревья или их нарочно посадили здесь, и ломал на пути все, что мешало его полету.
Море – сплошная мерзлая гладь – забелело в бухте. Выпрыгнув из автобуса на повороте к порту, Ольга направилась вниз к берегу. Маленькие домики старого поселка на косогоре были заметены снегом до самых крыш, и почти наравне с дорожкой, протоптанной по твердому насту сугробов, дымились трубы. К сенцам и вокруг стен избушек прорыты глубокие коридоры, поэтому издали такое жилье казалось снежным бугром, обведенным канавой. Промчался каюр на собачьей упряжке. Закутанная женщина пронесла на палке нанизанную под жабры соленую горбушу. День выдался морозный, но по-февральски голубой, и солнце блестело на обледеневшей дорожке: жители малых домишек возили воду из незамерзающего родника под горой.
Ольга шла и смотрела, все примечая. Сердце ее сильно билось.
На горах, в ущельях тоже белел снег. Нагруженные трехтонки шли цепочкой к дальнему берегу, туда же трактор тянул большие сани… Самолет, плавно описав круг над бухтой, опустился на лед и, подрагивая, покатил в левый угол, где летом находился гидродром. По мосткам, перекинутым рыболовами, Ольга поднялась на торосистый край ледового припая. Укутанная пуховой шалью, разрумяненная морозом, она походила на девушку. Там, где она и Тавров бродили весной, где шевелились во время отлива рыбы и странные животные, похожие на водоросли, лежало, вернее нависло, сплошное ледяное поле. Сейчас тоже был отлив… До чего ярко рисовалось все в памяти Ольги. Угаснет ли ее чувство к Таврову, сотрет ли время воспоминания, как морская волна стерла следы на песке?
– Нет! Это останется со мною до самой смерти, – прошептала Ольга.
30
Вечером она сидела на совещании в просторном кабинете редактора. Было людно. Среди прочих вопросов обсуждалась ошибочная по фактам заметка, пропущенная в номере. Тот, кто сплоховал, горячо каялся, уверял и обещал. Здесь не очень-то щадили самолюбие друг друга. Покритиковали и очерки Ольги.
Она слушала внимательно, порадовалась, что ее маленькие очерки запомнились.
«Я постараюсь стать хорошим корреспондентом! – думала она, с интересом рассматривая сотрудников газеты. – Приложу все силы, чтобы км не пришлось ругать меня».
– Нельзя живое знакомство с жизнью подменять разговорами по телефону, – говорил редактор. – Поучительный пример налицо: не заботясь о выезде на место, чтобы ознакомиться с фактами, наш корреспондент висел на проводе. Не удивительно, что он наврал, а нам приходится краснеть за него. Дело свое нам надо уважать, производство, которым мы дышим, – знать. Звание газетного работника почетно, но и ко многому обязывает.
«Да, я теперь тоже знаю, что такое для человека работа», – взволнованно думала Ольга.
– Значит, завтра домой поедешь? – спросила Егоровна, устраивая себе постель на большом диване и складывая в изголовье все диванные подушки. – Я спать привыкла, чтобы голова торчком стояла, и уважаю тепло: годы-то уже немолодые, – пояснила она, наваливая поверх простыни свой тулуп.
Ольгу поместили рядом, на раскладной кровати. Она еще не раздевалась, а сидела на этом походном ложе, углубленном, как люлька, накинув на колени пестрое лоскутное одеяло Егоровны.
Хозяева квартиры потеснились, ушли в другую комнату. На батарее парового отопления на чьих-то носках и варежках пушистым комком лежала кошка, подвернув под грудь мордочку, так что оба ушка ее были охвачены лапками.
– Мороз чувствует! Ишь уткнулась… – сказала Егоровна. – До чего хорошо придумано! – продолжала она, кладя на батарею шерстяные чулки. – На приисках по зимам сроду топили круглые сутки. Такую массу лесов зря перевели! То же и в Глубокой… А тут одна топка на столько квартир – целый поселок в доме! И не живой лес палят, а уголек да торф. Наглядно видишь, как жизнь двигается! Дай срок, и на приисках паровое отопление поставим. Зачем тайгу в голую пустынь превращать? Ведь нам на одно крепление шахт тысячи кубометров требуются… Да какое там тысячи! Миллионы!
Старательница провела огрубелой ладонью по теплым трубам, погладила заодно кошку и, вкусно позевывая, полезла под тулуп, но, устроясь окончательно, глаз не закрыла, спросила озабоченно:
– Видала, какой здесь Дом культуры? И свет, и паркет, и оркестр… Конечно, у нас, на Холодникане, клуб по масштабу подходящий. По спектаклем они меня убили. И пляшут и поют… Веселая постановка! Как она называется?
– Оперетта, – сказала Ольга, видевшая афишу.
– Вот-вот! Оперетта. – Старательница помолчала, размышляя. – Наш коллектив годовую программу по золоту выполнил на сто сорок процентов. В нынешнем году еще нажмем. Надо и по части быта нажать: чтобы работа – так работа, отдых – так отдых. Или у нас в тайге хороших голосов нету?..
Ольга понимающе улыбнулась, разделась, выключила лампу и легла. Теперь вся комната заполнилась голубоватым лунным светом, проникавшим сквозь замороженные квадраты окон. Ольга вспомнила ночь в больнице. Думала ли она, когда рвалась сюда из Москвы, что разойдутся ее пути с Иваном Ивановичем! Впервые она поняла все огромное общественное значение профессии хирурга на далеком севере. Почему раньше, – будучи лишь только женой, верным, а проще сказать, смирным и сереньким домашним другом, – она не могла оценить по-настоящему красоту его ежедневного рабочего подвига? Отдалилась ли от него или сама выросла, но теперь она видела доктора Аржанова во весь рост. Однако этот образ сразу заслонился другим, более близким и милым. Был ли Тавров таким же большим человеком в работе, как Аржанов?
«Если нет, я стану его опорой и совестью», – холодея от глубокого волнения, решила Ольга.
Мысли ее приняли иное направление. Никогда раньше не встречалась она с Егоровной, с работниками областной газеты, а вот обогрета одной, связана делом с другими. Даже ночевка в чужом доме, на чужой постели вызвала у нее чувство признательности к людям, среди которых она жила. Ей вспомнился еще Мартемьянов – парторг, а теперь заведующий рудником, шахтеры-бурильщики, женщины из совхозов, приисковые старатели, – и она снова испытала чувство, подобное тому, какое ощутила, когда после долгого плавания по морю сошла на берег, радость от того, что под ногами была твердая почва. Теперь эти люди были нужны ей как воздух, – сможет ли, сумеет ли она стать для них, хотя бы частично, так же необходимой?!
31
Вода, выплеснутая из кружки, упала на притоптанный снег ледяной дробью: «отливка произошла на лету».
– Холодно! – Никита Бурцев поспешно опустил полог над входом в палатку.
– Похоже на то! Дрова еще не прогорели, а рядом сидишь – руки стынут, – сказал Иван Иванович, куривший у железной печки.
– Ничего, еще дня два, и будем жить в юрте.
Они увязали вещи, оделись и вышли. Стадо оленей переминалось, шуршало и хрустело снегом возле палатки, замкнутое в круг ременным арканом. Концы ремней держал верховой каюр, ловко сидевший на плоском седле, положенном почти на лопатки его бегуна. У оленя под мощной шеей свисающая гривой светлая шерсть, тонкие бабки и непомерно большие копыта.
«Крепкие у него бутсы! – подумал Иван Иванович. – Сразу видно, как добывает корм».
Две важенки были уже привязаны к нартам и, закинув на спину кустистые рога, вытянув длинные морды, тревожно раздували ноздри, заросшие шерсткой. Из круга выдернули двух могучих красавцев, белых, точно полярные лисицы, и подвели к нарте доктора.
Аржанов взялся помогать Никите снимать свою палатку. Он не вмешивался только там, где нужно действовать без рукавиц: берег руки хирурга.
Никита вытащил печку, жмурясь от дыма, вытряхнул из нее головешки. Иван Иванович вынул из палатки верхнюю перекладину, и они начали скатывать осевший брезент. На месте временного жилья осталась глубокая яма в снегу, устланная примятыми ветвями, похожая на разоренное гнездо. В одном углу ее лежали два бревешка, на которых ночью стояла печка; а между ними на оттаявшей земле торчала щетинкой желтая трава. Еще ни разу не раскидывали каюры в пути свои палатки, но вчера не дотянули до условной остановки: вода из лопнувшей наледи залила поверхность реки, застыла, и на этой скользкой глади целый день падали, бились олени.
– Сегодня тоже трудный будет путь, как ты думаешь? – спросил Иван Иванович, привязав ремень между копыльями нарты и перекинув его на другую сторону.
– Наверно, трудный. Река кипит! – И Никита затянул воз потуже. – Только бы не искупаться! – добавил он, надевая широкую лямку на правого оленя через лопатку под грудь; второй конец лямки, свободно продетой сквозь передок нарты, он надел на левого оленя – и упряжка была готова.
– Хороши белячки! – похвалил Иван Иванович, щурясь от ветра, ударившего навстречу.
Каменистые горы громоздились по берегам. Снег с них сдуло, только белели глубокие трещины среди серых развалин, покрытых пятнами лишайников. От этих настуженных громад веяло диким холодом. Река между ними – ущелье изо льда и камня – была настоящей дорогой ветров.
Олени опять начали падать. То один, то другой волочился по льду, увлекаемый бегом всей связки, пока не вскакивал, успев упереться копытом.
Скоро измученные животные принялись поворачивать назад, останавливаться, сбиваться в кучу. Наконец каюры, перекинув веревку-вожжу через плечо, потащили за собой свои упряжки. Никита и Иван Иванович последовали их примеру.
Снег, сдутый с береговых гор, с шипением струился под ногами, уносимый ветром. Вдали, где утренняя заря перекинула красный мост над вершинами гольцов, поверхность реки пламенела багровым блеском. Иван Иванович вспомнил такие же багровые закаты осенью на приисковой речонке – и снова пусто и холодно сделалось у него на душе. Тяжело ступая меховыми унтами, он тянул за веревку упиравшихся белячков – еще две упряжки тащились за ними, – и все думал о себе, об Ольге, о непонятной робости, помешавшей ему серьезно поговорить с женой.
Изредка он потирал рукавицей щеку или нос, почувствовав легкое онемение: он так и ехал, упрямо не закрывая лица, и ни разу не обморозился, в то время как якуты, закутанные шарфами до глаз, пообмораживали переносицы.
Стужа. Но вот еще новое явление: красный блеск в верховье реки смягчился, затуманился, потом ярче заголубела ее поверхность вблизи…
Иван Иванович спохватился, когда уже несколько раз ступил по воде. Она катила поверх льда мелким светлым потоком, окутываясь паром. Это было серьезное препятствие, но оно оживило мертвенную суровость окружающего.
– Еще километра три! – крикнул Никита, выслушав на ходу команду проводника. – Дальше можно свернуть на берег.
Теперь даже олени и те перестали упираться. Брызги застывали на одежде, высоко натянутая обувь сразу покрывалась сплошной коркой, полозья санок все утолщались. Вода еще струилась, живая, резвая, но она заметно густела: приток из лопнувшей где-то наледи прекращался. Вот-вот мерзлая каша набьется в передки нарт и прихватит их до весны…
Проводник свернул поближе к берегу, но молодой лед под ним вдруг плавно осел. Никита и Иван Иванович миновали опасное место стороной, не задерживаясь. Хирургический инструмент, электроприборы, операционное белье и лекарства были у Никиты. Мельком Иван Иванович увидел, как якут по пояс в воде спешил от упряжки к упряжке, перерезая ремни лямок. Освобожденные животные бросились догонять транспорт, а запасы продуктов, палатка, железная печь, меховые постели – все осталось в реке.
Ивану Ивановичу сделалось жарко от волнения и страха. Высмотрев санки, где находился его инструмент и медикаменты, он уже не спускал с них глаз, чтобы они тоже не ушли в наледную полынью. И в самом деле, вода впереди уже захлестывала нарты. Они будто поплыли, и в тот же миг Иван Иванович почувствовал, как лед оседает и под его ногами. Скрипнув зубами от злой досады, он кинул свою связку и бросился на помощь Никите, расталкивая плавающие вокруг обломки льда, нащупал грядку необходимой нарты, ухватился и легко, как бывает только при катастрофах, поднял ее, вздохнул, рванул еще, взвалил на плечо одним полозом, крякнул и зашагал вперед. Пар катился над рекой клубами, оседал густой изморозью, теснил дыхание. Из мглы вырвались белые олени, обогнали Ивана Ивановича, обдав его брызгами. За ними все серое стадо сбилось возле берега. Животные поднимались на дыбы, метались и прыгали, толкая друг друга твердыми кустами рогов. Следом за ними вытолкнул свою громоздкую, тяжелую ношу Иван Иванович. Он яростно топал, махал руками, кричал, торопя бредущую к нему группу людей с остальной драгоценной поклажей, помогал им выбраться на берег…
Сразу же развели костер, огромный, красно-золотой, стелющийся даже в затишье от движения воздуха. Пар так и повалил от олубенелых одежд. Иван Иванович, посматривая то на брезентовые мешки, вынесенные Никитой и каюрами, то на свою обледеневшую нарту, проверял нагрудные карманы, где, завернутые в вату, хранились крохотные ампулки с сывороткой, дающей возможность установить группу крови. Все медицинское хозяйство было спасено. После пережитого напряжения у Ивана Ивановича дрожали руки и ноги, но зато на душе отлегло. Возвращение на прииск с невыполненным заданием казалось ему теперь великим позором.
32
Никита внес бесформенный ком – остатки домашней стряпни.
– Вот пельмени, но смерзлись. Каюры случайно захватили их…
– Ничего, мы с ними справимся! – сказал бодро Иван Иванович. – Придется их немножко оттаять, чтобы стащить кулек, а потом разрубим на куски и сварим.
Никита рассмеялся:
– Если бы Варя Громова это услышала! Она несколько раз объясняла мне, как варить пельмени… Целую инструкцию дала.
– Варюша не предполагала, что мы будем купаться в реке. – Иван Иванович тоже ласково улыбнулся при воспоминании о своей медицинской сестре.
Лекарства сохранились хорошо! – говорил Никита. – Здорово придумал Денис Антонович – упаковать все в банки и в брезентовые мешки. Да и мы не дали им долго мокнуть.
– А как я выдернул нарту из воды?! – похвалился Иван Иванович.
– Я едва успел отрезать ремни постромок. Вы схватили ее, как медведь большого лосося. Вы видели медведей-рыболовов, когда рыба идет с моря в реку метать икру?
– Приходилось… Да, Никита, наше счастье, что мы выкупались уже на выходе из речного ущелья!
Они были теперь в юрте таежного наслега, куда их доставили якуты, посланные навстречу поселковым Советом при известии, что река опять «закипела». За бревенчатыми стенами бушевала разыгравшаяся к ночи пурга, там слышались беспрестанное шуршанье, царапанье, жалобный вой, переходящий временами в яростный рев. В такие минуты приезжие, и жители юрты, и пришедшие из наслега взглянуть на доктора поднимали лица, скупо освещенные керосиновой лампой, и умолкали, невольно насторожась. Старухи в широких платьях сильнее дымили трубочками, переставая мять шкурки мехов, которые они выделывали, молодежь посмеивалась. Даже огонь в глинобитном камельке-камине то притаивался, приседал, то с жарким треском бросался вверх, вытягивался, точно вставал на цыпочки, высматривая, что творилось на воле.
Иван Иванович, сидевший возле камелька, представил полыньи на реке и зябко повел плечами. Беда – попасть после «купанья» в лапы дикого зверя, морозной бури!
В большом котле, висевшем на железном крючке над огнем, варилась, булькала оленина. Якутка в меховой безрукавке поверх сатинового платья, с цветными бусами, обвивавшими в несколько рядов ее смуглую шею, навешивала рядом второй котел для пельменей.
У низкого стола, заваленного кусками меха с оленьих и лисьих лап, и темно-серыми шкурками якутской белки-чернохвостки, сидела среди мастериц артели Марфа Антонова, председатель районного Совета, пожилая женщина с горбоносым, бронзовым от загара лицом и узкими умными глазами. С гостем, так долгожданным, она уже переговорила при встрече, а теперь толковала о чем-то со своими избирателями.
– Она им сказку рассказывает, – пояснил Никита, заметив, как вслушивался доктор. – Она много сказок знает и свои придумывает.
Женщины шили зимнюю обувь и перчатки. Румяные девушки по очереди прикладывались к трубке, гулявшей по кругу.
– Нехорошо! – сказал Иван Иванович Никите. – Здесь, наверно, есть комсомольцы… Скажи им, что курить детям и молоденьким девушкам вредно, тем более из общей трубки… Погоди!.. Я после ужина прочту им лекцию…
– Комсомольцев в этом наслеге много. Они имеют возможность жить культурно: артель зажиточная. Посуда отдельная и полотенца найдутся для каждого. – Никита встал со скамьи, зорко оглядел юрту, дальние углы которой тонули в полумраке: повсюду на стенах висели пышные связки мехов последней добычи. – Богатая артель! – повторил он с гордостью.
На остановках Иван Иванович читал для него настоящие лекции по медицине. Жадность Никиты к знанию развлекала и радовала его; он ярко представлял будущую работу молодого якутского фельдшера, воспитанного им. А сколько их доучивается на курсах на Каменушке! Иногда Иван Иванович жалел, что передал своих учеников Гусеву. Но тут он обычно вздыхал и старался думать только о поездке и людях, ожидавших его в Учаханском улусе.
Сегодня первая встреча в этом районе. Первая ночевка в юрте. Большая, чистая, она походила многолюдством на русское общежитие, но постели устроены на нарах, тянувшихся как широкие лавки, вдоль всех четырех стен; над некоторыми постелями нарядные занавески, украшенные вместо кистей кусочками меха и звонкими побрякушками. Спальные места отделены столбами, на этих столбах, поддерживавших крышу, висят одежда, ружья и связки шкурок. Повсюду белеют мездрой распяленные на деревяшках сырые меха…
Мягкая рухлядь. С соболем и куницей в текущем году уже покончено. По рассказам Никиты, за ними охотятся с октября по декабрь. С января начинаются соболиные свадьбы. Сейчас идет во множестве белка, выдра, рысь, росомаха.
«Тоже боевой промысел! – думал Иван Иванович, прислушиваясь к звериным голосам метели. – И здесь свои мастера, свои рекорды».
После ужина и лекции о вреде курения для детей и заодно и о бытовой гигиене Иван Иванович присел на чурбак у камелька.
Девушки опять шьют, сбившись в кружок, и опять Марфа Антонова шевелит увядшим ртом, держа в цепких пальцах холодную трубочку. Находясь под впечатлением лекции, она стесняется курить, но привычка к табаку явно мучает ее.
– Что она говорит им? – спросил Никиту Иван Иванович при очередном взрыве общего одобрения рассказчице.
– Она рассказывает грустную любовную историю…
– Переведи!
33
– Это было на Олекме. Давно уже… лет сорок назад. Жил там богатый якутский подрядчик. Подряды он брал на золотых приисках: продукты туда отправлял на лошадях, сеном торговал. Жену его звали Дуней. Он ее за красоту купил у нищих сородичей. Она и замужем осталась красивой и стройной, словно молодое деревцо, хотя родила мужу пятерых сыновей. Выросла сиротой, грамоты не знала, но в улусе очень уважали ее, даже стеснялись перед ней. Ходила она в темных платьях, а руки – белее молока, румянец – нежнее цветов шиповника, и глаза, когда она смеялась, – как две клюющие птички… Войдет в юрту, скажет «капсе» своим серебряным голосом, и все притихнут. Степенна была, точно бобриха, и людям казалось, будто думает она и понимает иначе, чем они. За это особенно уважали ее. А женщин у нас не привыкли уважать, только шаманок боялись.
Старший сын Дуни еще мальчиком прославился как лучший наездник во время праздника весенних конных бегов. Смело она воспитывала детей: с девяти лет разрешала им скакать на полудиких конях… И вот когда ее старшему миновал тринадцатый год, она сбежала от мужа в Якутск с простым каюром.
Это было словно гром среди зимы. Такого среди якутов в старину не водилось. Уйти от мужа считалось страшным позором. А Дуня ушла и детей бросила… Видно, нелегко жилось проданной навечно нелюбимому человеку.
Марфа замолчала, в раздумье посасывая пустую трубочку и продолжала заметно изменившимся от волнения голосом:
– Я встретила ее в Якутске. Она уже не беленькая была, а белая насквозь. Таяла она. Грыз ее душевный червяк. И все одна находилась: люди стали относиться к ней с презрением. А я пожалела потому, что сама не хотела подчиняться старым обычаям. Мы подружились, и Дуня рассказала мне о своей печали.
Она ездила на Олекму, просила мужа отдать ей хотя бы младшего сына, тот отказал. Дуню не так мучила потеря всеобщего уважения, как сердечное горе. Детей лишилась, и новый муж оказался беспутным гулякой. Не любовь у него была, а просто страсть, которая гаснет быстро. Когда Дуня надоела ему, он стал ее бить, и она решила, что у нее нет иного выхода, кроме смерти. И она вскоре умерла. Не отравилась, не повесилась, а просто зачахла с тоски.
– Я бы на Дунином месте подала в суд и забрала детей к себе, – сердито сказала одна из юных слушательниц в богатом девичьем наряде. – Я уже сейчас сама могла бы воспитывать ребенка, без чужой помощи.
– Ах ты, маленькая хвастунья! – ласково сказала Марфа и легонько постучала чубуком трубки по смуглому лобику девочки. – Закончи прежде хотя бы семилетку, а потом отправляйся на курсы кройки и шитья. Там научат думать твои золотые руки, и мы сделаем тебя директором пошивочной мастерской. На месте Дуни тебе тоже некуда было бы податься. Тогда женщина никакого выхода из семейной кабалы не имела. А нынче… В колхозах на Лене и Амге работают женщины-трактористы. Когда я ездила в Якутск на последнюю сессию Верховного Совета, то видела, как уходили в тайгу санитарные самолеты. Их вели летчицы-якутки. Я смотрела им вслед и плакала от радости. Это дала нам Советская власть! – И Марфа Антонова гордо потрогала свой нагрудный значок: она была членом якутского правительства.
Ночью Ивану Ивановичу приснилась Ольга, чем то похожая на героиню рассказа Марфы. Он увозил ее на оленях, она билась возле него и все вскрикивала тоненьким, томительно-жалостным голосом. Потом нарта ухнула в воду, и Иван Иванович проснулся…
По-прежнему ветер шумел на дворе, шуршал мерзлым снегом; ночь глядела в мутные окна, заплывшие льдом; красные отсветы огня, горевшего в камине, шевелились на потолке, на покатых внутрь стенах. Круглые бревна, поставленные концами под крышу, отделялись друг от друга желобками тени, от этого юрта казалась полосатой, напоминая сказочный шатер.
Мысли Ивана Ивановича привычно устремились к Ольге. Почему она отошла от него? Как радостен был ее приезд на Каменушку. Что она говорила ему тогда? Но вспоминались только прикосновения рук, теплота бархатной кожи – и все в нем мучительно тосковало об этой утраченной теплоте.
«Неужели нас лишь это и связывало? – подумал он со стыдом и страхом. – А кроме того, разве ничего не было? Неужели мы жили, как наши деды? Но у дедов существовали обычаи и законы, которые сковывали людей и против воли. – Иван Иванович вспомнил рассказ Марфы Антоновой о якутке Дуне. – Ушла из семьи – и погибла. А ведь бросила мужа не по распутству, а любовь увела. Что же связывает меня и Ольгу? Чем я могу удержать ее, если не останется у нас сердечного чувства? Не осталось уже. Да, не осталось! Она проводила меня, как чужая».
Мощный порыв ветра потряс юрту до основания, ярче вспыхнули дрова в камельке, и так же ярко вспыхнуло в потрясенном сознании Ивана Ивановича: «чужая».
Доктор встал с постели, натянул меховые чулки, неслышно ступая, прошел к камельку, присел на облюбованный им чурбак и тяжело задумался, глядя на серые струи дыма, тянувшиеся в прямую широкую трубу.
Он думал, и снова его преследовала мысль: вернуться обратно на прииск, застать Ольгу с любовником и наказать их обоих за свои мучения.
– Вот это и есть то, как жили деды! – в забытьи пробормотал он вполголоса. – А мне хотелось по-иному, и я никогда не мешал стремлению Ольги к самостоятельности. Пусть не помогал! Но ведь не мешал! Хорошо говорила Марфа Антонова: «Санитарные самолеты уходили в тайгу… Их вели летчицы-якутки!» Тут в самом деле не стыдно заплакать.
34
– Это наша учаханская школа. Десятилетка, – с важностью кивнула Марфа, догнав упряжку Ивана Ивановича, и по-мужски сильным движением остановила своих разгоряченных оленей…
В длинном платье, спадавшем из-под дохи на щегольские унтики, она первая пошла по тропинке к школе. Большой дом, уютно серевший добротными стенами среди сугробов, стоял на пригорке. Толпа молодежи высыпала навстречу приезжим: черноголовые, стриженые, в унтах, отороченных цветными мехами, в дошках, малицах, в наспех накинутых суконных армяках с разрезами сзади для верховой езды.
– Здесь мужской интернат. – Марфа помахала расшитой бисером меховой рукавичкой, приветствуя мальчиков, подростков и взрослых уже парней, сказала им несколько слов, и они побежали к нартам – помочь Никите.
– Девушки живут отдельно. – Председатель райсовета показала вдаль, где у сопок на равнине темнели дома и поднимались столбы белого дыма. – Там электрическая станция, юрта районного Совета, магазины, база пушторга, контора. У нас производство рудное будет. Приходи к нам в гости. Тут близко. Сперва, утром, я приду сюда с нашим фельдшером. Поможем тебе открыть больницу. Пусть он здесь пока и работает, поучится возле тебя. Нам хорошего лекаря надо: жителей в поселке все прибавляется. Раньше якуты селились редко, от соседа подальше. Настоящих деревень у нас мало было, а сейчас мы строим по-русски. Так веселее. Хорошо у нас?
– Да! – искренне сказал Иван Иванович, взглянув на отроги гор, идущих на смычку к Большому хребту: глубокие долины, скалы, острые изломанные гребни. – Очень хорошо!
Теперь северная природа действовала на него, словно прекрасная, торжественная музыка: была в ней суровость, врачующая душу.
– Здесь и небо точно изо льда сделано: бледное, прозрачное, и эти беловатые перистые облачка по нему… А вчера оно было совсем ясное, но весь день летела какая-то светлая пыль, – говорил он Марфе.
– Так снег падает в наших районах в зимние месяцы с декабря по февраль. Настоящий снег – значит дело уже к весне. Там начинаем огороды делать. – Марфа широко повела рукой. – А там покосы. Скота в колхозах много: коровы, быки… Быков в упряжках гоняем. Лошади меньше работают, разве когда снаряжается дальний рейс транспорта. Круглый год они в тайге гуляют. Теперь мы стали приучать их к полевым работам. – Поглощенная мыслями о делах своего района, Марфа с радостью делилась ими с доктором, потому что его приезд тоже был для нее одним из этих дел. – Отдохнешь, вылечишь больных, поедем тогда по рыболовным артелям. Соболиные заповедники покажу. Запрет был на время. Вот обследуем, подсчитаем поголовье и решим, как снять запрет. Табуны коней посмотрим, места для охоты. Только скажи – все для тебя сделаем. – И Марфа радушно распахнула перед жданным гостем тяжелую дверь…
Здание школы теплое, светлое. В классах вместо парт столы и скамейки. Окна высокие, но покрыты инеем, хотя от печей пышет жаром. А печи настоящие, не сквозные трубы-камины, как в юртах.
– Ваше приисковое управление помогало строить. Шефы наши. – Марфа с женской дотошностью заглянула в печь. – Один раз закрыли трубу рано – чуть не угорели. Потом научились, привыкли, – пояснила она свое движение.
Под лечебный пункт отведена богатая пристройка, где до этого жили ученики, и два угловых класса, сообщающиеся с ней отдельным выходом.
– Ладно ли? – Марфа, ревниво-заботливо оглянула большую комнату. – Тут больных класть, вот коечки поставили. Здесь операции будешь делать, там приемный покой. Может, по-другому пожелаешь – твоя воля. Фельдшер сказал: неловко больных уносить в палату через приемную и твою комнату. Мы тогда еще дверь из операционной прорубили. Больно уж тут светло да хорошо.
– Куда лучше! Даже электрические штепселя есть.
– Мы тебя ждали, все подготовили. Фельдшер наш при операциях помогать станет. Была еще сестра медицинская, да перед твоим приездом отпросилась в отпуск: мать у нее в Укамчане шибко заболела. – Марфа говорила, идя по пятам за доктором, и оба они, еще не сняв заиндевелых от мороза дох, уже готовы были хоть сейчас приступить к работе…
В комнате кровать с простынями, с одеялом из белых песцов, на стене ковер, сделанный из кусков меха руками настоящего художника. Точно живые, бегут олени по светлой его кайме, посредине, в широком овале пятнистым клубком притаилась рысь… Вот-вот шевельнутся кисточки на ушах и свирепо торчащие бакенбарды. Другой меховой ковер на полу: белые и темные шахматные квадраты. На нем большой кучей лежали пушистые песцовые шкурки.
– Вот наши председатели артелей и колхозов решили сделать тебе… удовольствие. – Марфа со вздохом, не глядя на Ивана Ивановича, взяла одну шкурку, любовно погладила дымчато-голубой мех смуглой рукой, подула на него, следя за шелковистым отливом. – Нарочно посылали к северным охотникам, на оленей это выменяли. Жил, говорят, на Чукотке большой начальник. Там у чукчей меховые пологи в юртах… Так начальник всю свою комнату обтянул голубыми песцами. Наши товарищи тоже решили постараться для тебя, чтобы тепло и красиво.
– Этакое расточительство! – Иван Иванович засмеялся, сразу поняв вздох Марфы и то, почему привезенные издалека дорогие меха не успели еще превратиться в обои.
– Тогда я и не вошел бы в эту комнату! Пусть колхозники заберут песцовые шкурки обратно. Да-да-да! Не такой я дряхлый старик, чтобы меня пухом укутывать!
Лицо Марфы просияло от радости, хотя она старалась держаться беспристрастно.
– Я говорила им: тот начальник, однако, был не советский человек! Но наши колхозники поставили на своем. Боялись, что не понравится тебе у нас и укатишь ты сразу обратно.
35
После обеда Иван Иванович пожелал взглянуть на будущих пациентов. Пошли пешком, благо стойбище приезжих больных с их семьями и ребятишками находилось недалеко от лечебного пункта, на другом берегу речки.
Народу собралось, как на большую ярмарку! – говорила Марфа по дороге. – Я сама тоже нездешняя. Родилась на Лене. Отца не помню, он помер давно. Когда мать вышла замуж в другой наслег, меня и двух братьев наш наслег ей не отдал. По старому обычаю, мы должны были остаться в нем. И мы стали общие дети. Сшили нам одежду из телячьей кожи, а из юрты в юрту бегали босиком в любой мороз, так кормились… Сейчас живу, будто весь Учахан мой дом. Опять как тогда. Только тогда я жила вроде собачонки – любой пнет, а теперь все кругом будто родня и все хозяева. Вот ты, Иван Иванович, приехал… Новый человек, а тоже хозяин. Мне жалко народное добро, тебе жалко. Как же не хозяева?! Правда? – Марфа огляделась, взяла Ивана Ивановича за рукав дошки. – Видишь бугры за рекой, по берегу? Там уголь. Прямо сверху бери и жги. А вон там железную руду нашли… Хорошо получается. И вода есть, все ловко для производства. Большой город будет на Учахане. Через два-три года не узнаешь места. Якуты очень способные к обработке железа, и кузнецы у нас в Якутии исстари знаменитые водились. Но, однако, кустари. Молодежь с великой радостью пойдет на завод.








