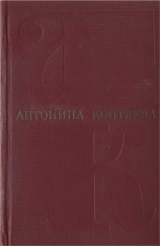
Текст книги "Собрание сочинений. Том 2. Иван Иванович"
Автор книги: Антонина Коптяева
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 27 страниц)
Степан неожиданно заплакал.
– Всех ты лечил, доктор… Пошто не хочешь лечить Степана? Ждал я, ждал со своей хворью, сулили – поможем, а теперь не знаете, куда сбыть! Нет уж, давай хлопочи сам. В другое место не поеду.
– Правда, Никита, попроси доктора, – сказал, разжалобись, Захар, – зачем мучить моего брата. Пускай, бедняга, лечится здесь.
– Придется положить его для исследования в нашу больничку, а там видно будет, – сказал Иван Иванович, выслушав категорическое мнение семейного совета. Минимум необходимых условий для такой операции у нас есть. Спроси еще раз, Никита, с какой стороны был у него ушиб.
– Давно. Лет восемь назад, в гости мы ездили в большой улус, – стала вспоминать жена Степана, усиленно морща низенький лоб… – Там ярмарка была, конские бега. Водку много пили. Веселились. После подрались, и парень из соседнего наслега ударил Степана камнем по голове. Шишка всплыла с кулак. Вот здесь. Память маленько потерял, тоже как мертвый лежал.
– Правда, с кулак, – слабым голосом откликнулся Степан. – Вот здесь.
И все: Степанова жена, сам Степан, потом Иван Иванович и невропатолог – потрогали место бывшего ушиба.
– Упал, говорит, искры из глаз посыпались.
– Правда, искры, – подтвердил Степан.
– Вот это и есть первопричина, – задумчиво сказал невропатолог. – Как не потерять память, если шишка с кулак всплыла?!
Невропатолог помог Ивану Ивановичу определить болезнь Степана, положенного в больницу. После длительных и неоднократных осмотров ими совместно был поставлен диагноз: опухоль – менингиома – в мозгу, в правой лобно-теменной области.
Прежде чем хлопотать о самолете, Марфа пустила в ход все свое красноречие, уговаривая упрямого охотника лететь в Москву. Время было дорого: начинались весенние метели с густыми снегопадами, а там близко распутица, да и состояние больного ухудшалось с каждым днем. Но он уперся, подозревая в отправке какую-то скрытую каверзу.
– Всех Иван лечил, почему меня не хочет?
Семья была на его стороне:
– Нельзя силком отправлять, – сказал Захар. – Раз дело серьезное, надо по-хорошему. Зачем издеваться? Лечил Иван такую хворь на Каменушке и здесь вылечит.
– Ну, хорошо. Давайте сделаем операцию здесь, – решил Иван Иванович.
Что касается локализации, то вы можете действовать наверняка, – сказал Валерьян Валентинович перед отъездом.
Иван Иванович ласково взглянул на уезжавшего: теперь ему нравились и его нескладная фигура, и густые золотые веснушки, и даже привычка по-заячьи подергивать острым носом: если бы не эти особые приметы, проскочил бы невропатолог незаметно. Ищи потом ветра в поле!
– Спасибо, спасибо, голубчик! – говорил хирург, потрясая легонько его руки.
– Не стоит, коллега. Рад, что услужил вам. Желаю успеха, или, как говорят лучше: ни пуха ни пера.
– Представьтесь новому начальству и отправляйтесь в Кисловодск. На курорт сразу поезжайте! – крикнул Иван Иванович, когда упряжки из лучших оленей сорвались с места (транспорт на Якутск ожидал врача).
– Отправился. Я тебе сразу говорила: поможет, – сказала Марфа, радуясь, как девочка.
Поздно вечером в комнате Ивана Ивановича было маленькое совещание. Присутствовала и Марфа Антонова.
– Василий Кузьмич будет следить за состоянием больного и включать электроприборы. Никита должен держать крючки у меня под рукой, – говорил озабоченный Иван Иванович, – но нужно еще двух помощников: подавать мне хирургический инструмент и обеспечить подачу операционного белья и материалов. Кроме того, нужен расторопный человек для подсобных услуг: вода, печь, грелки. В Никите я не сомневаюсь: у него хладнокровие и выдержка – пожелать любому ассистенту. Если нужно, он не сморгнет в течение часа. Верно, Никита?
Никита только улыбнулся застенчиво – он всегда стеснялся, когда его хвалили.
– Учтите, что эта операция продлится три или четыре часа.
– Четыре часа? – переспросил изумленный Василий Кузьмич, всю жизнь проработавший фельдшером в таежных улусах.
– Да. Чем спокойнее и осторожнее я стану действовать, тем больше надежды на успех. Это тончайшая работа.
– Значит, не так быстро нужно будет подавать инструмент?
– Очень точно нужно подавать.
– Давайте сделаем репетицию с нашими девушками, – предложил Никита. – Они с самого начала помогают нам при операциях, уже привыкли и не боятся. Названия инструментов хорошо запомнили…
– Я тоже подумывал об этом. Девчата толковые. Допустим их по-настоящему помогать в операционной, и дня два будем готовиться к операции Степана.
– Я тоже приду, когда понадобится. Белье подготовить, бинты, марлю да вату – моя забота. Я их и подавать стану, – сказала Марфа.
44
Степан, в новом белье, с наголо выбритой синеватой головой, подходил к столу, накрытому светлой как снег клеенкой. Лицо его подергивалось сильнее обычного.
Все вокруг него сверкало белизной: и одежда доктора и его помощников, и туго натянутые простыни на потолке. На двух столиках расставлены чистые тазики и тарелки с блестящими инструментами, с ватой, марлевыми полосками, бинтами, салфетками, марлевыми и ватными шариками, пучками ниток разной длины и толщины, стеклянные баночки, флакончики… Чего только нет! И все это для него одного! Ножи, ножницы, какие-то сверла… Как же будут добираться до его мозга? Степан, конечно, понимал: чтобы увидеть мозг, надо пробить череп. Не зря сняли волосы с головы!
Ему стало холодно. Бурная дрожь била его. Безразличный в последнее время ко всему, он вдруг оробел, но встретил добрый взгляд доктора, стоявшего у стола с поднятыми и растопыренными, мокрыми еще руками, и шагнул вперед. Рукава Ивана засучены по локоть, да и весь вид у него был такой, будто он драться собрался с хворью охотника.
– Не бойся. Ложись! Только лежи смирно, долго лежать придется. Жди – и будет хорошо!
– Ладно, я буду смирно, – пообещал Степан, выслушав перевод Никиты, и посмотрел на седые брови фельдшера Василия, тревожно нависшие над красным морщинистым лицом, прикрытым снизу, как и у всех, белым платочком.
Потом его глаза с мольбой и надеждой обратились снова к доктору. Тот ободряюще кивал головой, улыбался. Степан вздохнул и полез на стол. Фельдшер Василий помог ему лечь, устроил на левом боку, слегка приподнял жесткое изголовье, потом по приказу доктора, окутал чем-то теплым ноги выше колен. Видно, долго придется лежать Степану на этой страшной койке! Но раз надо, он перетерпит…
Точно комар с длинным клювом укусил его за голую макушку. Еще раз. Еще… Степан даже не поморщился в ожидании более острых ощущений. Что значит для таежника укус комара?! Потом он не слышал и укусов, чувствовал только легкие толчки, прикосновения, потягивания, сопровождаемые каким-то скрипом и хрустом. Он не спал, но не испытывал боли, и все прислушивался настороженно к тому, что делали с ним и возле него, помня только одно: надо лежать смирно, чтобы не помешать Ивану. А учить охотника, как сидеть или лежать смирно, не требуется.
Иван Иванович, очень сосредоточенный, протер бензином, затем спиртом поле операции и сделал местное обезболивание, вводя раствор новокаина под кожу. Он действовал уверенно, но в душе боролся с беспокойством: он был один… Никто из его помощников не мог оказать ему серьезной услуги, поэтому до начала операции он сам наладил капельное вливание в вену больного, пониже икры, и лишь после того приступил к анестезии.
Вызванного на всякий случай донора первой группы поместили в соседней комнате.
Приготовления закончены. Иван Иванович примеривается и сильным ловким движением делает полукруглый надрез на набухшей коже операционного поля.
– Зажимы! – командует он, и молоденькая девушка, понимающе взмахнув ресницами, подает ему инструменты, похожие на ножницы, но с тупыми зубчатыми клювиками – зажать кровоточащие сосуды.
Ей некогда особенно всматриваться, что там делает доктор Иван над головой бедного охотника. Ей надо слушать, соображать и подавать, поэтому вся она – внимание.
Никита осторожно связывает зажимы, висящие по краю кожного разреза, по пять штук вместе, чтобы они не мешали хирургу. Пальцы его, наловчившиеся на силках и петлях, работают хорошо.
– Ток.
Глаза хирурга озабоченно устремляются на вторую новоявленную сестру, которая только в этом месяце научилась включать электроприборы. У нее, бедняжки, даже пот проступил между бровями и на маленьком носике.
– Слабее ток! Поставьте на единицу. Степан, голубчик! Если больно, скажи. Говори, если больно. Это мне нужно для работы.
Иван Иванович вдруг морщится и шипит: не вовремя включен ток, и он прижег палец. Хорошо, что задело слегка. Чтобы сестра не растерялась, он не делает ей никакого замечания.
Второй разрез, третий… Выкраивая кожный лоскут в виде подковы, доктор постепенно сдвигает его с поля, подкладывая под него марлю и вручая крючки Никите, и наконец откидывает книзу, на ухо, осторожно переложив связки зажимов. После этого он подрезает надкостницу, слегка отодвигает ее металлической лопаточкой, ставит крючок и берется за ручной трепан-коловорот.
– Некоторые хирурги употребляют электрический трепан для сверления, – говорит он Никите и Василию Кузьмичу, – а я не люблю. Ручной более чуток. С ним не ввалишься куда не следует. Мозг не терпит грубого обращения. Минут на пятнадцать дольше, но зато мягче. Степан! Если тебе неприятно, скажи! – обращается он к больному, быстро крутя коловорот.
– Ни-чего! – тихо отвечает Степан.
Просверлено пять маленьких дырочек по углам разреза. Сменив перфоратор-копье на фрезу, размером и видом похожую на пулю жакан, Иван Иванович повторяет сверление всех пяти отверстий.
Капельное вливание физиологического раствора в ножную вену уже началось. Марфа боится отойти от капельницы, хотя того, что влито туда, хватит надолго, шепотом снова отдает строжайший наказ своей помощнице насчет печей, тепла, горячей воды. Чтобы все было как следует.
Отверстия, просверленные в черепе, закрываются тампонами; очистив два близлежащих от белоснежно-розовых костных опилок, Иван Иванович с помощью проводника – тупой, слегка изогнутой стальной пластинки – продевает под костный мостик проволочную пилку. Быстрыми движениями обеих рук потягивая концы пилки вверх, он делает пропил наискось к наружному краю будущего «окна».
– Трещит, скрипит, а это ничего. Это пустяки! – говорит он громко для Степана.
Фельдшер Василий или Никита переводят.
Соединены пропилом последние отверстия, и костный лоскут откидывается на надкостнице, не надрезанной у его основания. Кость с одного края сильно истончена, шероховата. Хирург замазывает воском кровоточащие точечные отверстия в ней. Откинутые лоскуты закрываются марлей, сверху – полотенцем, теперь видны только связанные зажимы.
– Это мозговая оболочка. Она изменена. Сосуды расширены, – как всегда поучая, говорит Иван Иванович фельдшерам, не глядя на них. – Видите, какая она напряженная, совсем не пульсирует. Придется делать поясничный прокол, чтобы снизить внутричерепное давление…
Проследив, как закапала светлая спинномозговая жидкость, Иван Иванович возвращается на свое место. Напряжение оболочки начинает уменьшаться: мозг под нею, выпиравший бугром, опадает, она морщится, точно дрябнет, пронизанная веточками сосудов. Появляется пульсация.
Иван Иванович захватывает мозговую оболочку пинцетом, продевает в нее кривой иглой нитку, затем с помощью нитки приподнимает и очень осторожно разрезает специальными изогнутыми ножницами.
45
В это время возле двери в приемной скопились зрители, оттирая друг друга от заповедной щели между косяком и занавеской. Захар, обеспокоенный участью брата, тоже засматривал вместе с Кадкой. Но операционная комната была большая, стол стоял в дальнем углу, да еще Марфа его загораживала. Захар налег на чьи-то плечи, на выгнутую спину, подтянулся повыше… Случайный взгляд доктора заставил людей попятиться. Захар качнулся и упал, оборвав занавеску.
Звякнуло что-то от сотрясения на маленьком столике, но Иван Иванович не обернулся, может быть, даже не расслышал…
– Вон! – громким шепотом бросила Марфа по-якутски.
Повторять не понадобилось. В один миг Захара, сгоравшего от стыда, оттащили за ноги, прицепили на место занавеску – и стало тихо. Даже не хлопнула дверь – любопытные пробрались внутренним ходом, через комнату доктора: знали, что на столе лежит полуголый, все равно что раненый человек и нельзя выстуживать помещение.
– Больно! Кость ломит, – жалуется Степан.
– Это потому, что я касаюсь оболочки. А косточка не болит ни у кого.
– Где-то кровоточит! – замечает Василий Кузьмич, увидев, как кровь каплет на фартук хирурга.
– Зажмите, – коротко приказывает Иван Иванович Никите. – Каждую каплю крови беречь надо. – Но, вспомнив о неопытности своего ассистента, сам находит и ловит зажимом нужный сосуд.
Красные влажные пятна на его халате быстро запекаются, бурея, словно ржавчина.
После частичного откидывания лоскута мозговой оболочки сразу же обнаружилась сплошная твердая масса бугристой опухоли – менингиомы – вишнево-красного и лиловатого цвета.
– Есть! – Иван Иванович с облегчением переводит дыхание. – Степан, друг, ты ведь левша? Разговаривайте с ним! – приказывает он Василию Кузьмичу и к сестре: – Раствор!.. Кохер!
Нужные инструменты словно сами собой поднимаются с тарелок-подносов и попадают в цепкие, чуткие руки хирурга.
Теперь он почти успокоился: диагноз был поставлен точно. Продолжая свое дело, Иван Иванович с чувством признательности вспоминает невропатолога. Мелькает и остро ранящая мысль об Ольге, и доктор на миг распрямляется, будто хочет сбросить с плеч тяжесть.
– Какое у него давление? Ток! Вы, милуша, только вызывайте его на разговор, а слушайте меня!
Сестра вспыхивает, скорее догадавшись, чем поняв суть замечания, включает диатермию. Василий Кузьмич смотрит на приборы.
– Давление девяносто.
– Ну, что же, пока хорошее…
На большом протяжении опухоль спаяна с твердой мозговой оболочкой. При отделении ее появляется кровотечение из многочисленных расширенных вен в местах спаек. Смывание раствором, нажим марлевого шарика, пока электроотсос собирает жидкость, – и кровоточащий сосуд обнаружен…
Осторожно, медленно вводятся полоски-ленты из марли, смоченной в солевом растворе, между опухолью и тканью мозга. Они отслаивают опухоль и, сдавливая сосуды, останавливают кровотечение.
– Степан, ты говори, когда что-нибудь не так.
Тот не отвечает.
– Степан! Степан! – тихонько зовет Иван Иванович, продолжая работать.
– Жарко! – отзывается больной чужим голосом, словно в бреду.
– Дайте ему воды! Какой пульс?
– Пятьдесят шесть, – отвечает Василий Кузьмич.
– Введите камфару!
С одной стороны опухоль не отслаивается: здесь она внедрилась очень глубоко. Иван Иванович, подводя под нее марлевые тампоны, отодвигает лопаточкой мозг, податливо мягкий, но заполненный массой сосудов, питающих кровью и кислородом миллионы мозговых нервных клеток. Какая должна быть осторожность, чтобы не разрушить при операции центры, управляющие речью, движениями и способностью мыслить!
– Клипс!
Хирург берет пинцетом с пирамидки крохотные серебряные скобки, зажимает ими перерезанные сосуды, связывавшие опухоль с мозгом, и, неожиданно улыбаясь, говорит своим помощникам:
– Когда много клипсов поставлено, то потом, на рентгене, кажется, что у человека целый заряд дроби в голове. Клипсы хороши тем, что не вызывают раздражения и не съеживают оболочку.
Отодвинув мозг, хирург выводит нижний край опухоли.
– Разговаривайте с больным!
Постепенно введены ленты на всех участках по окружности и в глубину. После этого Иван Иванович прошивает опухоль толстыми нитками и, медленно приподнимая за них, как бы вывихивает ее из мозга. У места наиболее мощной спайки она удаляется вместе с твердой мозговой оболочкой.
– Разговаривайте с больным!
Опухоль по своему строению похожа на кочан цветной капусты. Ложе ее представляет глубокую воронку в веществе мозга. Оттесняя его, она уходила нижним краем в глубину сантиметров на шесть…
– Давление падает, – сообщает старый фельдшер. – Уже семьдесят.
– А вначале было?
– Сто тридцать.
– Горячую салфетку! – Иван Иванович кладет ее в образовавшуюся воронку, на колени ему каплет кровь. – Степан, милый, капсе!
Степан молчит.
– Говорите, говорите с ним! Давление?
– Пятьдесят пять.
Хирург осушает рану сухими стерильными салфетками, закрывает ее марлей.
– Давайте делать переливание крови!
Донор не без страха ложится на соседний стол, вплотную придвинутый к операционному.
Иван Иванович совместно с Василием Кузьмичем делают эту серьезную процедуру. Черномазенькая семиклассница из учаханской школы, заменив фельдшера у приборов, измеряет давление. Она не зря практиковалась…
– Сколько?
– Семьдесят пять.
– Прекрасно! Хватит. Крови влито почти двести пятьдесят кубиков.
– Лицо больно! – очнувшись, говорит Степан.
– Ничего, друг, теперь самое трудное сделано, – успокаивает Иван Иванович, снова становясь на место.
Яма, бывшая ложем опухоли, к концу операции начинает выравниваться так быстро, что у Ивана Ивановича возникает опасение, как бы не возник острый отек мозга, который не даст закрыть костное «окно». Снова и снова вспоминается ему смерть приисковой машинистки на операционном столе… Нельзя умирать Степану!.. Но каждую минуту могут быть самые тяжкие осложнения: шок, падение сердечной и дыхательной деятельности, двигательное и психическое возбуждение… Все существо хирурга собрано и готово к любым случайностям.
Тщательно остановлено кровотечение на операционном поле. Обмыты солевым раствором открытые участки мозга. Сшита твердая мозговая оболочка. Там, где была спайка ее с опухолью, образовалась прореха, и Иван Иванович закрывает дефект отслоенными от оболочки листками.
Потом он укладывает костный лоскут. Этот кусок кости, выпиленный шире к наружному краю «окна», ложится на место, не провисая.
Наложены швы на слой надкостницы, богатой сосудами, питающими кость. Кожный лоскут опрокинут на рану. Он словно завял. Зажимы снимаются. Кожа сшивается более крупной кривой иглой, более толстым шелком.
По лобному краю разреза Иван Иванович сделал узловые швы из более тонкого шелка.
– Рубца не будет видно, – пояснил он. – Ну, как, дагор? – спросил он, заглядывая в лицо больного. – Как чувствуешь, друг? Капсе!
– Капсе! Живой еще! – тихо сказал Степан.
– Я его разговором мучил потому, что он левша. А у левши речевое представительство в правом полушарии. Поэтому, когда идешь, все спрашиваешь о речи, – объяснил Иван Иванович своим помощникам. – Сейчас ему нужен полный покой. Койку согреть грелками, принесем ее сюда – пусть он до завтра здесь полежит. Донора на ночь оставим: вдруг опять давление понизится.
40
Только после того, как миновало часа четыре дежурства у постели Степана, Иван Иванович немного успокоился. Войдя к себе покурить, он представил все связанное с письмом Ольги. Днем ему некогда было подумать об этом, а теперь острота личного горя заглушалась, перебивалась усталостью и впечатлениями от проделанной операции: то мерещилась кровоточащая рана, то место внедрения опухоли в глубину мозга, то вставали перед ним лица Никиты, Марфы и важно-серьезных смугленьких девочек, которые так хорошо работали сегодня.
«Молодцы! Только не получилось бы какой каверзы в течение ближайших суток…» – думал Иван Иванович с чувством признательности и даже нежности к этим людям.
И опять ему вспоминались не его семейные дела, а всевозможные случаи осложнений после операции на головном мозгу. Попросту сказать, он был еще взволнован проделанной им нелегкой работой. Извлеченной опухолью, которую Никита опустил в банку со спиртом, Иван Иванович просто залюбовался.
– Давно надо бы до тебя добраться! Здорово мы тебя ухватили. Просто здорово! – бормотал он с чувством глубокого удовлетворения, вглядываясь в места ее бывших спаек.
В комнату вошел Никита.
– Что? – спросил Иван Иванович, настораживаясь.
– Ничего. Лежит. Девчата там и Марфа.
– Пусть только не курят возле него.
– Разве можно! Они в приемную выходят, там дверку печную открывают и курят.
– Девушки-то какие герои оказались!
– Правда! Я знал: они очень серьезно интересовались, – с гордостью сказал Никита.
– Да, какие герои! – не находя более подходящего слова, повторил Иван Иванович. – А курят зря. Марфа – пожилая женщина, ей простительно…
– С детства привыкли. Когда поймут, что это вредно, – бросят. Вот Варвара бросила же.
– Варя умница, – взгрустнув, пробормотал Иван Иванович.
– А если бы не делать операцию еще год-два? – спросил Никита, не без намерения переведя разговор.
– Степан не протянул бы столько.
– Больно, наверно, когда мозг трогают?
– Нет, от прикосновения к мозгу боль не ощущается. А твердая мозговая оболочка очень чувствительна, особенно там, где проходит средняя оболочечная артерия. Но стоит смазать ее раствором новокаина – и можно рассекать без боли. Какое это дело – нейрохирургия! – воодушевляясь, сказал Иван Иванович. – Ты, Никита, еще совсем молодой, у тебя есть все нужное для хирурга: спокойствие, выдержка, точный глаз, руки богатые! Не останавливайся на полпути. Поработай здесь годик-два фельдшером – и двигай дальше, в институт норови попасть.
– Я тоже так думаю! Хочу учиться дальше, обязательно стать хирургом. Хотя это трудно и страшно: я очень боялся сегодня, – признался Никита с застенчивой улыбкой.
– Чего? Что я череп вскрывал?
– Нет. То интересно было. Но сначала я боялся, что мы разрежем, да не там, где нужно: вдруг опухоль оказалась бы в другом месте? Все-таки без рентгена же! – еще более смущаясь, пояснил Никита. – Потом боялся, чтобы не выключилось электричество, как тогда, на Каменушке, чтобы не сделалось кровотечения сильного и не умер бы Степан!..
Доктор слушал внимательно.
– Ты думаешь, я сам не боялся? Хотя все продумывал заранее. Ведь нервные клетки никогда не восстанавливаются так, как другие ткани. Их деятельность компенсируется только за счет остальных клеток. Поэтому всегда надо помнить мудрую пословицу «Семь раз примерь, а один раз отрежь». Вскрываю я человеку череп и лезу в мозг. Мозг – мягкая серая и белая масса. Проколи ее иголкой, проткни ланцетом – больно не будет, следа не останется. Но так не везде… Есть поля, где может засесть пуля, осколок, разрастись такая вот дрянь, какую мы сегодня вынули, а человек хоть спотыкается, но живет. Хиреет постепенно. Однако от этих мест нельзя шагнуть в сторону безнаказанно. Я вам говорил на Каменушке о топографии мозга… – Иван Иванович запнулся, но как бы отмахнулся про себя и продолжал: – Целую карту я тогда рисовал: где что находится, куда идет зрительное или болевое восприятие, откуда подается команда к действию. Ведь человек погибает не потому, что попала ему пуля в голову. И попадает, да не убивает. Можно вынуть кусок мозга с кулак в правой лобной области без опасности для самой жизни. А вот ударила пуля в затылок, в продолговатый мозг, где дыхательный центр, – и человек мгновенно гибнет от остановки дыхания. Там же центр, руководящий кровообращением, от которого зависит работа сердца. В области центральной борозды мозга управление движением, тронь его – и крепкое, сильное существо будет лежать пластом. Вот сегодня я очень опасался оставить Степана без речи. Ни на один миллиметр нельзя без особой нужды вторгаться в запретную зону. Вот тут я боюсь. Но боюсь не так, чтобы отказаться от попытки спасти человека. Это была бы простая трусость. С боязнью в сердце я иду, если нужно, на самый крайний риск, но все продумав и взвесив. Бывают, конечно, промахи…
Иван Иванович встал и легко прошелся по комнате. Он рад был своему слушателю, как радовался и тому, что в каждом углу громадного для тайги дома дышали люди. Молодой фельдшер следил за ним взглядом, и у него от волнения теснило, першило в горле: этот большой человек казался ему ближе всякой родни. Никита знал: случись несчастье с любым из окружающих, Иван Иванович первым бросится на выручку и не выдаст, не отступит, как не выдал бы и не отступил он сам. Разные по возрасту, по образованию, по национальности, они были связаны неразрывным, единым отношением к труду и обществу, в котором жили.
Подойдя к двери, Иван Иванович выглянул в приемную: Марфа покуривала свою трубочку, сидя на низком табурете возле печи-голландки, сложенной из дикого камня и обтянутой черным листовым железом. Дым голубоватой струей таял в огне, только что охватившем поленья, подложенные ею.
Заслышав шорох шагов позади, женщина обернулась.
– Чего не спишь? Не отдыхаешь? – строго спросила она. – Мы спать не будем. Девки около Степана. После я буду караулить. Ты, однако, устал.
– Устал! – Иван Иванович, мягко ступая большими унтами, подошел и сел рядом на куче дров.
– Как давеча Захарка-то упал? – напомнила Марфа с доброй насмешкой. – Свалился, дурак, ровно медведь с пчелиного дупла. Я испугалась: думала, ты вздрогнешь да распорешь не там, где надо. Ведь все мозги у Степана наруже оказались. Засмеют теперь Захарку наши охотники. Стыд какой! Разве можно человека под руку толкать? А он толкнул тебя, однако.
– Мне не до него было…
– Нехорошо… А еще охотник! Ты бабу его, Кадку, видел? Красивая у него баба. Не хочешь спать, так расскажу про них, как они поженились. Только Никиту позову, а то не все слова по-русски знаю. Он переведет.
– Погоди, я прежде посмотрю Степана.
47
– Теперь расскажи про Захара и Кадку, – попросил Иван Иванович, возвратись из операционной, и Марфа стала рассказывать.
– Кадкин отец, богатый тойон, жил на реке Артыкан. Всей лучшей землей владел. Коров много держал, лошадей у него было без счета. Скот его будто облака по лугам ходил. Работников да родни – целое войско. Кадке теперь сорок годов с лишком… Сейчас красивая, а в девках она походила на богову барышню с иконки, только что без крылышков. Крестили ее уже большую, до того она Матреной звалась, – у нас, бывало, стариков и старух крестили, которые в дальней тайге зажились. Приехал тогда с попом на Артыкан богатый якут-подрядчик. Он, однако, и придумал для Кадки такое чудное имя. Стал у нас подолгу жить и вместе с Кадкиным отцом творить плохие дела. Перепродали русским промышленникам скот на мясо и взяли подряд на сено. Сено было важнее хлеба для якутского народа, а они его запродали и деньги взяли вперед. А чтобы уговор выполнять, забрали себе все хорошие покосы и разорили своих сородичей совсем. Потом Кадкин отец и ее против воли отдал в жены дружку-подрядчику. Большой калым за нее взял.
А Кадка уже в ту пору любила Захара. Росли-то вместе! Был он круглый сирота, общий сын, а верней, батрак для всего наслега. Шибко плакала Кадка, когда уезжала: муж-то в дедушки ей годился.
Привез ее старик в большой улус на Кухтуе. Дом у него русский, обзаведенье русское, разной еды полно. А Кадка все плачет. С год так мучилася, а после надумала… Уйти от мужа домой нельзя: отец обратно привезет. Она и решила переступить закон – пусть и муж и отец прогонят. Тогда уйдет к Захарке. Умочек-то молодой, слабенький, а норов-то горячий. Вот и спуталася с мужниным сыном от первой жены. Узнал старик – осерчал. Сына женил, а Кадку не прогнал, а начал бить каждый день, как худую собаку. В ту пору и объявился на Кухтуе Захарка. Ему что: голый, смелый, хоть и дурак, – вставила Марфа, вспомнив сегодняшний проступок Захара. – Род его не стал притеснять, раз он уж вырос, отпустил: езжай куда хочешь. Он и явился на Кухтуй ровно снег на голову. Уж тут один бы конец – бежать обоим, а Кадка побоялася. Знала: плохо будет Захару – догонят да убьют. Дай, думает, рассержу еще старика, может, прогонит. И стала играть с самым худым мужичонком. Вот, мол, вам позор на весь улус! Добилася своего: выгнал муж-старик. Осталася Кадка свободная. Хватилася – к Захару, а его нету: обиделся Захар, осерчал да продался в кабалу оленей пасти. Ушел с эвенками в тундру за тысчу верст, больше. Где найдешь? Плохо стало Кадке. Баба красивая, а слава про нее худая. Куда придет, везде мужики пристают. Совсем было затравили, ровно волчонка.
– Когда же она с Захаром-то встретилась?.. – перебил Иван Иванович, заинтересованный и растревоженный: рассказ Марфы опять задел его за живое.
– Погоди. Скажу, – ответила та, набивая новую трубочку. – Это уж не через год, не через два… Тогда уж гражданская война кончалася. А Захар все оленей пас в тундре. У нас такие наслеги были, где про новые порядки только лет через десять узнали. Однако пришел новый порядок и в те места. А после Кадка туда явилася… Как она узнала, где Захар? В тайге на то свой разговор – капсе – есть. Целый месяц шла с оленьими стадами. Тоже пастухом работала. Встретились в тундре два пастуха: мужик Захар да баба Кадка, оба кабальны. Оба кабалу бросили и ушли вместе. С той поры живут, любятся.
Долго все трое молчали, лишь потрескивал огонь в печи, перебегая отсветами по задумчивым лицам людей.
– Уснул, – прошептала девушка, выглянув из дверей операционной.
Иван Иванович поднялся, легко ступая, опять прошел к больному.
Степан действительно уснул. Пульс у него был хороший, ровный. Мелкая испарина проступала над губой и между темными крыльями вкось разлетевшихся бровей. Смуглое лицо его в белой повязке показалось Ивану Ивановичу красивым.
Сестра, подававшая сегодня хирургический инструмент, сидела у койки и смотрела на доктора ясным, ожидающим взглядом.
– Молодец ты! – сказал он тихонько и провел ладонью по ее круглой головке, покрытой марлевой косынкой. – И ты молодец, – похвалил он другую, подошедшую от дверей. – Я о вас в газету напишу, когда вернусь на Каменушку. Пусть знают, какие девушки живут в тайге!
Слезы навернулись вдруг на глаза Ивана Ивановича, он и сам не знал отчего, и не спеша пошел из операционной.
48
Сначала совместная жизнь с Тавровым была для Ольги сплошным беспокойством. Она боялась возвращения Ивана Ивановича, встреч с его хорошими знакомыми, длительных отлучек Таврова; вздрагивала от скрипа отворяемой двери, резкого телефонного звонка. Когда ей приходилось отлучаться, чтобы собрать материал для очередной статьи, у нее все время было такое чувство, словно дома маленький ребенок. И если случалось запаздывать и она заставала Таврова на кухне с засученными рукавами, то чувствовала себя и виноватой, и необыкновенно счастливой. Она еще стеснялась выходить вместе с ним, а ожидая его с работы, по двадцать раз подходила к зеркалу посмотреть, хорошо ли сидит платье, к лицу ли причесана. Раньше ей не приходило в голову вертеться перед зеркалом из желания произвести впечатление на Ивана Ивановича. Она почему-то воображала, что нравилась ему в любом виде.
«С Борисом мы одногодки, и мне не хочется выглядеть старше его! – подумала Ольга, присаживаясь к письменному столу, где были разложены ее бумаги. – Мне и работать хочется все лучше, чтобы он больше ценил и крепче любил меня».








