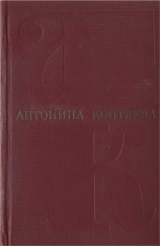
Текст книги "Собрание сочинений. Том 2. Иван Иванович"
Автор книги: Антонина Коптяева
сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 27 страниц)
Логунов передохнул, провел ладонью по широкому лбу и черным волосам, улыбнулся светло и грустно:
– Вот я вам все и выпалил. Вчера я разговаривал с одним партийцем-забойщиком. У него восемь человек детей. Жена на производстве не работает, ей и дома управиться трудно. Так он говорит: «Ничего, я их всех обеспечиваю». А я ему сказал: «Ты на этом не успокаивайся. Мало добыть детям кусок хлеба, надо воспитать их полноценными гражданами. Уделяешь ли ты время своей жене? Знаешь ли ты, чем она дышит, что ока может дать твоим детям? Она растит целый отряд строителей, людей, которые будут жить при коммунизме. Ведь это только представить нужно! Так помоги ей заботой о ее собственном культурном и моральном росте, чтобы она не оставалась только чернорабочей-поденщицей в твоей большой семье».
Иван Иванович сидел, опустив голову, нервно сжимая в руках маленькую книжечку, написанную его женой. И чем дольше говорил Логунов, тем больше сутулились плечи доктора, тем ниже опускалась его голова с упрямым ежиком темных волос.
68
Среди ночи Иван Иванович проснулся от давящей боли в сердце. Оно сжималось с такой необычайной силой, что в первую минуту доктор подумал о приступе грудной жабы. Он вспомнил лицо больного китайца-старателя, бледно-желтое, покрытое потом после долгих часов жестокого удушья, его тело, застывшее от боязни шевельнуться, чтобы не вызвать нового страдания.
«Неужели и у меня это же? Как я не заметил раньше?» – Иван Иванович повернулся с нарочитой резкостью, но не ощутил ничего особенного; сердечная боль переходила в нудное, глухое томление. Лицо Таврова всплыло в памяти, разгоняя остатки дремы…
– А-а-а! – простонал доктор и, сжимая кулаками лоб, откинулся на подушку. – Каких пышных фраз я ему наговорил! Они трусы… Ну, а я-то почему сам подставил голову под обух? Даже переговорить с Ольгой вовремя не смог… не сумел. Хотя уже поздно было!.. Логунов прав: я не заметил, как она отстала, и поэтому потерял ее.
Одним сильным движением Иван Иванович поднялся, сел на диване; потом закурил и начал ходить по комнате, не зажигая света.
– Надо уезжать отсюда. Забыть все, вычеркнуть из памяти, – решил он наконец. – Завтра же подам заявление.
Но назавтра он неожиданно заинтересовался китайцем, который давно страдал жестокими приступами грудной жабы, считался уже обреченным и доживал последние дни на камфаре. Иван Иванович еще раз осмотрел его, посоветовался с невропатологом и терапевтом и к вечеру назначил операцию.
На этот раз усомнился даже Хижняк:
– Очень уж слаб больной. Стоит ли?
– Стоит. Случай затяжной, артериосклероз выражен очень слабо, – ответил Иван Иванович, моя руки водой с нашатырным спиртом. – Такие операции уже не популярны сейчас: эффект малый, но я не хочу, чтобы больной погиб на днях. По крайней мере, на шесть месяцев ручаюсь за улучшение. А там кто знает!.. Ведь мы с вами придерживаемся правила: ни одной жизни не отдавать без боя.
Он произвел иссечение узлов симпатического нерва на шее больного с левой стороны, и сам проследил, как снимали его со стола и укладывали в палате. Рабочий день хирурга на этом закончился. Иван Иванович умылся, сбросил халат, кое-где забрызганный кровью, и в раздумье остановился у письменного стола. Надо было писать заявление об уходе, но как собраться, бросив тяжелобольных, оперированных им после возвращения!
«Не могу сейчас, и не подам, и никуда не уеду! Пусть будет тяжело, но так позорно, малодушно убегать я не согласен».
Он вышел на крыльцо больницы… В воздухе столбами толклась и звенела мошкара; комары так и заливались, так и дули в свои крохотные трубы. Привлеченный необычайной суетней маленьких кровопийц, надоевших ему в тайге, доктор остановился: чем вызвано такое торжество? Да, тепло и тихо: после вчерашнего ливня погода стояла роскошная. В небе, красочно расписанном зарею, синие лучи расходились гигантским веером по пурпуру и позолоте, падая из-за лиловых туч. Там было солнце. Вот оно, раскалив края облаков, выкатилось, как литой шар, и, мгновенно меняясь, еще ярче заиграли краски заката, охватившие полнеба. Взойдет завтра солнце – и снова придет день, небогатая временем мера человеческой жизни. За ним потянутся чередой миллионы, миллиарды дней… Пока светит миру солнце, будут приходить они. Но этот день угасает невозвратно.
Иван Иванович смотрел на зарю… Еще что-то было сорвано с его саднящей души, и чуткая обостренность всех чувств почти болезненно отзывалась в груди.
Вот ветерок потянул с гольцовых гор, не по-северному мягкий, – дыхание цветущей тайги. Любимая, прекрасная земля!.. Сознание своей нужности на этой земле вдруг опалило Ивана Ивановича лихорадочным ознобом. Он тихо сошел по ступеням и пошел по прииску, куда глаза глядят. Его окликали приветствиями, зазывали на чай, на ужин, пытались расспрашивать о тайге. Доктор отвечал невпопад, крепко пожимал протянутые руки и торопливо уходил. Искал ли он кого? Во всяком случае, когда на одной из улочек зазвучал, приближаясь, голос Ольги, Иван Иванович не свернул в сторону: неизвестно зачем, но они должны были встретиться.
Ольга шла не одна: рядом с нею постукивала каблучками Пава Романовна, благоухавшая так, точно выкупалась в одеколоне. Пава сразу засуетилась, пышные локоны над ее маленьким лбом запрыгали. Но Иван Иванович, лишь мельком посмотрев на жену бухгалтера, весь обратился к Ольге, пытливо, задумчиво, изучающе глядя на нее, словно впервые увидел. Она не смутилась, не растерялась. На ее лице выразилось скорее сострадание к нему и готовность к отпору в случае нападения. Это была новая Ольга.
– Ты хочешь поговорить со мной? – спросила она, выдавая голосом сдержанное волнение.
Иван Иванович молча кивнул.
– Я могу отойти в сторону, – предложила Пава Романовна.
Он посмотрел на нее рассеянно.
– Все равно. Вы не помешаете. – И опять обернулся к Ольге: – Сразу видно – ты не сожалеешь о прошлом… Значит, дело к лучшему! Недаром говорится: рыба ищет, где глубже, а человек… На то он и человек, чтобы искать и беспокоиться! Только никто не должен страдать от этих поисков… – Иван Иванович помолчал: горечь неизжитой обиды душила его. – Зачем вам понадобилось столько времени обманывать меня. Вот что не укладывается в моей голове! – глухо кинул он, направляясь в сторону.
Ольга ринулась было за ним, но он, мощный и быстрый на ногу, мгновенно скрылся за бараками.
69
«Даже сейчас я хотел бы возврата, но его не может быть, и надо свыкнуться с этой мыслью», – думал Иван Иванович, шагая взад и вперед по своему домашнему кабинету.
Останавливался. Курил. И опять ходил по квартире, споря сам с собой.
«Все ясно, а сердце щемит и щемит. Когда же наступит облегчение? Да-да-да. Стыдно не то, что тебя обманывали. Постыднее теперь: уже знаю – разлюбила, не нужен я ей, а успокоиться не могу. Где же твое самолюбие? – с гневным укором бросил он себе, а после минутного раздумья: – Да что стыд и самолюбие! Тут другое: прав, прав Логунов! Всем я был вроде хорош, а в семейном вопросе сорвался. Почему я сам не заметил наклонностей Ольги к литературной работе, а Тавров, посторонний, заметил? Почему я не ободрил ее, когда она терпела первые неудачи в газете? Ведь Тавров тоже занят работой, и разве у меня совсем нет свободного времени? Играл же я в городки, в карты, ходил на охоту! Да, иногда нескольких слов достаточно, чтобы поддержать пошатнувшегося человека. В самом деле: сорвал девчонку с третьего курса института, с настоящей учебы, а потом считал себя прекрасным мужем потому, что давал ей возможность мотаться по всяким случайным лекциям. А если бы это дочка моя ушла из института… Наверно, я уговорил бы ее вернуться. И какой переполох вызвало бы такое в семье! Отчего же за жену-то не беспокоило чувство ответственности!»
Мимоходом Иван Иванович взглянул в зеркало, замедлил и несколько минут всматривался в черты человека, стоявшего перед ним.
«Осунулся, постарел, что и говорить! Бороду отпустил. Подумаешь, маскарад! Долой! Нечего из себя отшельника изображать!»
Он побрился, протирая одеколоном щеки и подбородок, еще раз грустно и взыскательно посмотрел на свое лицо: Волосы топорщатся непослушным ежиком, и на темных бровях тоже петушки какие-то… Иван Иванович потрогал эти густые вихорки на бровях и, вздохнув, отошел от зеркала, решительно не зная, чем ему заняться теперь, как убить выдавшийся свободный вечер. Читать не мог, перо валилось из рук: такая нудная тоска томила его, что он все время чувствовал себя словно на иголках.
«Пойду в больницу, посмотрю, что там». – Он двинулся к выходу, но раздался стук в дверь, и в квартиру, сразу заполнив ее запахами парфюмерного магазина, вошла Пава Романовна.
– Добрый вечер! – промолвила она ласково.
Иван Иванович не ответил, вопросительно глядя на нее. У него-то вид был не очень ласковый.
– Я к вам по делу, – сказала она и, точно не замечая его угрюмого взгляда, без приглашения присела к столу.
– Да, у вас все дела!
– Правда, у меня много нагрузок… – Она кокетливо улыбнулась, не зная, как принять его слова. – В наше время нельзя жить, замкнувшись в своей скорлупе. Общественная работа – долг каждой культурной женщины…
– Вы что же, с общественным заданием ко мне пришли?
– Нет, я к вам по сугубо личному, интимному делу…
– Если насчет аборта, то зря, – отрезал он.
Пава Романовна вспыхнула и покачала головой.
– Ох, какой вы!
– Да, уж такой!
– Вы напрасно сердитесь на меня, – заговорила она примирительным тоном. – Я вам всегда сочувствовала, клянусь… А теперь тем более… Я хочу сказать, тем более не стоит сердиться, – игриво поправилась она. – Мы уезжаем скоро. Пряхина отзывают в трест: ему трудновато на производстве. Он ведь кабинетный работник. – Пава Романовна чуточку выждала и добавила без сожаления: – Так что уезжаем в центр…
– Давно пора! – тоже без сожаления промолвил Иван Иванович. – И сейчас пора…
– Вы меня гоните! – Она испытующе, открыто зовуще посмотрела на него и еще помедлив, достала из сумки конверт. – Ольга Павловна очень просила, и я не могла отказаться от ее поручения. Может быть, ей вредно сейчас волноваться, – ввернула Пава Романовна с веселым ехидством.
По встрече Ивана Ивановича с Ольгой она определила, что он достаточно выдержан, и ничего не опасалась. Поэтому, положив письмо на стол и подвинув его в сторону хозяина квартиры, она уселась поудобнее и, по-птичьи охорашиваясь, заявила:
– Теперь вы должны любезнее относиться к своей гостье. Вы видите, как она сочувствует вам… Немного найдется охотников до таких поручений…
– Да, к счастью, таких почтальонов у нас немного, – сказал Иван Иванович, бледнея от гнева.
– За кого вы меня принимаете, – воскликнула Пава Романовна с искренним огорчением. – Сводничеством я не занималась. Они нисколечко не доверяли мне… Даже мне, – повторила она в простодушном раздумье, наморщив гладенький лоб. – Вы видите, я вполне откровенна. У меня, кажется, даже получилось, что я рада была бы посводничать. Но ничего подобного, клянусь честью!
– Клятва потрясающая! – Иван Иванович скорбно усмехнулся. – Я очень прошу вас: идите-ка вы с миром, а то боюсь, не получилось бы у нас по рассказу Горького…
– Как не получилось бы? – загораясь любопытством, спросила Пава Романовна.
– Да так… Был у него случай, когда пришлось ему погладить одну дамочку лопатой пониже спины. Учтите, я тоже человек вспыльчивый.
Осторожно, точно боясь обжечься, Иван Иванович вскрыл письмо.
«Как женщина, я должна бы остаться довольной, что наше маленькое объяснение закончилось мирно и благополучно, – писала Ольга. – Но меня мучает мысль, что вы ложно истолковали мое поведение в прошлом. Я не обманывала вас, живя с вами, но мне нечем стало жить подле вас. Когда я пыталась найти место в жизни, вы или равнодушно относились к моим попыткам, или старались подчинить меня своей работе, или просто высмеивали, как в последний раз. Когда я встретила Таврова…»
Иван Иванович гневно смял листок бумаги, который теперь действительно жег его руки…
– Какая жестокость! – вырвалось у него, но не прочитать письмо он не мог и, разутюжив его кулаком, снова устремил взгляд на колючие строчки.
«…я отнеслась к нему дружески просто, – сообщала Ольга. – Тавров заинтересовался не только моей внешностью, а стал моим болельщиком и советчиком, и это душевно сблизило нас. И, однако, когда я забеременела, я решила остаться с вами, надеясь, что рождение ребенка восстановит мое отношение к вам. Мне было тяжело, вы чувствовали по себе. Но я думала: время пройдет, родится ребенок, и нам опять будет хорошо вместе. Когда все закончилось больницей, это означало полное крушение, и я ушла.
Зачем я вам пишу? Я не хочу, чтобы вы слишком плохо думали обо мне: Пава Романовна не имеет в нашей жизни никакого значения.
От души желаю вам самого хорошего.
Уважающая вас Ольга Строганова».
– Я да я, а обо мне не думает. А впрочем, и не надо. Выходит, получил по заслугам сполна! – Иван Иванович долго сидел не шевелясь, потом лицо его прояснело, добрая чуточная улыбка засветилась в глазах:
– Все-таки я не напрасно ее любил!
70
– Что мне делать, Елена Денисовна? – спросила Варвара.
Она прилегла на травку возле старшей подруги, положила голову на ее теплые колени. Обе сидели в огороде у зеленевших гряд, только что прополотых ими. По всему склону горы весело пестрели женские и детские платья, белели рубашки мужчин. Звонко перекликались голоса. Проходили дружные парочки.
Был выходкой день. Но драга в долине, за прииском, стучала и лязгала не переставая; сновали крохотные издали вагонетки рудничного бремсберга, связывая в одно целое бывшие владения Платона Логунова и Таврова – людей, по-разному вошедших в жизнь Варвары, – синел дым над высокими трубами электростанции. Добыча золота шла без перерыва.
Все здесь зависело от производства, и каждый по-своему служил ему, ощущая постоянно его ритм. Была энтузиасткой золотодобычи и Варвара. На днях она закончит фельдшерские курсы, а затем занятия по подготовке в вуз. Уже есть договоренность об отправке ее в медицинский институт, окончив который она обязательно вернется обратно. Живется напряженно, интересно, но бывают минуты, когда она чувствует себя только женщиной, любящей и страдающей…
– Что мне делать? – повторила она, прикрывая ресницами горячий блеск глаз, обхватила руками крепкий стан Елены Денисовны и, пряча от нее разрумянившееся лицо, сказала: – У меня ноги подкашиваются, когда я слышу его шаги. Это нехорошо, правда? Стыдно, наверно, но я не могу справиться с собой… Помните, как он смеялся, Елена Денисовна?
– Конечно, помню, Варенька!
Варвара приподнялась, оправила платье и спросила тихонько:
– Бы любите своего Хижняка?
– Очень люблю.
– Смогли бы жить без него!
– Спаси бог! Зачем такое говорить!
– Нет, вы скажите… Смогли бы?
– Наверно, не умерла бы… Живут же, без рук и ног живут! Только без головы не проживешь.
– Почему вы рассердились! Я просто узнать хочу, как вы любите.
– Как все нормальные женщины.
– И всегда любили? – приставала Варя, стоя перед ней на коленях и пытливо заглядывая ей в глаза.
– Родилась, тут же и влюбилась!..
– Не надо так! Ведь вы счастливая…
– И ты будешь счастливая. Ты и сейчас счастливая: умная, красивая, жизнь перед тобой открыта.
– А любовь?
– Будет и это…
– Что будет, Елена Денисовна? – спросил Логунов, появляясь над изгородью.
Варвара ахнула от неожиданности:
– Откуда вы, Платон Артемович?
– Прямо с митинга.
– С митинга? – Варвара быстро вскочила, отряхиваясь, подошла к нему. – Как же я ничего не знаю?
– Это очень неожиданно произошло…
– Что произошло, Платон Артемович? – сразу побледнев, спросила жена Хижняка.
– Было правительственное сообщение… Сегодня в четыре часа, на рассвете, немцы бомбили наши пограничные города…
– В четыре утра? – переспросила ошеломленная Варвара. – Мы в это время находились на утреннем обходе в больнице. Ведь у нас здесь день начинается на семь часов раньше…
– Война! Опять она, проклятая! – сказала Елена Денисовна голосом, от которого похолодели и Логунов и Варвара. – Опять они! – Лицо сибирячки исказилось на миг болезненной гримасой: в шестнадцатом году в боях с немцами под Луцком погибли ее отец и два брата, теперь подлежали призыву муж и старший из сыновей.
71
Минут через десять огороды опустели. Пусто стало и в бараках: весь народ высыпал на улицу прииска.
За тысячи километров прилетело на север черное слово: «Война!»
Дрогнули сердца русских старателей и шахтеров, колхозников-якутов, таежных следопытов – эвенков.
– Родина!
Звенит разговор – капсе – по таежным тропинкам. Охотник слушает, крепче сжимает ружье, заряженное жаканом, шире раскрываются его косо прорезанные глаза. Опасна охота на медведя, грозен раненый зверь, да смела душа охотника, привычного к опасностям с детства. Он рискует своей жизнью на каждом шагу, но посягнуть на чужую человеческую жизнь – для него страшное дело. Как побороть страх перед необходимостью убивать будущему солдату?
– Фашист хуже, чем зверь, хуже, чем бешеный волк, – говорит на митинге в Учахане Марфа Антонова. – Он хочет поработить нас и наших детей. Готов совсем стереть нас с лица земли, лишь бы ему сладко кушать и мягко спать. Допустим ли мы его на свою землю?
– Сох! Сох! – кричат учаханские колхозники.
– Фашисты – те, кто придумал недобрую сказку о лучшей расе, – говорит председатель рыбачьей эвенкийской артели (митинг идет на берегу порожистой горной реки среди островерхих чумов). – По этой сказке выходит, что фашисты-немцы и фашисты-японцы – самые красивые люди на земле. Остальные народы для них рабочий скот, вроде оленей: можно запрячь, можно убить. А русские, советские люди сказали: все народы одинаковы. Лучшая раса – хитрая, злая выдумка. Были мы: эвенки, русские, китайцы и якуты – одинаковы у Советской власти?
– Были! – мощным хором отвечает собрание смуглолицых, черноволосых и стройных людей. – Для Советской власти мы все красивые.
– Станем мы ее защищать?
– Да! Ничего не пожалеем на защиту Родины!
– Мы теперь воюющий цех, – сказал на общеприисковом митинге секретарь райкома Логунов. – Золото будет воевать наравне со сталью и чугуном. Перевыполнение планов золотодобычи – вот наш удар по врагу. Никакой расхлябанности! Дисциплина в далеком тылу должна быть образцовой.
– Мы победим, Платон Артемович. Правда! Мы должны победить, – говорила Варвара, возвращаясь домой. – Ведь невозможно повернуть историю обратно. Они напали на нас неожиданно, но мы соберем все силы…
– Мобилизация объявлена пока в западных областях, до Урала. В Якутии она пройдет много позже, если война затянется… И, наверно, только в южной Якутии. Вряд ли станут призывать военнообязанных у нас, на севере. Здесь мало населения, а промыслы боевые: золото и меха – валюта! – сказал Логунов, не скрывая тревоги от любимой девушки. – Специалистам и ответственным работникам, наверно, дадут броню, как было в финскую войну… Но я не хочу оставаться, буду проситься на фронт.
– А я уже побывал в военкомате, – торжественно объявил Хижняк, подходя к крыльцу, где дружно сидело его семейство. – Отправляюсь фельдшером на передовые.
– Ох, Деня! – Елена Денисовна выпустила из рук половичок, который собиралась постелить на ступеньке. – Как же ты?.. Даже со мной не посоветовался!..
– Да разве ты отсоветовала бы?
Она не ответила: лицо ее побелело до голубизны и точно растаяло – так хлынули сразу слезы. Глядя на заплакавшую мать, заревела Наташка, засопели мальчишки-сыновья.
– Начался концерт! – сердито пробурчал Хижняк. – Ведь должен я…
– Не радоваться же нам! – сказала Елена Денисовна, вытирая лицо краем передника и ладонью. – Ведь Борис тоже пойдет…
– Еще бы он не пошел! – уже с напускной бодростью ответил Хижняк: при мысли о сыне, студенте-комсомольце, у него сжалось сердце.
Иван Иванович узнал о войне от санитарки, которая так бессовестно подвела его в прошлом году. Она по-прежнему работала в больнице, хотя и не в хирургическом отделении: Иван Иванович не хотел даже слышать о ней – не мог ее «переживать», по собственному выражению женщины. А тут она налетела на него, точно буря, и, забыв о разрыве отношений, крикнула:
– Война приключилась! Иван Иванович, голубчик, бегите слушать радио!
И доктор побежал.
Он дослушал передаваемое уже по записи выступление председателя Совмина и медленно вышел из комнаты отдыха, где собралась целая толпа санитарок, дежурных сестер и больных.
Также медленно прошел он по коридорам хирургического отделения, заглянул к своим, недавно оперированным больным, к Леше, который уже выздоравливал, поговорил с дежурным персоналом, но на сделал ни одного замечания. И весь вечер дома был тих и задумчив.
– Вот приобрел себе… Соберу котомочку – и в путь, – сказал он зашедшему Хижняку, с рассеянным видом застегивая и расстегивая ремни рюкзака.
– Куда?
– На фронт поеду. Уже подал заявление. Хочу поработать хирургом в армейском госпитале.
– Зачем же вам обязательно в армейский? Это дело чересчур даже рискованное. Проситесь лучше в тыловой, там и операции сложнее, серьезнее. А на фронте что? Ампутация, повязки, первичная обработка ран, кровь рекой. Отрезал, промыл, перевязал – и пошел, пошел, как по конвейеру, дальше, в тыл, на настоящий операционный стол. Ничего для вас интересного на передовой линии нет. Там уж мы будем действовать – мелкая сошка, которую легко заменить.
– Вы будете действовать?
– Мы. Я уже оформил документы! – не без важности сообщил Хижняк.
– И я тоже пойду туда, где кровь рекой, – сказал Иван Иванович. – Чем меньше ее прольет раненый, тем больше шансов у него остаться живым. Сохранить тысячи людей для строя – ради этого стоит рисковать!
72
Иван Иванович сидел на садовой скамейке, где не раз отдыхал вместе с женой и в последний раз любовался белой северной ночью. В прогалах между кудрявыми ивами и тополями, которыми заросла береговая терраса, виднелось сухое ложе Каменушки. Вода ее, принятая в канавы, шла нагорьем, но все тут еще дышало речкой свежестью и… воспоминаниями об Ольге.
Какая-то пичуга насвистывала поблизости в кустарниках, ей откликалась вторая. Чуть приметно светились в бледных сумерках редкие звезды. Далеко отсюда обрушилась война на страну, но и здесь даже ночью ощущается ее давящая поступь: не слышно стало песен, не звенят смехом молодежные гулянья. Народ сразу посуровел – и молодые и старые.
«Каждый связывает судьбу страны со своей собственной, – думал Иван Иванович. – С каким волнением рассказывал Логунов о новом подъеме на производстве и в колхозах! Мы поедем на фронт – я, Хижняк, Логунов, Никита Бурцев и множество других, а те, кто останется, сработают и за себя и за нас».
На параллельной дорожке за кустами послышались шаги, и грудной голос Варвары произнес:
– Да, Платон, вы правы. Наша жизнь прекрасна в возможности подвига, с которым согласна душа. – Голос Варвары задрожал от полноты чувства. – Я горжусь вашим поступком, Платон, и сама поступлю так же.
– И это все, что ты скажешь мне на прощанье? – с грустью и нежностью упрекнул Логунов.
Опасаясь услышать слова, не предназначенные для его ушей, Иван Иванович кашлянул.
– Здесь кто-то есть! – обрадовалась Варвара.
Она не могла кривить душой перед своим товарищем, уезжавшим на фронт, но и огорчать его тоже не хотела.
– Мне показалось, тут доктор Аржанов, – сказала она уже вблизи скамейки, потом всколыхнулись кусты, и тонкая фигурка в белом появилась на дорожке. Четко, резко чернели косы, свисавшие ниже пояса. – Правда, это доктор! – сообщила она, оборачиваясь к Логунову, который пробирался сквозь заросли следом за нею. – Добрый вечер, Иван Иванович! Добрая ночь!.. Мы не помешаем вам?
– Нет, если я сам не помеха…
– Ну что вы! – возразила Варвара прерывистым голосом, присев на скамейку возле него.
– Вы ведь тоже уезжаете завтра, – сказала она с такой искренней печалью, что Иван Иванович был тронут и в то же время смущенно взглянул на Логунова.
– Да, уезжаю! Целой ватагой отправляемся. Меняем русло… Вот как эта речка… Текла она себе, веселая, светлая. Потом взяли ее и направили промывать породу, ворочать пески да глину. Тяжелый, грязный труд. Куда делись блеск и веселье! Но… ходил я сегодня вниз по берегу и видел: течет она там снова в своем русле, чистая, словно стеклышко. Вернемся и мы. Не мы, так другие вернутся…
– Я тоже поеду туда, – уже твердо сказала Варвара. – Сейчас райком комсомола не отпускает меня, а посылает агитатором в якутские наслеги. Выполню задание и опять буду проситься на фронт. Поехать нынче в институт, наверно, не удастся… Пусть в тылу остаются люди вроде Игоря Коробицына: он хороший работник, но у него плохое здоровье.
– А Тавров? – неожиданно для себя спросил Иван Иванович, и Варвара почти с испугом взглянула на него.
– Тавров пока будет здесь… – ответил вместо нее Логунов.
После этих слов над скамьей установилась неловкая тишина.
«Как ты можешь вспоминать о ней, о своей бывшей жене?» – думала расстроенная Варвара.
Она поправила непослушную сегодня прядь над ухом, перекинула косы на грудь и так, держась за них обеими руками, точно на качелях сидела, взглянула на Ивана Ивановича.
Высокую и узкую скамейку сделал приисковый плотник, может быть, никогда не видевший настоящей садовой скамьи. Неудобная скамейка: ноги едва достают до земли, но если бы сидеть здесь вдвоем с Иваном Ивановичем… Едет на фронт… Она сама поедет туда, найдет его и разделит с ним любой труд, любую опасность.
«Так почему же ты отворачиваешься от меня? Почему ты заставляешь меня мучиться?!» – кричало все ее существо.
А тут еще Логунов: в нем, как в зеркале, повторялись ее отношения с Иваном Ивановичем. Всем хорош Платон, почему же душа Варвары не обратилась к нему? Зачем она устремилась туда, где ей не рады?
И уже не жалость, а раздражение сквозит в голосе и взгляде Варвары, когда она обращается к Платону:
– Сколько комаров налетело! Это мы с вами привели их.
Они действительно так и зазвенели вокруг. Логунов ударил себя по плечу, по шее. Это вывело Ивана Ивановича из раздумья.
Он взглянул на друзей, и рука его осторожно легла на лоб Варвары…
– Комары, – сказал он, рассматривая свою ладонь. – Неужели вы не слышите, как они вас едят?
– Пусть едят! – не сразу ответила Варвара, вспыхивая влюбленным блеском глаз и улыбки.
– Я пошел! – Логунов поднялся стремительно; похоже, почувствовал он укус посильнее комариного. – Я пошел… – повторил он, выжидающе обращаясь к Варваре.
– Хорошо, Платон! – Девушка протянула ему руку с такой явной радостью, что больше ничего ему не оставалось, как распрощаться и уйти.
– Я приду провожать тебя завтра! – крикнула она вслед, движимая смутным состраданием, но он даже не обернулся.
И словно еще прекраснее и светлее стала ночь. Острее запахли влажные от росы прибрежные кусты и густые травы. Завтра… Завтра ничего этого не будет!
Варвара дрогнула плечами при мысли о предстоящем одиночестве.
– Озябла? Пора и нам домой, – сказал Иван Иванович, и у нее тоскливо защемило сердце от его дружеского тона.
– Нет, не пора!.. – горячо запротестовала она. – Ведь вы уезжаете завтра!
– Вот мне и нужно собраться, письма написать…
– Может быть, необязательно сейчас… письма писать.
Варвару вдруг возмутило ощущение подавленности перед ним, перед его властным авторитетом. Почему она смотрит на него всегда, как робкая ученица? Женщина взбунтовалась в ней.
– Надо же уделить хоть маленькое внимание живому человеку, – пошутила она, но в голосе ее прозвенели слезы.
– А письма разве мертвым пишут? – неловко отшутился хирург.
– Вы их напишете в дороге. На пароходе… – сказала Варя, придвигаясь к нему, и вдруг разрыдалась, прислонясь к его крутому плечу. – Нельзя же так! Нельзя же так! – повторяла она, задыхаясь. – Мне кажется, я умру от горя.
Иван Иванович растерялся. Он смотрел на милое лицо Варвары, залитое слезами, ощущал тонкий запах ее волос и кожи, ее теплое, детски чистое дыхание, но не тяжелое, мужское волнение, не страсть, а величайшую нежность и жалость вызывала в нем эта девушка. Слишком переполнена была его душа расставанием с прошлым, слишком большую ответственность на человека-товарища носил он в своем сознании.
– Варенька! – сказал он, бережно обнимая ее за плечи и помогая ей подняться. – Я могу только одно тебе обещать: я, наверно, не полюблю никакую другую… У меня здесь, – доктор крепко потер кулаком грудь, – вот здесь все выгорело… Не плачь! Ведь я тоже несчастлив, а не умер еще. И умирать не собираюсь. И тебе не советую. – Он сжал ладонями лицо девушки, расцеловал в обе щеки и легонько оттолкнул от себя.
Они пошли домой по дорожке вдоль берега, потом в гору, и Иван Иванович вел ее за руку, как маленькую.
73
Грузовые машины мчатся по прекрасному шоссе. Бьет навстречу свежий ветер. Серая лента асфальта вьется то между высоких тополей с блеском речной струи в просветах, за деревьями, то жмется к подножьям сопок-гольцов по самой кромке берега. Красные, голубые, желтые поднимаются к небу скалистые вершины. Только мхи да лишайники льнут к развалам камней, врастая в мельчайшие трещины. А иная гора спутана ярчайшей зеленью шиповника и вся горит вспышками розовых огоньков. Вот шоссе врывается в угрюмый горелый лес, серея среди черных лиственниц, вот развернулось, расстелилось через болотистую марь, с кочками, заросшими осокой, пушицей, морошкой или сплошным кустарником голубики.
– Еще лет семь назад старатели шли здесь с котомками по еле приметной тропе, – сказал Платон Логунов и приподнялся, хватаясь за плечи товарищей. – ; Тогда ни одного поселка не было между побережьем моря и золотым районом. А теперь на каждом шагу!.. Вот опять новое дело!
И все, привлеченные возгласом Логунова, встали, придерживаясь кто за крышу кабинки, кто за борт, и посмотрели вперед, где точно из-под земли вырастал город. Блестели стекла домов, по веселым улицам сновал народ, шумели машины, шли груженые подводы, запряженные рослыми волами, привезенными издалека. На открытом взгорье точно снегу насыпало – богатейшая птицеферма. Трактор пробирался стороной у шоссе к зеленым и черным, недавно раскорчеванным огородам совхоза. За рулем сидела девушка, не то якутка, не то эвенка. Яркие издали глаза ее напомнили Логунову Варвару, и он, затосковав душой, оглянулся на трактористку.
– Наша! – сказал Никита Бурцев, помахав ей рукой. – Просто сам себе не верю, когда вижу якутскую женщину на тракторе. В колхозе «Новая Чажма» в нашем Октябрьском районе одну трактористку-якутку прозвали «Авария» за частые поломки… Она обиделась и стала работать хорошо. Теперь все девчата пойдут вместо парней на машины, – добавил Никита, жадно любуясь напоследок скалами гольцов, и лесами, и высоким небом родного края.








