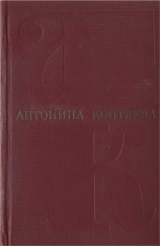
Текст книги "Собрание сочинений. Том 2. Иван Иванович"
Автор книги: Антонина Коптяева
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 27 страниц)
Заслышав шаги под окнами, она сразу вскочила и с сияющим лицом пошла навстречу, на ходу снимая фартук и поправляя волосы. Никто, взглянув на нее в этот момент, не догадался бы о маленьких огорчениях и о большой тревоге, которые точили ее.
Тавров явился не один, а с Платоном Логуновым, и Ольга, здороваясь, смутилась немного, не зная, как держаться. Тавров постеснялся поцеловать ее при постороннем, только нежно и крепко взял за руку, и снова тревожное сомнение охватило Ольгу. Хорошо ли ему с ней? Не стыдится ли жить с чужой женой? И все-таки ей понравилось, что Борис не выставлял напоказ их чувство, а оберегал как самое задушевное. Но сдержанная теплота его отношения к ней невольно сказывалась в каждом взгляде, в каждом движении. Он помогал накрывать на стол, весело подшучивая над их еще не богатым хозяйством; дал ей возможность освоиться в роли хозяйки дома, заговорив о ее работе над последним очерком, напечатанным в газете. Логунов посматривал на них не без любопытства, а потом и сочувственно.
– Вам надо больше бывать на народе, – сказал он Ольге, вспоминая свой дружеский разговор с нею. – Вы очень хорошо вели кружок иностранных языков, а сейчас он что-то захромал у вас. Не собираетесь ли вы опять замкнуться в четырех стенах? Простите, но тогда все ваши усилия стать самостоятельным человеком окажутся тщетными. Я, наоборот, хочу вас совсем отбить от дома: возьмите еще одну нагрузку – кружок текущей политики среди женщин.
– Это ей подойдет, – весело поддержал его Тавров.
– Такая нагрузка мне правда не помешает, это даже совпадает с моими потребностями, – согласилась Ольга. – Второй раз оказаться банкротом в жизни я не хочу.
49
Был перерыв, все присутствовавшие на производственном совещании вышли покурить, и из дверей, открытых в фойе, тянулся запах табачного дыма, слышался гомон голосов. Ольга сидела в опустевшем зале одна, заканчивая запись в блокноте.
Она чуточку смущенно взглянула в лицо Варвары, присевшей возле нее на скамью.
– Вы как будто моложе стали, – с обычной своей прямотой сказала та.
– Теперь вам меня не жалко? – полушутя спросила Ольга, стараясь скрыть смущение.
– Н-нет, – несколько принужденно ответила Варвара.
Если бы при ней делали выбор в магазине и, отложив в сторону отличную вещь, взяли худшую, она, конечно, вмешалась бы, даже в ущерб себе, возмутившись против того, кто не умеет воздать должное труду и уменью. Приобретая что-нибудь нужное, девушка всегда радовалась не только за себя, но и за того, кто угодил ей.
«У него ясный глаз и добрая душа! – думала она о неизвестном художнике, любуясь новым отрезом на платье. – Многих женщин порадует его работа! Интересно, сколько времени потратил он, подбирая цветовые оттенки? Как придумал эти красивые узоры?!»
«Этот мастер, наверно, злой, – говорила она Елене Денисовне, с огорчением рассматривая туфли, оказавшиеся непрочными в носке. – Почему он наказал меня своей плохой работой?»
А тут речь шла о человеке. Разве можно такому, как Иван Иванович, предпочесть кого-то другого? Варвара любила его, и ей казалось, что она выбрала его вполне сознательно.
– Я понимаю, – заговорила Ольга, пытливо всматриваясь в лицо девушки и словно читая на нем волнующие ее мысли. – Отчего же ты сама предпочла остальным того, чье сердце уже занято?
Варвара покраснела, но не опустила глаз под взглядом Ольги.
– Он столько сделал для меня! У него я научилась, как надо жить и работать.
– Ты могла бы остаться просто благодарной ему. Ведь он дружески относился к тебе, правда?
– Да, правда.
– Но, однако, ты полюбила его больше, сильнее, чем требует дружба?
Варвара опять вспыхнула, но сказала гордо и вызывающе:
– Полюбила.
– А Тавров стал для меня тем же, чем для тебя был Иван Иванович, и сердце мое потянулось к нему. Я хотела побороть это влечение. Но ничего не вышло, и то, что являлось радостью в прошлом, стало теперь моим несчастьем.
– Вы несчастливы? – с живостью спросила Варвара.
– Нет, я счастлива, когда не думаю о том, что есть на свете Иван Иванович Аржанов.
Варвара отшатнулась, ошеломленная ее словами.
– Вы хотите, чтобы он умер?
– Избави бог! Я хочу ему только хорошего! Но ты еще ни с кем не связана и не представляешь боязни за другого человека. О себе я не беспокоюсь, но не могу отделаться от чувства тревоги…
– Мне кажется, вы зря опасаетесь, – сказала Варвара, впрочем, не совсем уверенно. Ей неожиданно вспомнился вид доктора ночью в больнице, когда он едва не столкнулся с Тавровым. – Ведь не станет же Иван Иванович драться или убивать его, – добавила она наивно.
Ольга вздрогнула, и Варвара поняла, что та подумывала именно об этом.
– Как можно допускать такие мысли? – вскричала девушка с чистосердечным порывом. – Иван Иванович всего себя отдает людям, он не будет ломать чужую жизнь из-за личного интереса.
50
Муж Павы Романовны – главный бухгалтер Пряхин – понимал, что приближается конец его карьеры в приисковом управлении. Он еще упирался, подавал голос, пытался казаться деятельным. Костюм на нем был по-прежнему щеголеват и опрятен, пряжки ремней блестели, но апломба уже не чувствовалось.
«Хорошо ему работалось при Скоробогатове», – подумала Ольга, взглянув на его побледневшее лицо, на излишне суетливые движения, и начала складывать в портфель карандаши и записную книжку, готовясь уйти с совещания: приближался час ее занятий по текущей политике. Еще недавно она не поверила бы, что сможет сделать заправский доклад; например, говорить в течение часа о наступлении английских войск в Абиссинии и отступлении итальянцев к Аддис-Абебе, а в связи с этим о географическом и экономическом положении страны. Она еще не умела свободно пользоваться подготовленным материалом, чаще, чем следует, посматривала в конспект, иногда сбивалась и, волнуясь, не сразу находила нужные слова, но слушали ее охотно, и число желающих заниматься заметно увеличивалось.
– Мне это самой на пользу, – говорила Ольга Таврову, когда возвращалась домой, взбудораженная и счастливая.
По-деловому взялась она и за преподавание английского языка в кружке при вечерней школе для взрослых. Не было теперь неуверенности, которая мешала ей летом.
«Начинаю осваивать свои „попутные“ дела», – вспомнила она словечко Ивана Ивановича.
Ольга уже хотела встать, но увидела Таврова, который пробирался к столу президиума, и замедлила, следя за тем, как он шел меж рядов, невысокий, но плечистый, стянутый в поясе широким ремнем. Морозы в апреле держались еще крепко, и Тавров, подобно большинству приисковых работников, ходил в меховых унтах и в темном костюме полувоенного покроя, хотя не щеголял портупеей и сумками, как Пряхин.
Вот он откинул пятерней густые волосы и, оглянув собравшихся людей, присел у края стола. В зале было не меньше шестисот человек, но по какому-то странному совпадению взгляды Таврова и Ольги сразу встретились в этот короткий миг, и она даже разглядела беглую радостную улыбку на его лице, когда он усаживался на место.
Впервые беспокойство, омрачавшее счастье Ольги, покинуло ее: и она почувствовала себя дома, среди своих людей. Никто из них не бросил ей упрека: может быть, и поругали, но не осудили, дав возможность собраться с силами и выпрямиться. Теперь она твердо стояла на ногах, и ни один час жизни не пропадал у нее даром.
Нужно было уходить, но Ольге не хотелось покидать зал, где тепло стало сердцу.
Обсуждался вопрос, который не интересовал ее как корреспондента, но касался флотационной фабрики, а значит и Таврова… Она слушала внимательно, пока один из выступавших не отвлек ее мысли на другое. Выступал рабочий, которого Ольга летом встретила в больнице… Тогда он сидел рядом с Тавровым и обдергивал, ощипывал напяленный на него куцый халатик. Широкие ладони его так и выпирали из белоснежных рукавчиков. Это был старший слесарь фабрики. Он тоже вел кружок текущей политики у себя на фабрике. Чтобы поучиться, Ольга по совету Таврова побывала на его занятиях. Ее поразила активность слушателей.
«Надо будет и мне давать своим задания. Пусть тоже привыкают к выступлениям», – подумала Ольга и сразу заспешила к выходу. Ее ждали.
51
Странное животное бежало вдали по открытому склону. Оно двигалось большими прыжками, раскачиваясь, почти кувыркаясь, словно впрыгивало всеми четырьмя лапами в один след, и глубокие впадины оставались за ним на нетронутой белизне богатой пороши.
Иван Иванович, опустив ружье и вытянув шею из воротника дохи, наблюдал за неуклюжей побежкой животного. Оно уходило, ярко-черное на голубом горизонте, видно было, как относило ветром его длинный мех, свисавший с боков, точно попона.
– Росомаха? – спросил Иван Иванович, оглянувшись на шорох лыж.
– Она, – сказал Никита, тяжело дыша после бега в гору. Одежда его заиндевела. Широкие лыжи тоже побелели, зачерпнув пушистого, молодого снега. – Найдем еще, – продолжал он уверенно. – Скоро кабарга пойдет на кормежку. Росомаха следом ходит. Она даже лося может зарезать. Взберется на низкое дерево, прижмется, как рысь, и ждет… Лапы у нее большие, когти крючком. Зимой круглые сутки бродит. Мышей жрет, дичь из ловушек таскает, если покойника отроет, тоже сожрет.
Под мягкой порошей твердый весенний наст. На спусках Иван Иванович тормозил, высматривал места более отлогие. Никита скатывался лихо, поднимая веселую метелицу, щеголял ловкостью на поворотах. Яркое солнце стояло по-весеннему высоко, но было холодно: ветер, бесприютный, словно росомаха, бродяжил по горным хребтам, резал лица, выжимая слезы из глаз. Узенькие тропинки тянулись по самым гребням, выбитые копытцами коз и горных баранов, утоптанные лапами хищников. Запах зверя не отпугивает коз с облюбованных ими мест: на горах зимой теплее, чем в долинах, и копыто не вязнет в снегу, не проламывает наст, губящий животных при травле.
Возле скалистого развала Никита остановился, махнул рукой доктору и, устроив его в камнях, недалеко от развилины козьей тропинки, отправился дальше, искать удобное место для себя.
Оставшись один, Иван Иванович угнездился поуютнее и осмотрелся. Его очень занимала мысль убить росомаху. Неплохо бы и козла… Но козлов он убивал уже раньше, к тому же шел апрель, и кабарожки, по приметам Никиты, были суягные. А росомаха – вредный да еще не виданный зверь, и мех ее очень ценится якутами.
Время шло… Ни кабарги [5]5
Кабарга – горное животное. Ценится из-за мешочка с мускусом («струей»).
[Закрыть], ни росомахи. Давно уже улеглось возбуждение первого ожидания. Потирая то щеку, то нос, Иван Иванович сидел, скорчась, на камне, на подложенных лыжах, и лицо его становилось все мрачнее. Он думал о том, что скоро ему исполнится сорок лет, что лучшая половина жизни уже прошла. Правда, сравнительно еще молод, силен, здоров, и если бы не уход Ольги, то мысль о годах и не приходила бы ему в голову. Как теперь жить? Вряд ли можно полюбить еще раз: сама мысль о другой женщине была противна. Ольга! Сердце его упрямо тосковало по ней, не признавая никаких резонов разума.
Легкий звук со стороны развилины тропинки отвлек его от тягостных дум. Среди оголенных ветром глыб камня, шершавого от лишайников, среди застывшего, набитого снегом мха ягеля заманчиво вилась по гребню стежка тропы. Но ничего живого на ней Иван Иванович не заметил. Ветер донес слабый, затихающий не то вой, не то лай… Потом грохнул выстрел и, точно обвал, зашумело эхо в диких горах, в пустынном безмолвии.
– Ах! – вырвался завистливый вздох у Ивана Ивановича. – Убил!
Но почти сразу обрушился второй залп.
«Промазал! – решил доктор с невольным удовлетворением. – Такой стрелок – и промазал! Эх ты, Никита-Микита! Теперь долго придется ждать».
Ему уже и жалко стало, что Никита промахнулся, но в это время перед его глазами замелькало что-то пятнистое, желто-серое. Коза-кабарга, закинув безрогую голову с такими длинными клыками, выдававшимися за нижнюю челюсть, что они виднелись издалека, неслась по тропинке. Это был подлинный мастер бега, но полюбоваться Иван Иванович не успел, не успел и вспомнить о суягности кабарожьих маток: рука сама вскинула ружье – и третий залп прокатился громовым раскатом в студеном горном воздухе. Кабарга с ходу, на всем скаку, взвилась на дыбы, будто налетела на препятствие, и огромным прыжком махнула с тропинки, только мелькнули ее круглый задок с зачатком хвоста да крепкие ножки.
Выстрелить второй раз Иван Иванович не успел: ветер резанул по глазам снежной пылью, выжимая слезу.
– Не попал! – Задыхаясь от злой досады, доктор, выпрямившись во весь рост, посмотрел, как мчалось перепуганное им животное, с нелепыми, неизвестно для чего торчавшими вниз клыками, неуклюжее с виду, сутуловатое, но словно со стальными пружинами в цепких ногах. Вдруг вспомнилось, что Никита говорил: у кабарги рогов нет. Значит, судя по величине клыков, это был старый самец. Такое соображение заставило Ивана Ивановича еще сильнее пожалеть о своей неудаче.
«Ну и черт с ним. Шкура у него, наверно, плохая. Кабарожья струя мне ни к чему: больных грыжей я лечу по-своему», – попытался он утешить себя.
Часа два после того Иван Иванович сидел в томительном ожидании, пока далеко на крутосклоне не померещился ему черный силуэт росомахи… Вот мелькнул меж каменных глыб серый над черными очками лоб, выгнутая спина… Зверь приближался своей странной, хромающей побежкой, раскачивая удлиненной широколобой мордой с крошечными, далеко поставленными ушами.
Иван Иванович помедлил немного и спустил курок. Выстрела на этот раз он почти не услышал, так крепко забилось сердце, только чуть отдало в плечо, но, словно от того же толчка, росомаха споткнулась, сунулась вперед и осталась на месте.
С ружьем наперевес он бросился на тропинку. Но подранок шевельнулся и с воем покатился в сторону. Иван Иванович выстрелил еще раз и остановился, свирепо хмурясь, глядя, как зверь, уткнув нос в каменный заснеженный щебень, медленно заваливался на бок, подергивая большими лапами и косматым хвостом. Еще по-зимнему пышный черный мех его красиво отсвечивал. От лопаток вдоль всего туловища тянулась светло-серая полоса.
52
Иван Иванович потрогал застывшие туши дикого оленя и кабарги, убитых Никитой.
– В кого же ты стрелял в первый раз?
– В кабарожку, – ответил Никита, заботливо подкладывая к желтым жгучим язычкам огня хрупкие хворостинки.
Решив отдохнуть, они долго обсуждали, куда поехать поохотиться: на медведя, лося или на росомаху. Иван Иванович заинтересовался охотой на росомаху… Якуты привезли их сюда с Учахана и остались ждать внизу, где были оленьи корма. Теперь по уговору проводник должен подняться в горы на свет костра и помочь охотникам добраться с добычей к чуму на ночевку.
– Мороз продержится еще недели три, – сказал Никита, отодвигаясь от высоко вставшего огня. – Потом сразу наступит тепло. Пора отправляться на Каменушку.
– Мне необходимо понаблюдать наших последних больных. Я не могу бросить их сейчас. Очень важно знать, как пройдет послеоперационный период у Степана. Ведь я больше не увижу его, – с неожиданной грустью добавил Иван Иванович.
– Он может сам приехать на Каменушку… А нам торопиться надо… Скажем ему, и он приедет летом.
– Степан-то приедет, да я уже не буду жить там. Уеду весной на материк… Далеко уеду!.. – сказал Иван Иванович, и такая печаль была на его лице, что Никита ни о чем не посмел спросить.
– Недели через две-три снег начнет таять, – заговорил он после продолжительного молчания. – Если мы запоздаем, нам очень трудно будет в дороге.
– Ничего, Никита. Мы не опоздаем. Десять дней погоды не сделают, а за это время мы окажем помощь эвенкам, приехавшим с Малого Джелтулака. Нельзя же больных, которых тащили издалека, отправлять обратно ни с чем. Обидно ведь, как ты думаешь?
– Конечно, обидно, – сдаваясь, сказал молодой фельдшер. – Но потом подъедут новые больные, и вы опять задержитесь. А я отвечаю за ваше благополучное возвращение. У меня за это сердце болит. Трудно будет.
– Ничего, Никита, – повторил Иван Иванович. – Трудности в пути не страшны: мы закаленные, здоровые люди. Вообще трудности в жизни – неплохая штука, если их можно преодолевать. Хуже всего попасть в такое положение, когда действовать невозможно…
Иван Иванович взял ружье и тихо побрел среди скалистых развалин. Ему захотелось еще побыть одному. Каменные останцы громоздились по склону хребта. Кое-где они чернели, словно мрачные одинокие хижины, сходство дополняли края сугробов, свисавшие наподобие крыш. Выше начинался сплошной Хаос. Иван Иванович сел на большой камень. Очертания гор уже затонули в голубоватом сумраке, только на западе выделялись изломы черных гольцовых вершин, окрашенные по контуру пурпуром. Все вокруг дышало зимой, ненарушимым покоем заколдованного царства.
Месяц проклюнулся в синеве, точно изогнутая золотая игла… Бери, хирург, шей! Но нет хирурга, есть просто человек. Сидит между небом И землей тезка любимого героя народных сказок. Не Иван-царевич, не Иванушка-дурак, а доктор Иван с Каменушки. Кончилось время чудес. Нет такой живой воды, которая могла бы излечить его сердечную рану. Все только растравляет ее. Вот звезды высокого неба по-женски моргают лучистыми ресницами. Вот ветер дохнул, как предвестник весны, как напоминание о недавней радости. Стоило протянуть руки, теплая нежная грудь прижималась к груди, ласковые ладони скользили по плечам, и казалось, весь мир затихал от счастья. А сейчас пустота…
Но разве случайно сидит здесь доктор Иван с Каменушки? Пришло время других чудес. Строятся в тайге города. Нынче переселятся учаханские колхозники из разбросанных по лесам темных юрт в новый поселок, в настоящие, на совесть срубленные дома.
Перед поездкой на охоту Иван Иванович и Никита были на открытии колхозного клуба. Первое кино в тайге… Какой взрыв восторга, ужаса, удивления раздался в зрительном зале, когда погас свет и на экране зашумела, двинулась жизнь Большой земли! Подобное Иван Иванович мог бы испытать сам, если бы какой-нибудь чистый или нечистый дух схватил его за воротник мохнатой дохи и промчал над величавыми просторами оцепеневшего севера. Какие дали открылись бы перед ним!
Сегодня на Учахане вырос светлый поселок, завтра вместе с заводом возникнет новый культурный центр. Это не мечта разнежившегося либерала, гуманного сытого буржуа. Нет, это реальная возможность, созданная большевиками.
– Может быть, я смешной человек и жить не умею, но хирург-то я неплохой все-таки? – Иван Иванович встал с камня, повернулся в ту сторону, откуда тянул ветер и где лежал путь на Большую русскую землю. – Спасибо тебе, родная, за науку!
53
– Город построят большой. Дорогу сделают, привезут машины. Нет, машины сами придут и привезут другие, которые не умеют ходить, а работают на одном месте, – радостно рассказывал Захар, вернувшись в свой чум из районного Совета.
Марфа Антонова не выгоняла таежных гостей с заседаний исполкома, и они просиживали там часами на лавках и прямо на полу, подогнув калачиком ноги.
– Пусть знают, как заботится о них Советская власть, – важно говорила она.
Захар прислушивался ко всему с жадностью. Конечно, он по-прежнему останется охотником – каждому свое. Но…
– Ходил в юрту, где делается элект-ри-чес-тва, – рассказывал он Степану и его жене. – Такая русская юрта. С большим котлом, печкой, куда целый чум можно поставить, и трубой, высокой, как дерево. Там готовится свет…
– Огонь! – поправила Кадка, сгорая от нетерпения вставить свое слово.
Захар усмехнулся ей, словно малому ребенку.
– Огонь я сам могу разжечь. И ты сможешь, и Степанов Николка. А там делают свет, который бежит по обмотанной проволоке, будто зеленый сок по стеблю травы. – И, должно быть, вдохновленный понравившимся ему сравнением, Захар запел громким, гортанным голосом.
Он сидел, обхватив руками колено подогнутой ноги, покачиваясь в такт вольному напеву и устремив взгляд на пылающий костер очага; темные, как и у Степана, брови его были удивленно приподняты, глаза блестели.
Он пел о том, что скоро по всем таежным наслегам протянутся чудесные проволоки. Настоящая сеть из проводов, а на ней столько золотых почек, как весной на сильной вербе. В каждой юрте расцветет стеклянная почка. Нет от нее тепла, а свет такой, точно в юрту вкатилось солнце. Даже полуслепая от трахомы старуха найдет бусинку в куче навоза и мусора. Нет, тогда уже не увидишь навоза в юртах. Это раньше люди жили вместе со скотиной в дыму и темноте. И трахома исчезнет. И старух не будет. Все помолодеют. Станут сидеть длиннокосые у камельков, вышивать бисером нарядную одежду.
Славную песню складывал Захар. Недаром он считался лучшим певцом в наслеге, и Кадка смотрела на него с гордостью. Но какое-то сомнение промелькнуло вдруг на ее лице, и она торопливо спросила:
– А может, и камельков не будет?
Захар ответил еще нараспев:
– Нет, камельки останутся.
– Однако, не останутся, – возразил Степан, сидевший с другой стороны очага в старой дошке, накинутой на плечи, и в шапке, из-под которой торчал угол чистой марлевой косынки. – Печи лучше. Дров надо меньше, и теплее.
Для них сложили хорошую песню, а они начинают переводить все на охапку дров, не понимают, что из песни слова не выкинешь! Но Захар не был тщеславным артистом, ревнивым к своей славе. К тому же что с них взять: один больной, а та баба. Поэтому уже обычным голосом Захар мирно разрешил сомнение слушателей:
– Кому что нравится, то и будет.
Швы на голове Степана доктор снял на девятый день. Рана зажила, и охотник заметно повеселел, но он все еще относился к себе с бережностью, точно надел новое платье. Поэтому в его движениях выражались сдержанность и забавная торжественность. Настраивали его к этому и частые посещения Ивана Ивановича. Степану было лестно и неловко от внимания доктора, тем более что, не умея лгать, он сразу разочаровал многочисленных посетителей, сказав им, что во время операции не испытал боли. Правда, ее не ощущали и другие, которых оперировал доктор Иван, но те операции казались проще. Положение обязывало Степана прихвастнуть, но он не был такой сочинитель, как его брат Захар. Тогда за него начала работать молва…
Говорили разное: будто доктор Иван совсем отрезал голову Степану, починил и пришил на место, утверждали, что он разрезал ее пополам и вынул из нее мозги. Потом начались толки о каких-то нервных клетках в мозгу, где, словно птица, порхает душа-мысль, и к Степану началось настоящее паломничество. Он отвечал на вопросы, все помнил, видел, слышал. Значит, мозги работали, значит, душа была на месте.
Когда зажила рана и доктор снял швы, а затем повязку, каждый мог если не пощупать, то хотя бы посмотреть закрытое «окно» в черепе, и это придавало Степану еще больший вес в его собственном мнении. Впервые в жизни он сделался центром общего внимания. Жена и близкие оберегали его. Знакомые и незнакомые приносили подарки. Так он блаженствовал недели две, потом неожиданно затосковал, стал огрызаться на посетителей и в один прекрасный день исчез со стойбища.
Исчезновение его особенно огорчило Ивана Ивановича. Время отъезда доктора приближалось, но все дальше расходилась по тайге молва о нем и все новые больные приезжали на Учахан. Он уже подумывал о том, чтобы остаться здесь на лето. Лекарства и материалы ему доставили бы.
– Ехать пора, – каждый день твердил Никита, – дорога скоро кончится.
Да, надо торопиться, а тут Степан исчез. Обидно было бы уехать, не зная, что с ним случилось.
Несколько дней подряд то Никита, то Иван Иванович посещали после работы осиротевший чум. Жена Степана при расспросах принималась плакать, хныкали ребятишки.
– Взял он что-нибудь с собой?
– Ружье взял. Но охотник и помирает с ружьем.
– Наверно, он с ума сошел, – сказала однажды Кадка.
И по стойбищу прошел слух: Степан сошел с ума.
Начались новые разговоры.
– Разве можно трогать человеку мозги? Раз уж они попортились – один конец. Вырос у него там гриб какой-то. Это неспроста!
– Можно трогать и мозги, – сказал после того на большом сборище доктор Иван. – Спроста, конечно, ничего не бывает. У всякой болезни своя причина. Надо эту причину найти и тогда лечить. Сто лет назад хирурги не умели делать операцию без боли. А теперь мы сразу снимаем боль. Недавно боялись думать об операции на головном мозге, на сердце, а теперь научились и уже спасли от смерти тысячи людей.
54
Пришло письмо от Хижняка. Наконец-то добралось оно до своего адресата! Иван Иванович держал в руках конверт, основательно помятый таежными почтарями, и медлил вскрывать. Глубокое волнение охватило его. Долгонько же собирался написать ему Хижняк, хороший фельдшер, готовящийся стать врачом, ярый игрок в городки и добрый картежный жулик. Почему он так долго молчал? Что побудило его написать теперь, когда, по их совместным расчетам, они уже должны были ехать обратно?
Доктор посмотрел на адрес и на почтовый штамп. Письмо написано давно, наверно, каюр, который вез почту, сумел навестить по пути все знакомые стойбища… Иван Иванович медленно вскрыл его, но прочитал залпом. Больничные новости. Гусев, Леша, женщина с крупозкой, Ольга (эх, Ольга!), сообщение о Бурденко…
«Что такое с Бурденко? – Иван Иванович перечитал конец письма. – Да, получил Сталинскую премию. Это замечательно! Бурденко Николаю Ниловичу, профессору-академику, за научные работы по хирургии центральной и периферической нервной системы… Постановление Совнаркома в газете от четырнадцатого марта… Почему же мы не знаем?»
– Никита! – крикнул Иван Иванович своему ассистенту и секретарю. – Мы разве не получали «Правду» за четырнадцатое марта?
– Да, я ведь говорил вам… Она очень задержалась в пути, а потом нарта с этой почтой провалилась в полынью. Снег падал, и такая метель крутила на реке, что каюры не заметили, где гиблое место. Это было восьмого мая.
– Как восьмого мая? – Иван Иванович снова перечитал сообщение Хижняка о Леше. – Вторая нога… Вот несчастный парень! Нужна операция с левой стороны. Немедленно! Уже появилась синева… А письмо написано? Черт возьми, как оно давно написано! Которое же число у нас сегодня, Никита?
– Одиннадцатое мая, – угрюмо сказал Никита.
Легкомысленное, беспечное отношение доктора к самому себе огорчало юношу. Всех больных не перелечишь! Они едут и едут, не считаясь с тем, что дорога вот-вот кончится. Как будет Никита выбираться с хирургом на прииски, об этом никто не думает. Марфа помалкивает: она рада бы залучить Ивана Ивановича на постоянную работу, а он занят с утра до вечера и не представляет, что такое весенняя распутица в тайге. Когда Никита пытается внушить ему, что поездка в это время не только трудна, но и опасна, доктор говорит, не дослушав:
– Завтра будем делать операцию по поводу…
Поводов предостаточно, и все они кажутся серьезными. Ведь речь идет о живых людях, которым нужна, совершенно необходима медицинская помощь. Как можно отказать?! И отказов не бывает.
– Уже одиннадцатое мая, – повторил Никита, – а якутская примета говорит: «Мороз – белый бык, и два у него рога – один ломается на первого Афанасия – это пятого марта, другой рог – на второго Афанасия, двадцать четвертого апреля, а на третьего Афанасия, четырнадцатого мая, и все тело опадает». Вот-вот начнется распутица, Иван Иванович! Конечно, если вы останетесь в тайге до летней дороги, тогда можно будет ехать верхом на оленях…
– Почему верхом? – Иван Иванович перестал вчитываться в строки письма, и лицо его выразило неукротимую решимость. – Мы выедем завтра на нартах.
От неожиданности Никита так быстро повернулся, что чуть не опрокинул со стола блестящий бак – бигс, куда он складывал щипцами стерильные салфетки и полотенца.
– Завтра?!
– Да. Лети в райсовет и скажи Марфе Васильевне, что завтра мы должны выехать на Каменушку. Меня вызывают к тяжелобольному.
– Сейчас я иду. Только надо подсчитать, успеем ли мы теперь…
– Почему же не успеем? – уже нетерпеливо промолвил Иван Иванович. – Реки здесь вскрываются не раньше двадцать четвертого мая, а то и шестого – седьмого июня. Значит, в нашем распоряжении около двадцати дней.
– Мы теперь поедем медленнее, чем зимой: ведь подставы не успеют выслать, – ответил Никита, тщательно закрывая крышку бигса.
– Проедем, сколько сможем, а там доплывем на плотике.
Лицо Никиты повеселело. Он тоже не терпел проволочек, но действовать очертя голову не любил.
– Да, надо отправляться как можно скорее, – сказал Иван Иванович, щурясь от ослепительного солнечного блеска.
Он прошел по ледяному мосту мимо так и не застывших полыней и вынул из кармана дошки синие очки-«консервы». Но прежде чем надеть их, он, стоя на берегу, осмотрелся внимательно. Весна приближалась к мировому Полюсу холода. Пролетев тысячи километров, сломив бешеное сопротивление зимних заслонов, она явилась сюда, правда, уже в середине мая, все той же нежной, юной, извечно тревожащей… Но тут свои поправки к весне, длящейся не больше двух недель: солнце, вставшее вполнеба, яркое, почти по-летнему лучистое, и еще не тронутая его теплом снежная пелена. Блеск, отраженный от белизны снега, режет глаза нестерпимо. День-два проведет путник в дороге без темных очков – и сляжет в первом зимовье с мокрой тряпкой на воспаленных глазах. Только ночами сможет он пробираться потом, прячась от солнца. Поэтому бывалые таежники делают себе в случае нужды заслонки из древесной коры с узкими прорезями-щелками.
«Где же в такой яркий, но холодный день плутает Степан? Весна? Ну, само собой разумеется! Но вот бегает по лесу совсем недавно оперированный тяжелобольной, и кто знает, какие последствия вызовет его поведение?! Иван Иванович сердитым движением зацепил очки за маленькие крепкие уши и быстрыми шагами пошел к чумам.
Его встретили возгласы ребятишек и женщин:
– Пришла Степан!
– Здоровый пришла!
– Оленя убила! Улахан олень-то, улахан!
Доктор, не задерживаясь в толпе сбежавшегося народа, прошел в чум.
Степан, гревшийся у очага, робко поднялся, виновато опустил руки…
– Ну как, дагор?
– Бегал!
– Зачем бегал?
– Я охотник! Нельзя мне сидеть, ровно старухе. Спробовать надо было, покуда ты здесь. Плохо будет – полечишь опять. Ничего ходил, учугей, – говорил Степан, заискивающе, снизу вверх глядя на доктора.
На губах Ивана Ивановича заиграла сдержанная улыбка, хотя он плохо понял, что ему говорили. Все-таки молодец этот большеголовый крепыш! Увидев отражение своей улыбки на лице Степана, Иван Иванович понял, как отлегло у него на сердце, и уже открыто улыбнулся сам, и сразу вокруг них заулыбались, заговорили, оживленно задвигались.
– Ладно, коли так! Учугей! – И, скинув доху, Иван Иванович сел возле очага, усадив и Степана. – Голова-то не болит? Рано тебе на охоту, подождать надо, сил набраться. Никита! – вскричал обрадованно Иван Иванович, увидев своего помощника у входа в чум. – Переведи ты ему, пожалуйста, правила дальнейшего поведения! Спроси его, как зрение, оленя далеко ли увидел? Близко. Ну, и то хорошо. „Опробовал!“ Ах ты, чудак-рыбак! Рад я, что ты вернулся.








