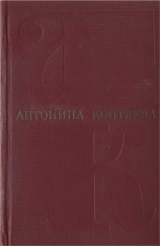
Текст книги "Собрание сочинений. Том 2. Иван Иванович"
Автор книги: Антонина Коптяева
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 27 страниц)
Тогда Варвара совсем расстроилась.
– Мне вас обоих жалко. Как вы можете отпускать его в далекую поездку в таком плохом настроении? Ведь он не заслужил, чтобы к нему дурно относились! Лучше его никого нет.
– Вы думаете?
– Думаю, потому что знаю, какой он хороший.
– Вы… Вам он нравится?
– Очень! – наивно, искренне, серьезно вырвалось у Варвары.
Грустное выражение Ольги сменилось настороженностью: что-то похожее на ревность шевельнулось в ее душе и погасло.
– Да, он правда хороший, – сказала она сдержанно. – Просто мы оба не поняли друг друга и вот отошли…
24
– Я ровесница Октября, а родилась на Олекме. Сюда наша семья приехала уже после гражданской войны. Мы – мои сестры и я – были тогда, как эти. – Варвара кивнула на трех девчонок, приведенных в гости к Наташке.
Девочки сидели на полу, застланном мохнатыми шкурами, разбирали лоскутки, нянчили Наташкиных кукол и разговаривали отчего-то шепотом.
– Одна-то одолеет за вечер нас всех, а в компании сами преспокойно занимаются, – сказала Елена Денисовна, взглянув на детей. – С ясельного возраста прививаются им общественные навыки! – Она добродушно засмеялась и снова принялась орудовать скалкой: так и полетели к рукам женщин круглые маленькие сочни.
Они все сидели возле стола, запорошенного мукой и заставленного мисками с мясным фаршем. Готовые пельмени уносили на железных листах в кладовку – морозить.
Пава Романовна, забежавшая на минутку к Ольге, пришла на стряпню вместе с нею. Она сидела веселая, вся запудренная мукой, хотя больше болтала языком, чем шевелила руками.
– Нет, я не отвела бы своих детей в садик! Общественные навыки – это успеется. Пусть детство запомнится им, как золотая, беспечная пора. Домашний очаг теплее. Правда, у меня все бабушка, она теперь и с малышкой возится.
– А мы очень сурово росли, бедно, – продолжала Варвара, необычно словоохотливая и взвинченная. – Мой отец на Олекме имел только шесть коров…
– Шесть коров! – удивились женщины.
– Это очень мало для оседлого скотовода, – возразила Варвара, заботливо закругляя гибкими пальцами слепленные уголки пельменя. – Наши коровы давали не больше двух литров, а пища бедных якутов – молочные продукты да лапша из сосновой заболони. И рождались у нас в семье только девочки: пятеро было. Одна другой меньше. Это тоже озлобляло отца. Ведь когда рождался мальчик, семья получала в наслеге надел земли, а на дочь ничего не давали. Зато доставалось колотушек и нам и матери! У якутов раньше полагали, что женщину надо бить почаще. В детстве родители били, потом мужья злость срывали за бедность да за падеж скота, за обиду от начальства. И странно!.. На своей первой родине мы, якуты, наверно, были кочевниками. Здесь же, на севере, скот сделал нас оседлыми. Зима девять месяцев в году, морозы больше шестидесяти градусов. Лошади обросли косматой шерстью и привыкли пастись круглый год на воле, дичают, жиреют. А коров надо держать в тепле, кормить сеном. И лето превратилось для якутов в сплошной сенокос. Но богачи – тойоны захватили лучшие земли. Из-за покосов шла борьба…
– Классовая борьба, – солидно вставила Пава Романовна.
– Мой отец подрался-таки с тойоном на сходке, и ему пришлось бежать из наслега. После того мы перебрались на Индигирку. Артелей и колхозов тогда еще не было. Отец нанялся пастухом к эвенкам-оленеводам и погиб в тундре. Я и сестренки пошли батрачить, пока не открылись в улусах школы с интернатами, а бедная мать умерла от чахотки. Она не могла привыкнуть на новом месте и до самой смерти тосковала по Олекме. – Голос Варвары сорвался, но опять с подъемом она сказала: —Олекма! Нет на свете ничего прекраснее! Когда я вспоминаю, у меня дрожит сердце! Там горы, как и здесь, но деревья вечнозеленые – ели и сосны. Мы жили возле леса, на котором в самые пасмурные дни будто лежало солнце – такая золотая стена! А какие там цветы… У нас не водилось игрушек, и мы играли цветами. А по зимам – круглые сутки дома. Дверь из жилья открыта для тепла в хлев, оттуда пар, телята бродят по юрте… Полутемно. Голодно. Как тут не появиться чахотке и трахоме! – Варвара, забыв о пельменях, нахмурилась. – Ужасная была жизнь! А ведь такая богатая страна! Холод – это ничего. К холоду можно привыкнуть.
– Вы должны быть счастливы, поскольку вырвались из своей юрты и попали в интеллигентное общество! Ведь это огромный скачок, клянусь честью! – благодушно сказала Пава Романовна.
– Я счастлива не тем, что сама вырвалась, а тем, что весь мой народ вырвался из грязи и нищеты! – с горячностью возразила Варвара. – Ведь раньше только крошечной кучке интеллигентов, общавшейся с русскими, была доступна культура. И то консерваторы-националисты упрекали их за обрусение, за русские обычаи, за то, что они позорят этим звание якутов. Ненавижу националистов! – Варвара стукнула по столу кулачком, лицо ее побледнело и сделалось недобрым, остроглазым. – Я их не-на-вижу-у! Чем они держатся? Что они могут дать народу? Ведь у нас почти одна треть населения болела чахоткой и больше половины грудных детей вымирало. А они стремились к реставрации! Мне рыдать хочется, когда я подумаю, что революцию могли бы задушить в самом начале!
Прекратив стряпню, женщины смотрели на Варвару, захваченные ее страстной речью, но на хмуром лице девушки уже пробивалась улыбка.
– Мы ничего не уступим обратно! – говорила она, успокаиваясь и немножко стесняясь своего порыва. – То, что мы теперь имеем, нельзя отнять. Ведь нельзя же отнять жизнь у всего народа!
25
«Трудно уезжать с такой тяжестью на душе, очень трудно! Но оставаться невозможно. Надо дать Ольге время подумать и разобраться в своих чувствах. Может быть, поскучать… – При последней мысли Иван Иванович побагровел от стыда. – Дурак ты, дурак! – промолвил он с сердечным сокрушением. – Она все делает, чтобы оттолкнуть тебя. У нее прямо на лице написано: „Уезжай поскорее!“, а ты – „поскучать“! Фу, черт возьми! Я сам боюсь решительного объяснения. Никогда ничего не боялся, а тут боюсь! Хочется иметь хоть какую-нибудь надежду…»
Нервничая, Иван Иванович одним движением пальцев переломил книжный нож из мамонтовой кости и машинально долго прикладывал, примерял неровные половинки.
– Этакий мастерище! – неожиданно увлекаясь, сказал он, впервые рассмотрев искусную работу резчика – узор на плоской ручке ножа. Дымящий чум. Олени. Скупыми штрихами дан северный зимний пейзаж: силуэт гор, солнце и голые лиственницы. Этакий мастерище! – уже со вздохом повторил Иван Иванович и положил в стол половинки сломанного ножа. – Теперь как ни прикладывай, а оно – врозь.
Он подошел к окну, сделал ногтем глазок на застывшем стекле, подышал на него и посмотрел. Белые клубы дыма плыли над крышами поселка, шевелились, наполняя долину до краев, до черты близкого горизонта, где мутно светлело желтоватое небо – пробивавшиеся сквозь морозную мглу скудные краски заката. У крыльца слышался говор якутов, увязывавших на нартах дорожный багаж доктора. Иван Иванович покосился в ту сторону и увидел перепутанные оленьи рога, серые, точно высохший кустарник. Облако пара стояло и над животными.
– Да, мороз! К ночи еще нажмет. Уже сейчас под шестьдесят градусов!
Иван Иванович привязал к поясу ремешки от высоко натянутых унтов, сшитых из камасов – шнурок с оленьих ног, с короткой густой шерстью. Нет износу хорошим камасовым унтам! Их шьют шерстью наружу, и надеваются они на чулки, сделанные мехом внутрь. Легкая, удобная обувь.
Унты и оленью доху, отороченную мехом росомахи, и беличью шапку-ушанку – все привезли якуты, чтобы доктору было тепло в дороге, и все ему пришлось впору: в песнях, сложенных про него в тайге, говорилось, что ростом он с добрую лиственницу.
– Заботятся! Да-да-да! – грустно пробасил Иван Иванович и снова припал к стеклу, заслышав женские голоса под окном на дорожке.
Елена Денисовна тащила кулек с замороженными пельменями, держа его перед собой обеими руками. Лицо ее выражало озабоченность. Следом шла Ольга, тоже с кульком, набитым какими-то свертками.
У Ивана Ивановича болезненно сжалось сердце, теперь, в последние минуты перед отъездом, он особенно любил жену, а она целый день хлопотала у Хижняков, собирая его в далекий путь. Ему не приходилось гадать, наблюдая, отчего она так суетилась – конечно, не хотела оставаться с ним наедине? Вдруг ей пришла мысль о мази при обмораживании, и она кинулась в аптеку, несмотря на увещания Елены Денисовны, припасшей на этот случай гусиного сала. Что угодно, только бы не остаться с ним дома!
– Рюкзак! Забыли рюкзак! – прозвенел у крыльца Хижняков грудной голос Варвары. – Я принесу сейчас!
Доктор снова вспомнил, как Варвара просила взять ее с собой, вспомнил ее неожиданное признание… Если бы это Ольга стремилась быть вместе с ним! А ведь совсем недавно так оно и было!..
Не постучав, в комнату вошли Логунов и Хижняк, затем Иван Нефедович, Валерьян Валентинович, Сергутов и остальные врачи. Квартира постепенно наполнялась людьми и морозным паром. Компанией ввалились женщины, явилась и Пава Романовна, весело сиявшая яркими глазками, всей хитрой, хищной, белозубой мордочкой.
На прощанье выпили по стопке вина; подождали, пока оделся Иван Иванович, посидели и с шумом высыпали на крыльцо.
«Ну вот, дождалась!» – с тоской подумал Иван Иванович, взглянув на Ольгу.
Варвара выступила вперед, но не смогла вымолвить ни слова, и Иван Иванович почувствовал жалость к ней. Хижняки стояли оба хмурые, а ведь он не насовсем уезжал!.. Пар качался над толпой, над оленями, уже выведенными на дорогу упряжка за упряжкой. Мощные, умело подобранные животные застыли, словно изваяния, но готовы сразу сорваться с места, чтобы умчаться в ночь и мороз. Медлить было нельзя.
– Ну, Оля, не поминай лихом! – с такой печалью сказал Иван Иванович, что Ольга дрогнула.
Он снял беличью перчатку, провел рукой по щеке жены, приподнял ее лицо и, почти не видя его от волнения, поцеловал, куда пришлось, потом повернулся к остальным:
– Счастливо оставаться!
Большой и статный в меховой, ладно сшитой одежде, доктор подошел к своей нарте, ловко уселся и махнул терпеливо ожидавшим якутам.
Колыхнулись в тумане оленьи рога, взвизгнули полозья… Разогнав оленей, якуты попадали животами на нарты, быстро справились, уселись и покатили по склону долины. Отворачиваясь от холодного ветра, ударившего навстречу, Иван Иванович еще раз увидел свой дом и людей, теснившихся у крыльца, – похоже было, что из дома только что вынесли покойника.
26
Серые сумерки. Белые облака пара несутся по занесенной снегом реке среди пустынных берегов, на которых чернеет дикий частокол голых лиственниц. В тишине далеко слышится сухое пощелкиванье оленьих ног. Похрустывает снег, скрипит под полозьями…
Быстро мчатся упряжки по дороге, проложенной морозом. В каждой пара оленей, пристегнутых к нарте лямками широкого ремня; перетянет один – выгнутая дужка нартенного передка бьет под колени другого, поэтому стараются они бежать наравне. Едут два проводника, Никита Бурцев и Иван Иванович… Весь транспорт разбит на три отдельные связки. Медикаменты, марля, операционное белье, хирургический инструмент, электроприборы и сам доктор – на нартах Никиты Бурцева, ставшего теперь каюром. Мчатся олени. Крепко сидит, оседлав свои легкие санки, Иван Иванович. Снаружи ему тепло, на душе холодно и пусто: пропали желания, мысли, чувства. Нет ничего – сидит верхом на нарте полумертвый от горя человек.
А Никита впереди. Он закутал шарфом все лицо, только узкие глаза посверкивают, косясь по сторонам. Иногда он вскакивает и, чтобы размяться, бежит возле упряжки, придерживаясь за веревку-вожжу, привязанную к рогу правого ведущего оленя; разбежавшись, прыгает, как рысь, падая на нарту.
Заячьи следы в три листка протянулись между берегами. Фигой-кукишем скачет заяц: задние, длинные лапки выносятся дальше передних, они-то и толкают зайца на скачок. Тут же цепочка следов, нанизанных на мелкую бороздку, прочерченную пышным большим хвостом: лиса проходила по свежей пороше. Кружит она в застывшем лесу, то приткнется к мышиной норе, словно пылающая головня, то легким скоком, распушив шерсть, пустится за стаей куропаток, вырвавшихся из-под снега. Вот она, может быть, и чернобурая, кралась за тетеревом: ровные следы тянутся вдоль узорчатой сплошной стежки… Крохотные лапки белок тонко отпечатались на белизне. Мало нынче белки. Плохой был урожай орехов на кедровом стланике, и белка ушла к югу, в еловые леса. Соболь идет за поживой – белкой. Его след обличает мелкий шажок. Он охотится и за мышами, узкий, гибкий, с выгнутой спинкой, хищно скользит по таежному бурелому; мягкий как пух мех его переливается шелковым блеском от малейшего движения. Самый нежный, самый прочный, самый дорогой мех!
Никита Бурцев на своем еще коротком веку промыслил около двухсот соболей. Чаще всего они попадались в ловушки, расставленные им возле деревьев, перекинутых бурей через лесные ручьи.
У Никиты никогда не было ни коров, ни лошадей. Дед его вел нищенское хозяйство, отец батрачил у тойонов, потом занялся охотой. И Никите век ходить бы с ружьем по звериным тропам, если бы под его дремуче-черными вихрами не зашевелились беспокойные мысли, посеянные партийным агитатором из Верхоянска. В Верхоянской впадине, центре северной горной Якутии, морозы доходят до семидесяти градусов. Кажется, невозможно существовать при таком холоде, а парни, приехавшие оттуда в наслег, где жил Никита, были с горячей кровью, веселые, ловкие, и говорили они охотникам и скотоводам слова, прожигавшие их насквозь. Шалели люди от этих слов: задумывались молодые, старики, точно спирту глотнув, теряли степенность, смеялись, ругались, хватали друг друга за грудки. Тогда и основалась в родном наслеге Бурцева охотничья артель, вскоре по соседству вырос колхоз, потом открылись культ-база и школа-семилетка с интернатом для приезжих.
Семья Никиты вступила в артель, и он в тринадцать лет стал впервые посещать школу. Хотя вместе с ним за партами сидело много юнцов и девушек его возраста, но приходили в класс ребятишки вдвое меньше. Стыдно было бы, если бы они обгоняли старших. Никита старался учиться лучше всех. В свободное время охотился, но беспокойство его с годами росло: будто жил он одной половиной своего существа, а вторая мучила неизрасходованной силой.
– Надо парню жениться, – решили старики.
– Нет, надо поехать посмотреть Большую землю, – сказал комсомолец Никита. – Жениться успею. Надо посмотреть, какая за тайгой жизнь. Тайга не весь белый свет.
Когда на прииске открылись курсы фельдшеров, Никита, только что окончивший семилетку, с радостью согласился поучиться еще.
Теперь ему шел двадцать второй год. Он был честен, вспыльчив, прямодушен и очень старательно готовился к медицинской деятельности, мечтая сделаться человеком, полезным своему народу.
– Стану фельдшером, потом выпишу книги, чтобы у себя дома закончить институт. Буду врачом, – говорил он Варваре, и та, зная настойчивость Никиты, горячо одобряла его, но она же и посоветовала ему перед поездкой на Учахан прикинуться больным.
– Как можно? – сказал пораженный и оскорбленный Никита.
Плохо было бы любому давшему такой совет, но Варвара… Разгадав ее состояние, парень не осудил ее, хотя сам еще не имел опыта в сердечных делах; однако и поняв, не покривил душой ради дружбы.
Он гордился оказанным ему доверием и теперь то и дело оглядывался назад, где потряхивался на ухабах доктор Аржанов.
Вот и Чажма – ледяная равнина, заметенная снегом, – широко раскинулась за устьем Каменушки. Ветер тянет по ней, обжигает лицо, перехватывает дыхание. Кажется, не выдержит, остановится от стужи сердце. Но вздохнешь раз-другой и чувствуешь себя легче, и уже веселит то, как летит нарта, обгоняя ветер. Мигают, светятся далекие звезды. Нажимает мороз. Прекрасна и грозна зимняя ночь на севере!
– Слушай, Бурцев. Пусть главный каюр отделит мне связку в три нарты. Я хочу тоже управлять оленями. Все-таки занятие… – сказал Иван Иванович во время короткого отдыха на привале, потирая щеки и подбородок: не следуя примеру якутов, он ехал с открытым лицом, одежда на нем сплошь заиндевела, побелела, обмерзли ресницы и брови, чернели лишь одни глаза.
И снова заколыхались по реке уже четыре белых облака, сопровождаемые пощелкиванием оленьих ног.
Хлопотливо быть каюром!
Теперь Ивану Ивановичу стало некогда вдаваться в апатию: он дергал за веревку, помахивал шестиком, бранился, когда олени закидывали на бегу ноги за ременные постромки, сворачивал передового в снег и, не выпуская из рук вожжи, приводил в порядок свои упряжки. После того олени, отлично подобранные по росту и силе, не истомленные ездой, срывались с места, как дикие звери, и надо было успеть вовремя завалиться на нарту.
27
Уже глубокая ночь шла, кружилась вокруг прикола Полярной звезды, высоко стояла луна, поздно поднявшаяся над мерзлым лесом.
Упряжки свернули в ущелье какого-то притока, полозья нарт застучали по торосам льда, нагроможденного осенью бурным течением, затем вверх по откосу берега, через камни и заваленный снегом бурелом.
Луна светила, да еще вызвездило так ярко, что голые лиственницы казались угольно-черными на снежной белизне. Неожиданно встали впереди пышные султаны дыма, перевитые золотом искр: между деревьями были раскинуты палатки.
Лесной житель, выбежав навстречу, крикнул:
– Иван с Каменушки?
– Иван! – ответил каюр-проводник.
Звонко застрекотали на стойбище женские голоса, гуще повалил дым из голенастых железных труб.
Входя в палатку, доктор взялся голой рукой за брезент дверного полога и отшатнулся: грубая ткань обжигала, словно накаленное железо, недаром звенели под топором сухостойные жерди, притащенные на топливо, – все было люто проморожено. Зимой живые деревья превращаются здесь в застывшие изваяния, а куском льда можно обрезаться, как стеклом.
– Тут ночуем, – объявил Никита.
– Хорошо, – сказал Иван Иванович. – Сколько мы проехали?
– Километров тридцать. Завтра поедем на сменных оленях, на них быстрее.
В просторной палатке жарко после мороза, убрано по-праздничному. Две девушки, миловидные вострушки, встретившие жданного гостя, одеты нарядно.
– Расскажите, что нового есть, – бросила Никите одна побойчее.
– Ты расскажи, – ответил тот, принимая доху от доктора.
Разговоров накопилось много.
После ужина Иван с Каменушки лег на приготовленную для него постель, вытянулся и как будто уснул, прикрывшись новым меховым одеялом. Девушки, убрав посуду, ушли в другую палатку, где ночевали их родственники и каюры. В этой остались только доктор, Никита да якут-истопник, прикорнувший на оленьей шкуре возле железной печки. Гудят в печке дрова, малиновые пятна проступают на ее боках; пляшут огненные чертики в прорезах дверцы, прыгают отсветами на пологе, даже в глазах рябит…
Спать бы, спать! Олени, посовавшись возле жилья, убежали на пастбище; слышно только, как стреляет мороз в лесу. Вот, словно пушечный выстрел, ахнуло со стороны Чажмы: лед треснул на реке. Иван Иванович лежал, прислушивался до звона в ушах, и все думал, пока не затосковал так, что хоть вон беги. В самом деле, почему он уехал, как некий благородный герой?.. Над ним, наверно, смеются теперь, и правильно делают; ведь он в своей нелепой растерянности даже не поговорил с женой по-настоящему, побоявшись услышать неприкрашенную правду. А сейчас у нее кто-нибудь другой. Может быть, Игорь Коробицын…
Иван Иванович тихо поднялся, оделся, постоял с минуту в раздумье: не разбудить ли Бурцева? Тут же выругал себя и двинулся к выходу. Просто он побродит немножко, рассеется. Он ступал по палатке с большой осторожностью, но истопник услышал, сразу вскинулся с места.
– Лежи, спи! – прошептал доктор, легонько потрепав его по плечу. – Я мало-мало погуляю. Хорошо! Учугей! – добавил он, вспомнив якутское слово.
Успокоенный сторож снова прилег.
Ночь стала еще светлее. Небо в огнях звезд голубело, словно застывшее озеро. За черными силуэтами лиственниц маячили белесые островерхие горы. Иван Иванович огляделся: да, олени ушли на кормежку. Серели на снегу лишь нагруженные нарты; ременные постромки сняты с них и унесены в тепло. По Чажме носился ветер, а тут, в лесном ущелье, мертвая тишина. Мороз. Лютый мороз! Издалека слышался отрывистый лисий лай, переходящий в звонкий визг: и лисам холодно. Отчаяние охватило Ивана Ивановича.
Сначала он хотел поднять каюров и послать их за оленями, чтобы вернуться на Каменушку; потом передумал: ведь это займет не меньше двух-трех часов. Но томиться здесь дольше он был не в состоянии.
До стойбища на реке, где делали привал, километров пятнадцать. Там тоже есть олени… Если пойти сейчас, то старик, чуть помедля, разбудит Никиту, они догонят его, и тогда он потребует отвезти его обратно. Иван Иванович еще не осознал, зачем ему понадобилось попасть на Каменушку ночью, ничего не решил окончательно, а ноги уже несли его назад по приметной дороге, между деревьями с откоса берега, через камни и торосы. И вот в скалистых воротах устье речонки – забелел простор Чажмы.
Душевное страдание убило в нем чувство собственного достоинства и превратило его в пылинку перед лицом этого величаво-сурового мира. Ветер гнал по реке навстречу ему студеный воздух, обжигавший лицо; казалось, само небо давило на его плечи, и он горбился, наклонял голову, большими шагами отмеривая километры…
«Какое громадное пространство! Кто заселит его? И сколько ни появится людей, для всех найдутся свои печали. А радости хватит ли? – спросил одинокий человек, упрямо бредущий сквозь хлеставшие его воздушные волны. – Делается все, чтобы радости было больше. Но прибудет ли ее, если каждый сам приносит себе горе? Зачем нужна такая боль, такая ужасная тоска?!»
Шаги его стали грузнее. Он шел, задыхаясь, ощущая всем телом яростное сопротивление ветра, который обрушивался как студеная река, рвал одежду, тащил назад.
Завидя приметный выступ берега, доктор заспешил, но место, где недавно была стоянка, уже опустело. Лесные люди выполнили свое задание и укатили. Остались только следы жилья: примятый снег, поседевшие угли, настилы ветвей да остов палатки, как виселица, на треногах…
Иван Иванович задумался. Ему представилась вся неприглядность его неожиданного возвращения на прииск, но остановиться он уже не мог и двинулся дальше. На участке, где ветер размел снег, он поскользнулся, упал и с минуту сидел, отдыхая. Сквозь толщу льда между прилизанными снежными мысками, просвечивала текучая глубина. А может быть, и не текла там вода, а все сковано до самого дна… Иван Иванович вспомнил начало зимы на Каменушке, Ольгу на лыжах, то, как она упала, подбив его, и ее распахнувшиеся глаза, и глубокие борозды на белой пороше, в которых чернел лед…
Что-то словно надломилось в натруженной душе при этом воспоминании.
– Дожил! – сказал хирург глухо и лег ничком на смерзшийся снег.
Долго ли пролежал он так? Но мороз уже стал подбираться к нему: протекал в рукава, набивался иголочками за воротник. Еще немного – и он застынет совсем, или подберут полуживого, с отмороженными руками и ногами. Гусев сделает ампутацию – отрежет, конечно, как можно выше… Пусть будет настоящий обрубок вместо человека, лишь бы не подвергаться риску.
– Черта с два! Только этого мне и недоставало! – Иван Иванович сел, поправил шапку, растер прихваченную морозом щеку, осмотрелся.
На посеревшем небе трудно пробивалась утренняя заря, тускло-лиловая, словно посиневшая от холода, и земля тоже казалась серой, мертвенно-пустынной.
Доктор встал и побрел обратно к якутскому стойбищу, где его так радушно приняли ночью. А навстречу ему уже близко колыхались в облаках белого пара ветвистые рога оленей.
Встревоженный донельзя Никита Бурцев мчался по знакомому следу на двух упряжках. Позади с печкой и палаткой на всякий случай ехали каюры.
28
Ольга умылась холодной водой, затопила плиту и принялась наводить порядок в квартире. На душе у нее было грустно и легко. Третий день она жила одна.
Нагрев изогнутую железку, она прижала ее к заплывшему льдом оконному стеклу, задумчиво наблюдая, как заструилась темная полоска влаги по белому узору, опушенному инеем. Приложила к сделанному ею просвету руку, затем другую, подышала еще на него и выглянула на улицу. Шел снег. Большие хлопья летели, кружась, перед самыми глазами Ольги. Она торопливо оделась и поспешила к выходу. Да, сильный падал снег, кутая все заново мягким покровом. Значительно потеплело, и сразу спокойнее стало на закоченевшей земле: напряжение, созданное жестокими морозами, ослабло.
Ольга сбежала с крыльца и отправилась бродить по нагорным тропинкам-улицам, как будто заново открывая для себя мир. Она была молода, здорова и безотчетно, эгоистически радовалась ощущению свободы; сегодня, по крайней мере, ничто не связывало, не стесняло ее. Она смотрела на людей, шедших в побеленной снегом одежде, ловила губами летевшие ей в лицо пушистые хлопья и чувствовала себя словно школьница, которая возвращается с последнего урока перед каникулами…
Сама того не заметив, она попала на дорожку, по которой ходила с Тавровым теплой осенней ночью, но только ступила на нее, сразу осмотрелась с волнением. Теперь здесь лежал глубокий снег, и новый все сыпался да сыпался сверху. Склоненные кусты краснотала напоминали диковинные белые перья, пушистые лисьи хвосты. От скамеек и помина не осталось, лишь в одном месте возвышалось что-то похожее на толстое бревно, утонувшее в сугробе.
Все переменилось, только чувства те же, но еще сильнее и ярче стали они!
«Вот поворот к дому. Здесь мы попрощались, – вспоминала Ольга. – Почему же до сих пор мы встречаемся лишь изредка, лишь издали…»
Из почтового ящика на двери торчали углы свежих газет. Вместе с ними Ольга достала голубоватый конверт, адресованный на ее имя. Сидя у теплой плиты, она снова и снова перечитывала письмо, не веря своим глазам: редакция областной газеты предлагала ей стать штатным корреспондентом. Ее вызывали на совещание в Укамчан…
Шоссе походило на просторную траншею среди сугробов, из которых торчали лишь верхушки невысоких лиственниц. Много хлопот доставляет зима северным дорожникам! Целые горы снега перелопачиваются ими и в низинах, и на горных перевалах.
Все время бушуют метели, неся поземку из глубин промерзшего материка к морю, начисто выметая вершины гольцовых хребтов. Однако трасса Укамчан – Чажма работает беспрерывно.
Ольга выехала с Каменушки на автобусе, но возле Большого хребта он так основательно врезался в наледь, что остальную часть пути до побережья пришлось добираться на грузовике.
Люди кутались в меха и одеяла. Ветер хлестал их со всех сторон, вздувая парусами покрывала, осыпал измельченным снегом.
Сравнительно легко одетая Ольга иззяблась, пока ее не приняла под свое крыло громкоголосая богатырша, укутанная в громадный тулуп и лоскутное одеяло.
– Айда ко мне! – Она радушно распахнула тулуп. – Погрейся, небось продрогла?
Обрадованная Ольга приткнулась к ее боку. Сверху таежница накинула на нее половину одеяла, тепло и крепко обхватила рукой.
– Вот и ладно! – сказала она добродушно над ухом Ольги. – А то вижу – дрожишь. Что так налегке отправилась?
– В редакцию вызвали познакомиться… – ответила Ольга, подумав, что та говорит о багаже.
– И я не просто: на слет стахановцев еду, – сообщила новая знакомая. – Я бригадир старательской артели. Приискательница коренная. Зовут меня Егоровна. Вместе с мужем лет пятнадцать по ямам работала, а теперь вдовею. В нашем коллективе женщин много. Хотя она, земляная-то работа, тя-ажелая, да механизмы выручают.
Ольга с почтением взглянула снизу на пожилое, но крепкое, по-мужски обветренное лицо старательницы.
– Еще зовут меня за могутность царь-бабой! Пятипудовые мешки я шутя поднимаю, – задумчиво, без тени хвастовства продолжала Егоровна. – Мужик мой в молодости сильно водкой ушибался, так я, бывало, сгребу его в охапочку и принесу домой. Трезвый-то он не уступил бы мне, дюж был покойный, а пьяный – что дитя. – Видимо растроганная воспоминанием, она умолкла, да и дорогу тут еще не совсем расчистили – грузовик подбрасывало, что тоже не располагало к разговору.
Ольга не узнала Укамчана в зимних снегах. Дома стояли с побелевшими окнами, резко, словно утесы, выделяясь среди сугробов. Чувствовалось во всем оживление краевой столицы: везде машины, автобусы, лошади, оленьи, бычьи и собачьи упряжки, по траншеям тротуаров и переулков сплошной поток тепло одетых людей.
Город казался красивым, и зимой в нем было меньше дыму, чем в любом приисковом поселке: здесь пользовались паровым отоплением.
«Кусок Москвы! – подумала Ольга, выбравшись из машины. – Наверно, особенно хороши эти каменные дома ночью, на ярко освещенных белых улицах».
– Ты куда? – спросила ее Егоровна, подошедшая с пребольшим чемоданом в руке (лоскутное одеяло и тулуп исчезли в нем).
Перед Ольгой стояла статная, широкоплечая женщина в ладно сшитом пальто с собольим воротником, в собольей же шапке-ушанке. Полное лицо ее светилось умом, добродушием и лукавством.
– В гостиницу, – не сразу ответила Ольга.
– И не думай. Сейчас все забито: стахановцы съехались! Айда со мной; у меня здесь сестра живет. Квартира у нее просторная.
29
Редактор областной газеты торопливо поднялся навстречу несколько смущенной Ольге.
– Очень рад познакомиться!
Обычно она держалась с достоинством, но сюда пришла ради желанной работы, была не уверена в своих способностях и очень волновалась.
– Мы сразу заинтересовались вашими очерками, – продолжал редактор с сердечным радушием крупного работника, убежденного в добрых качествах человека, которого ему требовалось заполучить. – Выли тут у нас и разногласия по ряду ваших вещей…
Без этого не обходится: газета дело сложное и тонкое; как говорится, что написано пером, не вырубишь топором. Но позднее мы сработались с вами. Не правда ли?
Ольга, все еще волнуясь, кивнула молча.
– Мы предлагаем вам работу в качестве корреспондента в приисковых районах, – сказал он, внимательно глядя на нее. – Жалованье, как штатному сотруднику, плюс гонорар за каждую напечатанную статью или очерк. Квартира… Как у вас по части быта? Где вы предполагаете жить? Вы, кажется…
– Меня устроит отдельная комната на прииске Октябрьском, – твердо заявила Ольга, не давая ему договорить.
Не то недоумение, не то сожаление проскользнуло по лицу редактора (видимо, знал уже, что она замужем), ко, умея владеть собой, в следующее мгновение ответил с прежним радушием:
– Хорошо. Мы это быстренько сделаем. К вашему возвращению комната будет приготовлена. Подробности о требованиях редакции к спецкорам сообщит вам мой заместитель. – Редактор взглянул на часы. – Я еду на совещание стахановцев, – пояснил он свое движение, – а вы пройдите в кабинет рядом, познакомьтесь с будущими соратниками по перу. Подождите, я сам вас представлю. А вечером у нас совещание при газете, вам нужно быть.








