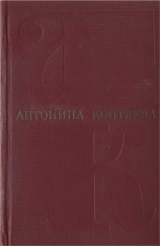
Текст книги "Собрание сочинений. Том 2. Иван Иванович"
Автор книги: Антонина Коптяева
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 27 страниц)
– Нет, с вами невозможно играть! – вскипала она, находя под клеенкой спрятанные им карты. – Что за мальчишество, в сам деле?!
– Вот, ей-богу, не видел! Как они туда попали? Просто удивительно! – смиренно уверял Иван Иванович, а веселые чертики так и прыгали в его глазах, и рука будто невзначай отгибала уголок сдаваемой карты.
Если сдавал его постоянный партнер Хижняк, то Иван Иванович движением бровей или пальцев показывал, кому дать карту, и в зависимости от этого тот подкидывал по одной или по две.
– Туда, туда! – не выдерживая, вслух озорничал доктор. – Честность в карточной игре – дворянский предрассудок, – говорил он, с огорчением глядя на карты, смешанные энергичной рукой Елены Денисовны.
– Вы настоящий шулер! – возмущенно объявляла она. – Баста! Я не хочу портить себе нервы.
А Иван Иванович смеялся от всей души:
– Карты для того и существуют, чтобы плутовать. Иначе это скука!
18
Каждый день, проводив Ивана Ивановича в больницу, Ольга занималась английским: много читала, работала со словарем, добросовестно переводя научный труд известного английского хирурга. Но тишина квартиры угнетала ее. Ей не хватало общения с людьми, а в последнее время она начала подозревать, что работа, которую она выполняла по просьбе мужа, не так уж необходима ему. Вероятно, он предложил ее с единственной целью дать жене занятие.
«Благодатель какой нашелся!» – обиделась Ольга, когда убедилась в этом, и разом охладела к заданию. В самом деле, зачем забивать себе голову всякими ненужными терминами?
В солнечный, яркий день она очутилась далеко за прииском. Похожая на пароход, плавучая землечерпалка-драга с лязгом и скрежетом передвигалась перед ней в огромном котловане. Ряд ковшей-черпаков, поблескивая высветленными стальными козырьками, с плеском выходил из мутной воды и бесконечно тянулся вверх, заглатываемый утробой машины. Черпаки шли конвейером; золотоносная порода, разжиженная водой, с чавканьем шлепалась через края переполненных ковшей обратно в котлован.
Иногда куст с размытыми корнями, а то и деревцо с обрушенного борта забоя косо пристраивались на конвейере, но рабочий, дежуривший с шестом в руках, сталкивал их вниз.
Ольга стояла и смотрела, охваченная странным волнением. По ту сторону долины серели, четко вырисовываясь в голубизне неба, каменистые вершины гольцовых гор. На этих горах тундра: мох, лишайники, карликовая береза, ниже – непролазная лиственничная тайга с подлеском ольхи и кедрового стланика… Глушь. И вдруг изумительная машина, настоящая плавучая фабрика! Только привезти сюда такую махину – настоящий подвиг.
«Если бы я не бросила учебу в машиностроительном институте, то могла бы стать хорошим механиком, – думала Ольга, любуясь драгой. – Чем лучше меня Игорь Коробицын? Теперь я работала бы и на сборке драг. Потеряла профессию и ребенка потеряла. Когда-то еще овладею английским языком, а время бежит, бежит!..»
Она подошла к сходням, сброшенным с борта драги на берег котлована, просительно взглянула на женщину в комбинезоне.
– Покажите мне, как вы здесь работаете. Меня это очень интересует.
Домой Ольга вернулась за полдень, помогла Елене Денисовне, прибежавшей со службы, сделать заготовку к обеду, принесла ей воды, дров и отправилась на свою половину.
– Вот день и прошел! – задумчиво проговорила она, поднимаясь на крыльцо и покусывая палец, в который попала заноза. У нее были узкие в кисти, но сильные руки, не боявшиеся грубой работы. – Вот день и прошел, – повторила она, с раздражением вытряхивая на стол содержимое корзинки, где хранились разные мелочи: она искала игольник…
– Вы собираетесь рукодельничать? – спросила забежавшая Пава Романовна.
– Нет, вынимала занозу.
– Первая медицинская помощь! – Пава Романовна оглядела нарядный ералаш на столе. – Ах, что за кружево! Я не встречала подобного!
– Если оно вам нравится, могу подарить.
– Правда?! Вам не жалко?
– Немножко жалко, но это ничего. Возьмите. – Ольга помолчала, потом заговорила с досадой, даже с некоторым озлоблением: – Вы не замечаете, как затягивают нас всякие бабьи мелочи, когда мы сидим дома?
– А я почти не сижу дома. – Пава Романовна приложила кружево к высокой груди. – Я сделаю из него красивое жабо. Это освежит платье, в котором мне придется играть в «Бешеных деньгах». Шить новое я пока не буду: смотрите, как меня распирает. А все ваш изверг Иван Иванович! Ведь мог бы оказать нам услугу, тем более он не из пугливых, вроде Гусева. – Пава Романовна повернулась еще перед зеркалом и сказала самодовольно: – Все-таки мне идет и беременность. Я просто кругленькая, но исполнять на сцене роли девушек уже не могу. Это большой урон для нашего драмкружка. Если бы вы заменили меня…
– Я никогда не участвовала в постановках.
– Ничего не значит! Было бы желание, – решительно заявила Пава Романовна. – Может быть, вас не пускает Иван Иванович? Да, как вы относитесь к тому, что у него случилось сегодня? – спросила она, бережно пряча в сумочку кружево. – Неужели из знаете? У него сегодня большущая неприятность!
У Ольги дрогнуло сердце.
– Что с ним?
– Криминальный случай, он при операции вместо какой-то там опухоли вскрыл живот женщине, у которой была беременность в начале пятого месяца.
– Не может быть!
– Однако это случилось, – возразила Пава Романовна с нескрываемым злорадством. – Он слишком самоуверен и иногда пренебрегает исследованием. Гусев не дал бы себя так одурачить.
19
Хирург Гусев числился теперь заместителем Ивана Ивановича. Ольга познакомилась с ним у Пряхиных на второй день после своего приезда. Высокий, сутулый, с большим носом и тонкими цепкими руками, он напомнил ей чеховского человека в футляре. Глаза его смотрели настороженно, узкое лицо выражало брюзгливое недовольство: он словно обнюхивал каждого, кто впервые подходил к нему.
– Мы с ним не дружим, – пояснил Иван Иванович Ольге после того, как познакомил их. – Он опытный врач, но очень уж осторожничает, и это доводит его до перестраховки. Такому нельзя быть хирургом. И вообще врачом нельзя быть.
– Зачем ты ссоришься со своими коллегами? – упрекнула Ольга.
– Какая может быть дружба с человеком, который вместо совета и помощи одергивает тебя на каждом шагу? Если у нас решается вопрос о нейрохирургической операции, у него начинаются нервные колики, хотя его никто не просит даже ассистировать.
В этот раз Гусев был потрясен совершенно. Он не промолвил ни единого слова, а просто остолбенел возле стола. Но он мог вести себя как угодно, поскольку присутствовал в операционной случайно.
Другое дело Иван Иванович… Когда он вскрыл брюшную стенку и увидел увеличенную матку с особенно развитой сосудистой сетью, лицо его загорелось таким румянцем, словно он получил пощечину.
В первый момент он вспылил, бросил инструмент и пошел из операционной. Он даже не зашипел, как гусь, что случалось с ним в минуты напряженного, злого волнения, а просто выругался и зашагал прочь, но, не дойдя до порога, собрал все свое самообладание хирурга, вернулся к растерявшемуся ассистенту и стал зашивать рану. Хорошо, что он не затронул матку, что женщина и после попытки хирургического вмешательства сможет родить. Но он чувствовал себя страшно оскорбленным.
Руки его, развитые, словно у блестящего пианиста-виртуоза, действовали с привычной ловкостью и точностью, а в душе кипело…
Наложив последний шов, он скинул в предоперационной комнате белоснежный колпак, маску, клеенчатый фартук, швырнул перчатки и большими шагами пошел по коридору, развевая полами халата, не замечая больных, суетливо расходившихся по местам при появлении его прямой, высокой фигуры. Уже на выходе он столкнулся с сестрой, выносившей из палаты помойное ведро, и внезапно остановился; маленькое нарушение больничного распорядка просто взбесило его сегодня.
– Поставьте ведро! – сказал он резко. – Я говорю: поставьте ведро! Есть на то санитарки, есть поломойки…
Упоминание о санитарках вернуло его мысли к той, которую только что сняли с операционного стола, и он, болезненно хмурясь, отвернулся…
Свет и блеск июньского дня только усилили в нем ноющее сознание вины в позорном промахе. Он не мог простить себе легкомысленной доверчивости. Было заключение опытного терапевта, подтверждающее диагноз опухоли. К гинекологу больная категорически отказалась идти. Она была такая суровая старая дева, что ни у кого, тем более у самого Ивана Ивановича, не появилось подозрения на беременность.
– Обошла, как мальчишку! – сказал он, поднимаясь через две ступеньки на высокое крыльцо поликлиники, смежной с больницей.
В кабинете Иван Иванович крепко хлопнул дверью, благо час был не приемный, опрокинул табурет, дал ему хорошего пинка и, морщась от боли в ушибленной ноге, присел к столу.
– Чертова баба! Тоже мне девушка!
Все сильнее кипя гневом, он вспомнил некрасивое лицо санитарки, ее большие руки… Смирная, работящая старая дева, она была на хорошем счету среди медицинского персонала. Ее расторопность и старательность вошли в поговорку. Иван Иванович поручал ей уход за самыми тяжелыми больными. Нельзя было не верить в ее добропорядочность – и вот такая страшная, нелепая история!
«Скверная баба! Как она посмела выдать беременность за опухоль живота?! Зачем? Ведь не от нужды. Ведь не из боязни общественного мнения! Наоборот… И помогли бы и поддержали. Что за озорство отчаянное!»
– А тебе так и надо! – с озлоблением бросил Иван Иванович вслух по собственному адресу. – В другой раз будешь осмотрительнее.
После полудня его вызвали в райком. Надев пиджак и кепи, он вышел из больницы, но за порогом неожиданно столкнулся с Ольгой.
Она взволнованно и нежно посмотрела ему в лицо:
– Захотелось тебя встретить. Ты домой?
– Нет, в райком, – сказал он глухо, не глядя на нее.
– Я провожу тебя, – предложила Ольга, беря его под локоть.
– Хорошо, пойдем, – ответил Иван Иванович, и она увидела, как дрогнуло что-то жалкое в его мужественных чертах.
– Ничего, Ваня, ты не расстраивайся, пройдет, – сказала Ольга, крепко стискивая ему руку.
Хирург вздохнул всей широкой грудью:
– Конечно, пройдет. Хотя ошибка недопустимая. Меня другое волнует. Я не пойму, как она смела… как могла обмануть меня! Так глупо, так дерзко лезть под нож! Она все во мне оскорбила!..
Он не знал, зачем его могли вызвать к секретарю райкома именно сейчас, после позорной для хирурга оплошности. Возможно, Скоробогатов решил вмешаться в дела больницы… Иван Иванович ожидал всего и потому вошел в райком очень решительно.
Скоробогатов, конечно, уже знал о случившемся, но принял Ивана Ивановича неожиданно ласково.
«Радуешься, что меня есть на чем прижать!» – сообразил тот, отвергая ласку крутой складкой бровей и сурово-независимым видом.
– Я насчет ваших фельдшерских курсов, Иван Иванович, – мягко заговорил Скоробогатов, не изменяя благожелательного выражения, странно не идущего к его властному лицу. – Что это вы с Логуновым проводите там свою особую политику? Да, политику, не согласованную с общей линией райкома партии!..
– Не понимаю, о чем речь! – промолвил Иван Иванович, невольно смущаясь под пронизывающим взглядом секретаря.
– О том, что вы устраиваете лекции и на политические темы, рассчитанные не только на ваших слушателей: они посещаются в массовом порядке. Вы даже переносите их из помещения курсов в зал клуба, и все это без согласования с райкомом ни по тематике, ни по времени и месту проведения.
– Поскольку Логунов был выделен для этих лекций райкомом, постольку… – Иван Иванович споткнулся на сказанном слове, – постольку, – повторил он упрямо, удивляясь сам нелепости своего выражения, – я думал, что вы должны быть осведомлены о темах его выступлений. А читает, то есть говорит, он прекрасно. Фельдшера наши им предовольны. В большой зал клуба мы, правда, иногда перекочевываем: не выгонять же народ, который приходит послушать. У нас тесно… Натискаются, прямо стены трещат.
– Нехорошо! – сказал Скоробогатов и уже строго сжал тонкие губы. – Вы оба члены партии, а меня, секретаря райкома, ставите в неловкое положение. Я назначаю доклад на открытой сцене в парке, прихожу, а вы в это время устраиваете лекцию на такую же тему в клубе.
Иван Иванович промолчал: тут он ничего не мог возразить. Действительно, случилось подобное совпадение. И, конечно, Скоробогатову неприятно, что все ушли на лекцию Логунова. Хоть кому было бы неприятно!
Молчание доктора несколько смягчило Скоробогатова. Он глянул опять ласковее и потянул какую-то бумажку из-под настольного стекла.
– У меня еще заявление есть, – сказал он. – Это Бельтова, палатная сестра из хирургического. Она протестует против неправильного увольнения.
Иван Иванович возмутился.
– Она может протестовать сколько угодно, я о ней даже слышать не хочу!
– Когда с вами говорит секретарь райкома, вы обязаны слушать. Разве я стану поддерживать человека, не стоящего внимания? Во-первых, она страшно нуждается. Я сам лично обследовал ее положение…
– Если бы она нуждалась, она не относилась бы халатно…
– Она передовая активистка и член партии.
– У нее нет партийного билета, – быстро возразил Иван Иванович.
– Документы Бельтовой утонули вместе с ее вещами на переправе.
– Вы в этом уверены?
Красное лицо Скоробогатова еще больше побагровело.
– С каких это пор вы стали недоверчивы? Попались же на удочку санитарки!..
Иван Иванович даже подскочил, больнее задеть его сейчас было невозможно.
– Ошибся. Сам себя готов избить за оплошность. Но выгораживаться не намерен.
– Еще бы! Это ведь не только оплошность, но и подсудное дело!
– Совершенно верно! Но сейчас вы напрасно говорите со мной так. Подвели мы вас с докладом? Точно, подвели. Правильно я уволил эту вертихвостку, которая и сама дела не делала, и других разлагала? Правильно! А от того, что правильно, я еще никогда не отказывался.
– Вы идете против партии? – угрожая взглядом, спросил Скоробогатов.
– Не против партии, а против вашего пристрастного мнения. Вы только секретарь райкома – точка на огромном теле.
– Я? Точка?
– Да-да-да! По сравнению со всей партией только точка.
20
– Что он тебе сказал? – спросила Ольга, ожидавшая с нетерпением на крыльце.
Красные пятна на лице мужа, его горящие глаза и дрожащие губы испугали ее.
– О чем вы беседовали? – спросила она настойчивее, беря его под руку и почти насильно заставляя замедлить шаги. – Ты что-нибудь наговорил ему? – опасливо допытывалась она.
– Да, я ему, кажется, наговорил!.. – вздохнув, сознался Иван Иванович, останавливаясь на дорожке с насупленным видом. – Я ему наговорил… разного, – добавил он загадочно, с сердитой усмешкой. – Теперь он там рвет и мечет.
– Значит, не так страшно то, что получилось у тебя в больнице? Значит, ты не боишься?
– Чего же мне бояться? Кроме тюрьмы, ничего не будет, – пошутил он, но шутка прозвучала серьезно. – Смешная ты! Я поцапался с секретарем райкома не от того, что чувствую себя правым. Вина моя не уменьшилась, но нехорошо, непереносимо, когда хотят прижать этой виной даже там, где ты прав. Только ты не расстраивайся. Понимаешь? Не нервничай, будь умница. А за себя я постоять сумею. Не стану, сделав один проступок, от страха соглашаться на другой.
«Еще и хорохорится!» – подумала Ольга с улыбкой на озабоченном лице.
– Надо же было тебе, кандидату медицинских наук, забиваться сюда! – невольно упрекнула она.
– Надо. Я бы даже постановил, чтобы каждый специалист отработал известное время в местах отдаленных не только тогда, когда он еще зелен, неопытен, а в пору расцвета. Ведь опыт мы получаем, практикуя на периферии, тратим же его в больших городах. Конечно, там все возможности для научной деятельности, но в принципе это несправедливо. Вот послужу здесь еще, тогда буду проситься в докторантуру в Московский нейрохирургический институт. Закончу докторскую диссертацию и стану добиваться осуществления своей задачи в нейрохирургии.
– А когда добьешься?
– Возникнет новая. Жизнь так движется. Не удивительно, если лет через пять в нашем областном городе Укамчане будет основан медицинский институт.
– И ты поехал бы сюда опять на постоянную работу?
– Поехал бы, – сказал Иван Иванович убежденно. – Вот погоди, поживешь на Севере – увидишь, как он притягивает. Жить везде интересно. Но чем труднее, тем интереснее. У Дениса Антоновича даже здесь тыквы цветут. Успел уже высадить. По три пуда должны вырасти. Да-да-да, меньше невозможно. Кстати, сегодня наша очередь поливать, – вспомнил Иван Иванович, уже успокаиваясь. – Я очень люблю сырую землю, темную, рыхлую, и зелень, когда она только начинает пробиваться. Знаешь, есть стихи: «И бесшумными взрывами всходит горох на грядах…» «Бесшумными взрывами»! А? Чудесно! Именно так. – Иван Иванович, увлекаясь, вскинул руку с пальцами, сжатыми щепотью, и сразу раскрыл их. – Взрыв. Земля взорвана и рассыпается комьями. «Бесшумными взрывами всходит горох…» Да-да-да, чудесно сказано! – И Иван Иванович мечтательно улыбнулся, точно сам это придумал.
– Ах ты, милый мой! – прошептала Ольга. «Несуразный мой! – добавила она про себя. – Натворил бог знает чего и сияет!»
– Гуляете в рабочее время? – шутливо укорил подошедший к ним Пряхин.
Иван Иванович сразу потускнел:
– Рабочее время уже кончилось. Пора обедать.
– Ну, как говорится, приятного аппетита. А нам сегодня и пообедать некогда. У нас горячка. Ожидаем приезда начальника треста. Приедет еще новый директор фабрики, инженер Тавров… Борис Андреевич.
– Вот новость! – весело сказала Ольга, глядя вслед спешившему Пряхину. – Это, конечно, тот самый Тавров, с которым мы вместе ехали на пароходе. Помнишь, Ваня, я тебе о нем рассказывала? Но я все-таки не в обиде на него. Меня, правда, есть за что ругать!
– Если признаешь ошибки, значит, имеется надежда на исправление, – пошутил Иван Иванович.
Вечером на городковом поле было шумно. Ожесточенное сражение привлекло многих зрителей на спортивную площадку. Команда Хижняка, в которой играл Иван Иванович, разносила противников. Иван Иванович, без пиджака, с засученными рукавами, воистину заслуживал внимания: в городки он играл серьезно и страстно.
Короткий взмах руки верно посылает тяжелую палку. Она летит прямо в дружную семью толстеньких обрубков рюх и, раскатив их, выносит за черту «города» сразу несколько штук. Темный ежик на голове Ивана Ивановича топорщится после этого еще задорнее; глянув на кислые лица противников, он разражается громким смехом.
Но вот палка, брошенная Хижняком, поднимается на попа почти у самой цели и в облачке пыли перелетает через рюхи. Иван Иванович тоже пылит.
– Эх вы! Мазила вы несчастная! – кричит он Хижняку басовитым голосом.
Ольге, отдыхавшей на скамейке после волейбола, даже смешно становится при виде его лица, обиженного, злого, страдающего.
Однако он тотчас стихает, ревниво глядя на противника, переходящего в действие. Ольге кажется, что он не выдержит и ахнет под руку. Но нет, этого не случится, иначе доктор сгорел бы от стыда.
– Что азарт-то делает: кричат и ссорятся, как мои сорванцы. Играла бы я в городки… Ох, и отомстила бы Ивану Ивановичу за его плутовство в картах, – сказала Елена Денисовна, усаживаясь рядом с Ольгой и беря на колени Наташку. – Сколько он мне нервов попортил! А если бы ему сейчас такое?
– Здесь, пожалуй, не сплутуешь! – сказала Ольга, любуясь Наташкой и забирая в свои ладони ее толстенькие ручонки. – Какая хорошая девка! Ну что за девка! Так и хочется ее пошлепать.
– Да уж не говорите! – с нарочито грубоватой нежностью к дочери возразила Елена Денисовна. – Все уже понимать стала. Вот ходили с ней в больницу проведать Юрочку. Папа наш занимается с ним лечебной гимнастикой, ну и разговоры дома, конечно. Правда, чудо что за мальчик! Так ему, бедненькому, хочется выздороветь – все задания вдвойне выполняет. Наташка наслушалась о нем и прямо одолела: покажите «майсика». Пришлось познакомить.
– А как женщина? Которой сегодня… которую сегодня оперировали?
– Эта? – Елена Денисовна закусила губу, словно с досадой. – Что она? Да ничего. Зашили обратно. Наложили швы по всем правилам. Рожать будет. Была я у нее вечером, хотела отругать, да пожалела: пусть окрепнет маленько. Вот они, тихони-то!
Ольга промолчала. Ее тоже почему-то некоторые считали тихоней. Совсем неожиданно она подумала о завтрашнем приезде Бориса Таврова, и мысль о нем вызвала у нее неосознанную тревогу: «Странное совпадение – отчего именно сюда, в это приисковое управление, он едет, когда в крае столько других приисков?!»
– Сама себя чуть не искалечила, – говорила Елена Денисовна, – Ивана Ивановича подвела. Ведь я-то опытный воробей, а тоже верила, что у нее опухоль. Мы эту санитарку давно знаем: жила себе, как монашка, и все одна… Словом, дура! – добавила акушерка почти с озлоблением. – Вы не подумайте, я за грех не осуждаю: живая душа. Но подличать-то зачем? Разве помешает ей ребенок? Да он ей всю жизнь украсит! Никогда не забуду одну бобылку, убогую. Рука у нее с детства изуродованная и левый бок… Так и выросла одноручкой кособокой. Работала в артели инвалидов. Сирота одинокая. Замуж никто не берет. И вот приходит в родильный дом… Приняла я у нее девочку. Дочка родилась вроде моей Наташки. Санитарки собрались и говорят меж собой: «Дал же бог счастье, кому не надо! Куда ей с ребенком?!» А она ребенка жмет к груди, молчит, а у самой глаза горят, светят!.. Глянула я в эти глаза, подкатило у меня к горлу: так вот и брызжет из них материнское. – Елена Денисовна задумалась. – Правда, только одни глаза и хороши у нее были. А лет через пять родила она еще мальчишку. Тут уж я не вытерпела: напросилась к ней в гости. Пошла после работы, внуку кой-что на зубок захватила. Гляжу – внучка моя уже большенькая, хорошенькая такая, бойкая, меньшого в зыбке трясет, нянчится. Вещей в комнате немного, но опрятно все, и куклы у дочки есть. Подивилась я и спрашиваю свою роженицу: «Как ты не побоялась ребятишками-то обзавестись?» А она улыбнулась да и говорит: «То я жила просто инвалидка, а теперь мать своим детям. Настоящая женщина!» Вот и возьми ты ее! Сама при деле, ребятишки в яслях! Разве осудишь такое?!
21
Курсы фельдшеров на Каменушке открылись полтора года назад по инициативе Ивана Ивановича и бывшего секретаря райкома Озерова. Незадолго до этого они объехали самые отдаленные уголки района. Помимо лечебной помощи, в тайге требовалась культурно-бытовая, оздоровительная работа. Иван Иванович осматривал больных, Озеров разговаривал с председателями артелей и наслежных Советов, с местными комсомольцами и коммунистами. Предложение подготовить фельдшеров из якутов и эвенков они встретили восторженно. Известие об открытии курсов разнеслось по тайге задолго до получения ответа из области, и каждый таежный район захотел иметь фельдшеров своей национальности. Желающие учиться нахлынули на прииск Каменский отовсюду.
Приезжая, они оставляли где попало оленей и нарты и, загорелые, бронзоволицые, пахнущие морозом и дымом костров, вваливались в меховых одеждах в бараки, отыскивая доктора Ивана.
Иван Иванович просил их повременить, отсылал к Озерову, в сельсовет, в дом для приезжих, но они, покрутившись по прииску, упрямо возвращались к нему. Якуты угощали его квашеным замороженным молоком, ячменными лепешками, сырой оленьей печенкой; эвенки вынимали из кожаных вьюков сушеную рыбу, и ту же оленину, и оленью печенку. Иван Иванович поневоле уступил им часть своей квартиры и проводил с ними целые вечера, расспрашивал, присматривался, заранее отбирая самых толковых. Требовалось человек тридцать, а наехало более пятидесяти. Некоторые привезли подарки. Они думали, что дело не обойдется без подарков. Получившие отказ обиделись. Озеров, очень носившийся с идеей открытия курсов, устроил непринятых на горные работы, и в конце концов все остались довольны. На курсах начались занятия. В числе слушателей оказалась и Варвара Громова.
– Какой хороший человек был! – не раз говорил Иван Иванович, вспоминая Озерова. – К каждому умел подойти. Тоже не обходилось без грозы и молнии, да разве так, как у Скоробогатова! Этот только на грозу и надеется.
На занятиях Иван Иванович привычно отыскивал простые, доходчивые слова и в пояснение чертил мелком на доске. Эвенки и якуты слушали его, как дети слушают сказку. Недавно страшное, загадочное становилось понятным, даже доступным для воздействия, и радость познания расширяла непроницаемо черные глаза курсантов, румянила их широкоскулые, молодые лица. Глядя на слушателей, Иван Иванович разгорался и увлекался сам и уже не следил за своей речью, но, и не следя за ней, говорил доходчиво, потому что говорил от всего сердца.
– Я отдыхаю здесь, – сказал он в перерыв Варваре, когда она подошла к нему и спросила, не устал ли он. – Смотрю на вас и думаю: «Вот люди, которые помогут своему племени полностью приобщиться к культуре, к большой жизни русского народа». Я уверен, что вы будете хорошими работниками. Правда, Варя?
– Правда. Мы из-за вас стараемся, – сказала она с наивной серьезностью.
– Почему же из-за меня? – удивился Иван Иванович. – Стараться надо из любви к делу.
– Мы и хотим хоть немножечко походить на вас – хорошего доктора. Две старые женщины-якутки, которым вы сделали глазную операцию… которые стали снова видеть после трахомы… Они сложили песню. – Варвара протянула руку и, подняв к потолку продолговатые в разрезе глаза, будто изображала слепую, заговорила певуче:
Трава почернела, утонули во тьме деревья,
Я слышу только их шорох и запах,
Когда черный ветер рвет с меня черное платье
И обжигает мое лицо черным осенним холодом…
А дальше слова о вас, ах, какие красивые слова!
– Зачем же это? – смутился Иван Иванович, но лицо его покраснело от удовольствия. – Ничего особенного, самая пустая операция.
– Совсем не пустая! Вам так кажется, потому что вы умеете, – перебила Варвара негодующе. – Очень хорошо, что старушки придумали такую песню. Ведь к ним в тайгу теперь часто будут приезжать. Людям надо убедиться в том, что слепые стали видеть. Вместе споют эту песню и увезут ее с собой. Потом каждый переделает ее по-своему, но радость передаст всем. Вы понимаете?
– Немножко. Нет, понимаю, конечно: это очень хорошо, – поправился Иван Иванович, заметив недоумение Варвары.
22
– Нейрохирургия решает проблемы, которые лет пятнадцать, даже десять назад считались неразрешимыми. – Иван Иванович быстро прошелся по кабинету, открытое лицо его выражало оживленную сосредоточенность, которая и позволяла ему забыть, что жена его мало интересуется хирургией. – Кроме операций на центральной и периферической нервной системе, мы начинаем вмешиваться и в вегетативную нервную систему, влияющую на работу наших внутренних органов, – продолжал он с увлечением и, вспомнив одну из своих удачных операций, улыбнулся. – Сколько нового открывается! Взять, например, самопроизвольную гангрену… Гангрена – это вроде пожара на торфянике, бурная, злая штука. Если почернели пальцы на ноге, нужно ампутировать до бедра. Иначе придется резать повторно. Что же здесь дает нейрохирургия? Я удаляю кусочек идущего вдоль позвоночника симпатического нерва, с двумя поясничными узлами, и уже на операционном столе нога больного теплеет. Часто уже на другой день она становится нормально розовой, синюшность пропадает, и вся болезнь окончится тем, что омертвелые кусочки ткани сойдут, как усохшая корочка. Такие же операции мы делаем в тяжелых случаях гипертонии и при трофических язвах, не заживающих годами. Многое еще не разрешено. Надо работать да работать! Когда я представляю будущее нейрохирургии, меня охватывает страх, что я так ничтожно мало сделал. Тогда мне и во сне и наяву мерещатся операционные московского института, богато оборудованные кабинеты и лаборатории, научные конференции, общение с выдающимися нейрохирургами. И я с пристрастием спрашиваю себя: все ли ты успел сделать здесь, что мог?
– Но ты так много работаешь!
– Много? Да. Только в другой области. Общая хирургия – она, конечно, дает огромное удовлетворение. Тут сразу видишь реальный результат своего труда. Взять любое: операцию аппендицита, язвы желудка, тяжелую травму. Человек выздоравливает на твоих глазах. Только здесь уже все известно, пути проложены, выработан подход в каждом случае, а там труднейшие поиски, постоянное беспокойство, но зато есть научная перспектива. Работы для нейрохирурга много и в местной практике. Но я хочу целиком отдаться нейрохирургии и чувствую себя теперь, как пружина, завинченная до отказа. – Иван Иванович остановился перед Ольгой и посмотрел сверху на ее приподнятое, очень серьезное лицо.
– О чем ты задумалась, дорогая?
– Я слышала от одной очень развитой женщины, что человек в сорок лет уже не имеет перспективы духовного роста.
– Ну, это сказала развитая дура, вроде Павы Романовны!
– Погоди… Может быть, она права, имея в виду людей, ничем не проявивших себя до этого возраста. Но я смотрела на тебя и думала: ты в тридцать шесть лет живешь и чувствуешь моложе, чем я в двадцать восемь!
– Мне некогда стареть, дорогая! Именно перспектива роста (а она огромна) не дает ни остановиться, ни распускаться. Я занят и горю, живу своей занятостью. Оборвись она – оборвется лучшая половина моей жизни: я уже не человек тогда. А сейчас я счастлив, счастлив вдвойне: тобой и работой.
– А у меня никакой перспективы, хотя я еще совсем молодая.
– Но ты учишься! – возразил Иван Иванович, показывая на ее книги и тетради, сложенные горкой в углу дивана.
– Учусь, конечно. Однако после того, как я ушла с настоящей учебы – а ведь была уже на третьем курсе, – я начинаю все сначала в четвертый раз, и у меня уже нет убежденности, что я на правильном пути. Заполнит ли мою жизнь толкование иностранной грамматики? Конечно, это тоже нужное дело, и я буду стараться выполнять его хорошо. Только когда я представляю, как я сама обеднила себя, мне делается очень грустно.
– Значит, тебя привлекает что-то новое? – не сдержав невольной улыбки, спросил Иван Иванович.
– Почему ты говоришь со мной, как с глупенькой девочкой? – резко перебила Ольга, обиженная его тоном. – Ведь речь идет не о выборе дамских побрякушек, а о работе, которая у тебя, например, так счастливо сложилась, что составляет лучшую половину твоей жизни. Я не такая способная и умная, как ты, но в меру своих сил и я хотела бы иметь хоть немножко такой счастливой занятости.
– Кто же тебе мешает? – уже серьезно спросил Иван Иванович.
– Никто не мешает, но никто и не помог. Зачем я потеряла год в медицинском институте, зачем меня потащило на курсы бухгалтеров?.. Просто кидалась очертя голову куда попало. Конечно, выучиться всему можно, но если это не интересует, то лучше не надо. – Тут Ольга сообразила, что говорит словами Таврова, но, не в силах остановиться, закончила так же: – Работу не обманешь: ведь это выбор на всю жизнь.








