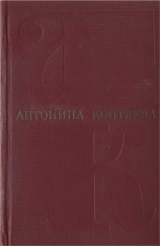
Текст книги "Собрание сочинений. Том 2. Иван Иванович"
Автор книги: Антонина Коптяева
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 27 страниц)
– Весной свои фельдшера приедут, – напомнил Никита Бурцев, легко шагая впереди Ивана Ивановича.
Он чувствовал себя счастливым, увидев опять родные горы, и его широкоскулое лицо с твердым подбородком и узкими глазами цвело радостью. Казалось, тесно смотреть на мир в эти щелки, но так зорко сверкали в них черные зрачки, окруженные черным же сиянием, что можно было не сомневаться: от взгляда Никиты никакая мелочь не ускользнет.
– Мы в поселке больницу к лету достроим. На тридцать коек, – ответила Марфа на его слова. – Пожалуйста, дорогие товарищи фельдшера!
– Все не привыкну к мысли, что стану фельдшером. – Никита оглянулся на Ивана Ивановича. – Хочется поскорее приступить к работе в наслегах: лечить, по району ездить… Край у нас особенный. На севере тундра, белые медведи, сиянье в полярную ночь, а там теплее, чем здесь. Это потому, что горные хребты отделяют внутреннюю Якутию от морей, от морских ветров. Наша Верхоянская впадина – она тут, рядом, – замкнута со всех сторон, и там Полюс холода… Самое холодное место на земле. Зимой ночь тянется полтора месяца. Снегу выпадает мало, а морозы бывают до семидесяти градусов. Но на Учахане, однако, не теплее.
– Зато летом жарко! – сказала Марфа.
Облачка дыма стоят почти неподвижно над долиной, покрытой островами белого от инея леса. Кочевые чумы темнеют повсюду, перемежаясь с палатками.
Низкое солнце в радужном круге смотрит сквозь дымку тумана. Якут выходит из застывшего леса на широких коротких лыжах. Коренастая фигура его в островерхой шапке и неуклюжем, но теплом «соне» с буфами на плечах и фалдами на спине резко выделяется над снегами. Якут кличет своего верхового оленя, и его негромкий голос отдается эхом далеко в каменных ущельях.
Лед на реке весь покрыт пышной и хрупкой изморозью. Тускло блестит под паром черная вода в полыньях. Иван Иванович поднимается на другой берег, осматривается: неужели это к нему собралось столько народу!
Многие приехали издалека: слух о докторе разнесен по тайге песнями и капсе. Слепые могут увидеть; рука, изуродованная зверем, целые годы висевшая точно плеть, снова становится гибкой и цепкой. И лечат даром. Люди верили в чудо исцеления: жизнь открывала столько чудес повседневно, но насчет даровщины сомневались – гнали с собой лишних лошадей и оленей, прихватывали меха: кто лису, кто отменных соболей.
Сейчас они стояли перед ним, чье имя прошумело по всем наслегам. Один вид его богатырской фигуры внушал им уважение и надежду. Мальчишка лет трех, в меховом комбинезоне, но с голым пузом – отстегнутый фартучек-клапан висел у него, точно лисий хвост, – стоял впереди, бойко тараща яркие черные глазенки. Якутский ножик-кинжал висел на пояске.
– Зачем? – смеясь спросил Иван Иванович, пробуя на палец острое лезвие.
– Мясо кушает, – пояснила Марфа.
И все весело повалили к чуму.
– Ну, дагор, чем страдаешь?
С этими словами Иван Иванович подошел к широкоплечему якуту, сидевшему возле очага, поджав под себя ноги. Светлая лента дыма прозрачно вилась от жаркого костерчика к просвету вверху, где сошлись неплотной щепотью жерди чума.
Доктор пытливо всмотрелся в скуластое, позолоченное отблесками огня лицо человека, неподвижного, как буддийский божок.
– Никита, спроси у него, на что он жалуется?
– Ты сам должен знать, – ответил якут, и люди, столпившиеся у входа в чум, не одобряя такой выходки, тихо зашумели.
– Я не шаман и не хвастаюсь, что все знаю. Вижу только: ты нездоров. Шаман, наверно, уже объяснил тебе, какой злой дух влез в твое правое ухо. Что у тебя болит? – Иван Иванович поднес руку к лицу больного справа и сверху; затем он сделал это движение слева. Якут отшатнулся. – Как у тебя зрение? Припадками не страдаешь? Обмороки бывают?
– Он сам должен знать, – тупо и безразлично повторил якут, выслушав перевод Никиты, причем лицо его осталось совершенно неподвижным.
«Плох! Уже равнодушен к своему состоянию». И Иван Иванович обратился с расспросами к брату больного Захару.
Да, Степан действительно несколько раз отлучался на тот свет, страшно пугая всех иногда очень длительными отлучками. Но на остальные вопросы Захар тоже не стал отвечать.
– Ну и пес с тобой! Значит, еще мало вы с ним намучились, – вспылил Иван Иванович, раздраженный спесивостью по виду бойкого и развитого родственника, и резко отвернулся.
– Постой, постой! – неожиданно завопил Захар, хватая его за полу дошки. – Может, болезнь-то совсем легкий. Однако, жаловался Степан: голова-то, мол, болит. Видит худо. В ухе шумит. Охотник-то он плохой стал… Семья-то у него большая! Не надо бы с него много брать!
– Чего он наговаривает? – уже с любопытством спросил Иван Иванович.
– Просит не брать дорого за лечение, – сдерживая улыбку, перевел Никита.
– Зачем же ты выслушиваешь всякие глупости! Еще и смеешься! – Иван Иванович снова вспыхнул. – Скажи им, что мы свое жалованье от предприятия получаем. От советской казны! И откуда у них такое мнение?
– Шаманы еще не перевелись в наслегах, – виновато пояснила Марфа, – хоть скрытно, а действуют.
36
В тот день на руднике прииска Октябрьского произошли два значительных события: удачно закончилась проведенная по-ударному сбойка штреков и досрочно была выполнена месячная программа по золоту за февраль.
Логунов, присутствовавший на торжестве почетным гостем, крепко расцеловал запыленное каменной мукой лицо Терентия Пятиволоса, лучшего забойщика рудника, известного по всему краю. Пятиволос вел самые трудные забои на новых разработках и ему предоставили последний удар на сбойке, поэтому он первый шагнул в проделанное им окно во встречный коридор-штрек.
Держа его за плечи, Логунов обратился к гостям, шахтерам и сменным мастерам:
– Задание по подготовительным работам рудник тоже выполнил до срока и теперь по всем показателям опять вышел на ведущее место. Но темпов сдавать не надо. От жаркого труда на сердце тепло. Тот, кто трудится по-боевому, знает…
– Знаем! – подтвердил Пятиволос, взглянув на Мартемьянова и Ольгу, пришедшую на сбойку в качестве работника редакции. – Создаем в стране богатство и сами не обижены. Я, к примеру, зарабатываю не меньше трех тысяч в месяц. – Озорная усмешка тронула его скуластое лицо, выказав щербатину в крепких зубах, – ни в чем себе не отказываю…
– Что же зубы-то до сей поры не вставил? – весело спросил электромонтер, стоявший с переносной лампой и мотком проволоки через плечо.
– Это успеется, не в зубах дело, – солидно ответил Пятиволос. – Дело в общем жизненном уровне. Вот ездили мы нынче в Укамчан на слет стахановцев. Приехал я в гостиницу, номер приготовлен, все как полагается, а простыни на постели смятые. Вызвал коридорную: давай, мол, другое белье. «Нет, отвечает, другого». Я, конечно, в амбицию. Почему подобное отношение? Я Пятиволос!.. «Будь ты, говорит, хоть Шестиволос – нет сейчас белья!» Вот вам смешно!.. – Забойщик помолчал, пережидая смех. – Мне тогда тоже смешно стало. И не потому, что эта язвительная бабенка меня отбрила, а потому, что требования у меня такие появились. Ведь я до приезда на Каменушку на простынях-то сроду не спал. А отец мой, потомственный шахтер-угольщик, до революции даже исподнего белья не нашивал. Вот вам наглядный пример жизненного уровня! Может, у нас и не хватает еще чего… Многого, пожалуй, не хватает! Так ведь не один миллион людей, а все наши двести миллионов к хорошей жизни потянулись. Или я не к месту говорю?.. – спохватился Пятиволос, обращаясь к Логунову, который слушал его с улыбкой.
Логунов не стремился вносить строгую официальность в проводимые собрания. Пусть каждый говорит, как умеет, без шпаргалки, поэтому смех, острое словцо и прямая товарищеская критика, оживлявшие выступления рабочих, радовали его. И сейчас Логунов ответил весело:
– Что идет от чистой души, всегда к месту.
– Пятиволос дело свое постиг в совершенстве, – отчего-то озабоченно сказал Мартемьянов, провожая Ольгу к подъемнику, и в голосе его прозвучала сдержанная отцовская гордость. – Любой забой ему можно поручить – оправдает доверие. Отсюда его качества. Одно никак не искоренит – озорничать любит. Теперь в партию вступил, вроде осознал ответственность: перестал над людьми подшучивать. Ан сегодня опять какую штуку отлил! Гости собрались, торжество, а он балагурством занялся. Я рассчитывал, он серьезную речь скажет.
– Но ведь хорошо получилось! За шуткой у него большой смысл был, и это до всех дошло. Пятиволос вас нигде не подведет.
– И остальные тоже. У нас народ дружный, – уверенно сказал Мартемьянов.
Выйдя из штольни рудника, Ольга зажмурилась, до того ярок показался ей день, голубевший над белой землей. После больших снегопадов установился лютый мороз, и снова круги радужного сияния опоясывали солнце. Ольга почти бежала по звонкой дороге, прикладывая к лицу то одну, то другую руку в меховой перчатке. Только вблизи флотационной фабрики замедлила шаги. Ей нужно было заглянуть и туда. Уже несколько дней она откладывала это деловое посещение, робея перед неизбежной встречей с Тавровым.
Ее отношение к нему не изменилось с тех пор, как они ночью виделись в больнице, но что-то еще дозревало в ее душе. Словно она проверяла себя, прежде чем сделать последний, решительный шаг.
Тавров был в своей конторке: разговаривал с работниками приискового управления.
«Надо было прежде встретиться дома, хотя по телефону поговорить!..» – думала Ольга, с трудом, точно во сне, проходя расстояние от двери до письменного стола. Тавров продолжал сидеть там, где застиг его приход Ольги. Он даже не поднялся навстречу, но лицо его, обращенное к ней, все больше бледнело.
– Я пришла по заданию областной газеты, – сказала она, посмотрела на его собеседников, кивнула им и снова повернулась к Таврову: – Меня попросили написать о том, как вы увеличили производственные возможности фабрики, ведь рудник теперь намного повысит добычу руды… Мне нужно посмотреть… ознакомиться с тем, что вы сделали здесь по реконструкции…
Наконец-то до него дошли слова Ольги.
– Вы подождите минуточку, мы сейчас закончим разговор, а потом я проведу вас по своим владениям, – все так же прикованный к ней взглядом, без улыбки сказал он.
Ольга села на простую, чистую скамью возле окна и, достав блокнот, как будто задумалась, но на самом деле отмечала каждую мелочь обстановки, каждое движение Таврова. Это была потребность увидеть любимого человека в труде. Он так хорошо говорил о нем и должен был доказать это своей собственной практикой. При всем увлечении Тавровым Ольга заметила бы несоответствие, и тем больнее разочаровало бы оно ее.
Она знала: фабрика работает прекрасно, Тавров слывет знающим инженером, его уважают, но ей еще не приходилось видеть его на работе. И она слушала и присматривалась настороженно, сразу отметив его искренность и простоту в общении с коллегами. Когда он в азарте делового спора точно забыл о ее присутствии, это неожиданно порадовало Ольгу. Открытое лицо его особенно оживилось, когда он страстно, но с умным упрямством отстаивал свою точку зрения. Речь шла о вещах, мало понятных Ольге, но она видела, что Тавров одерживал верх: инженеры из управления начинали соглашаться с ним. Но, неохотно отступая, они оставались доброжелательно настроенными. Наверно, он нравился им так же, как озорноватый Пятиволос нравился Мартемьянову и Ольге… Это была симпатия товарищей по труду.
– Теперь мы можем заняться вашими вопросами, простите, что задержал! – сказал Тавров, подходя к Ольге с сияющим и разгоряченным лицом.
Он даже не пытался скрыть радость, и, хотя Ольга поняла, что в этот момент он забыл и о делах, и о споре, недавно всецело захватившем его, она не только извинила его, но почувствовала себя счастливой.
Они вошли вдвоем через другую, внутреннюю дверь в здание фабричного цеха.
Тавров двинулся было вперед, но сразу остановился и, взяв Ольгу под руку, напрягая голос – в отделении грохотало несколько громоздких машин, – спросил:
– Ты и ко мне пришла?
– Да! Я уж не могу без тебя…
37
Логунов оглянулся на стук двери и встал. Варвара, нагруженная свертками, вбежала в комнату, положила принесенное на стол и, не сбрасывая дошки и шапочки, стала растирать руки.
– Вот мороз так мороз! Вот и привычка! – приговаривала она жалобно.
– Давай их сюда, в холодную воду! – Елена Денисовна взялась за ковшик.
– Ничего, пройдет… – И Варвара, помахивая красными руками, дуя на них, подошла к Логунову. – Здравствуйте, Платон Артемович!
– День добрый! – ответил он, улыбаясь.
Варя отвела взгляд.
– Не для всех он добрый.
– О чем ты? – удивился Логунов, заглядывая ей в лицо.
– Разве вы не знаете? Она переезжает на другую квартиру.
– Кто? Неужели…
– Ну кто же еще! Конечно, Ольга Павловна переезжает к Таврову.
– Да что ты, Варя! – Елена Денисовна испуганно обернулась; миска, поставленная на край стола, упала, выплеснув воду, и со звоном покатилась к плите. – Как это может быть? – вскричала женщина, растерянно глядя на убегавшую миску.
– Ей дали комнату по просьбе редакции, но Тавров, конечно, уговорил ее переехать к нему. И правда, кого бы они обманули отдельной комнатой! Стоит посмотреть на них, когда они вместе… – В голосе Варвары прозвучала невольная зависть. – Сейчас я встретила повозку с чемоданами Ольги, – с досадой закончила девушка, сердясь на себя за чувство смутного удовлетворения.
– Куда же их повезли? – ошалело спросил Хижняк.
Елена Денисовна неожиданно вспылила:
– Куда? На кудыкину гору! Бедный Иван Иванович! Тяжко ему будет, когда узнает…
Варвара сразу взволновалась по-настоящему:
– Правда! Как он работать станет? Поехал на большое дело, и вдруг такой удар в спину.
– Я сейчас пойду к ней, поговорю, – сказал Хижняк.
– Не чуди ты, пожалуйста! – осадила его Елена Денисовна. – Тоже адвокат нашелся! Иван Иванович сам, наверно, неспроста уехал: ведь все последние месяцы на них обоих лица не было.
– Да, он, конечно, неспроста уехал, – угрюмо подтвердил Логунов. – Он уже подготовлен к тому, что случилось, хотя все еще не понимает, почему ему пришлось пострадать…
– Почему? – быстро спросила Варвара. – Разве вы оправдываете Ольгу Павловну?
– Очень сожалею о ее уходе; разумом готов осудить, но рука не поднимается бросить камень.
– Пойдемте, Елена Денисовна, посмотрим, что там делается! – попросила Варвара, вертя на пальце ключ от квартиры Ивана Ивановича.
Дорожка к крыльцу расчищалась мальчишками Хижняками по-прежнему, но на ступенях уже лежал острыми грядками нетронутый снежок, наметенный ветром. С сильно бьющимся сердцем Варя шагнула через порог. В комнатах не пахло жилым, хотя в спальне еще держался слабый запах духов Ольги. Все на старом месте, и всюду страшная пустота. Даже свет какой-то тусклый… Варвара посмотрела на окна. Стекла их сплошь заледенели, обросли инеем. Варвара провела рукой по холодному одеялу, по мертвой сыроватой белизне подушки.
– Бедный Иван Иванович!
И все-таки в глубине души девушка была не слишком опечалена уходом Ольги. Ей вспомнился их последний разговор в этих комнатах. Она действительно жалела ее тогда.
«Разве не наказала Ольга сама себя, порвав с замечательным Иваном Ивановичем ради совсем не интересного Таврова? Кто же виноват, раз она такая слепая?» – думала Варвара.
Елена Денисовна чем-то двигала в кухне, звякала посудой. Каждый звук особенно громко раздавался в покинутой квартире.
– Я буду здесь протапливать ежедневно, – заявила Варвара, подышала открытым ртом и, следя за паром своего дыхания, добавила: – Надо, чтобы вещи были теплые, а то как войдет сюда Иван Иванович, когда вернется? Тут так скучно и нехорошо!
Девушка быстро сбегала к поленнице, принесла охапку дров и растопила плиту. Потом она затопила вторую печь, в спальне, и снова начала ходить по комнатам, нарочно топая мягкими унтиками, чтобы нарушить тишину в доме.
Она потрогала папки с бумагами, которые лежали на письменном столе в кабинете. Целая кипа газет… Книги… На самом видном месте лежал конверт. На голубоватой его бумаге стремительными узкими и неровными буквами выведено: «И. И. Аржанову». Внизу черта, а под нею: «От Ольги Павловны».
Варя повертела запечатанный конверт в руках, даже понюхала и осторожно положила его на прежнее место. От плиты, ворчавшей и стрелявшей на кухне, уже потянуло теплом, и мохнатый иней на стеклах окна потемнел, посветлел – начал таять. Прислушиваясь к звуку капель, падавших с подоконника и разлетавшихся в брызги на полу, Варвара перебирала книги на полках, возле дивана, поглядывая на письмо, которое притягивало ее, как магнит.
«И. И. Аржанову». Варвара написала бы: дорогому Ивану Ивановичу или просто Ивану Ивановичу. Она вообще никогда не расставалась бы с ним ни дома, ни на работе. Особенно задевало и оскорбляло Варвару это «И. И.». Ей хотелось взять письмо Ольги и отнести его в печку, но она понимала невозможность подобного поступка и скрепя сердце листала первую попавшуюся книгу, рассеянно скользя взглядом по страницам. Это был Пушкин. Якутские ребятишки учили его стихи в школах, учила их и Варвара… Здесь, в маленькой домашней библиотечке, у нее тоже есть свой небольшой сборничек… Девушка снова раскрыла книгу.
Слух обо мне пройдет по всей Руси великой,
И назовет меня всяк сущий в ней язык,
И гордый внук славян, и финн, и ныне дикой
Тунгус, и друг степей калмык.
Варвара посмотрела на обложку, потом на знакомый портрет Пушкина. Большеглазый кудрявый человек глядел на нее задумчиво.
– По ту сторону Урала нет тунгусов! – сказала ему Варвара. – Разве ты бывал в Сибири? – Она помнила имена ссыльных, живших в Якутской области, но среди них не значилось имени Пушкина, хотя Варвара хорошо знала, что цари тоже не жаловали его и ссылали куда-то.
Ссыльные, которые прошли по Якутии свой великий и скорбный путь, принесли на север большие идеи, культуру, правду, выстраданную ими.
– Среди нашего народа жили такие люди, как декабристы, Чернышевский, Серго Орджоникидзе. Они очень много дали нам, – сказала Варвара, глядя на портрет. – А дикие тунгусы теперь уже не дикие: учатся в школах и знают тебя.
Полистав книгу, девушка нашла «Евгения Онегина». Еще семиклассницей она познакомилась с этим романом, но запомнила его смутно; многое не поняла.
Теперь все оказалось неожиданно таким близким, как будто сама Варвара жила в русской деревне и переживала чувства Татьяны. Правда, она не была одинокой мечтательницей, но тоже любила звезды, бледнеющие перед зарей, и книги, и рассказы старух у камелька в юрте, и так же страдала от неразделенной любви.
Закрыв глаза, чтобы лучше запомнить, она повторяла отдельные стихи:
Другой!.. – Нет, никому на свете
Не отдала бы сердца я!
До чего верно! Почему же Онегин отказался от такой замечательной девушки? Ведь он был свободен!
Варвара забралась поглубже на диван, устроила книгу на коленях, опустив на сжатый кулачок нахмуренное лицо.
Так дороги ей страдания Татьяны, что она уже начинала надеяться на раскаяние Онегина; может быть, еще совершит что-нибудь хорошее и сам полюбит Татьяну?
Когда Онегин убил Ленского, глаза Варвары затуманились и несколько крупных слез упало на книгу. Она осторожно сняла их со страницы кончиками пальцев, – тут были слова, от которых у нее перехватило дыхание:
Недвижим он лежал, и странен
Был томный мир его чела.
Герой от нечего делать превратился в убийцу. Потом так же лежал смертельно раненный на дуэли Пушкин. И его сердце безвременно остановилось…
Теперь, как в доме опустелом,
Все в нем и тихо, и темно;
Замолкло навсегда оно.
Закрыты ставни, окны мелом
Забелены. Хозяйки нет.
А где, бог весть. Пропал и след.
Варвара посмотрела на окно над рабочим столом Ивана Ивановича, слепое, забеленное морозом доверху…
А где, бог весть. Пропал и след.
Как можно было предугадать свою смерть и найти такой прямой путь к чувствам потомков? Даже сердцу стало больно от слов поэта, но, прижав руку к груди, Варя продолжала читать с увлечением. Вот Татьяна уже и замужем. Вышла все-таки за другого. Новая встреча ее с Онегиным тоже очень взволновала молодую читательницу.
«Хорошо, что Ларина не унизила себя и отклонила его запоздалые ухаживания. Ишь как забегал, когда увидел ее богатой и знатной дамой!» – сердито подумала Варя. – Нелегко сознавать ничтожество человека, которого любишь! Татьяна сознавала это. Какую отповедь она ему дала! Жалкий герой был у нее!
38
В приемный покой пациенты входят на цыпочках, бесшумно сваливают на скамью у входа меховые одежды (на гвозди, вбитые в стену, вешают только шапки) и, прихорашиваясь, осторожно заглядывают в дверь операционной, закрытую брезентовой драпировкой и простыней изнутри. Если идет операция, любопытные смотрят в щелочку. Вид высокого доктора во всем белом вызывает у них робкое почтение. Инструмент у него мелкий, блестящий… Вот бы подержать в руках такой ножичек! Но когда доктор Иван проводит этим ножичком по коже человека, распростертого перед ним на столе, а потом углубляет разрез, зажимая щипчиками жилы, брызгающие кровью, – прирожденный охотник пугливо жмурится и тихонько отходит от дверей. Человеческая кровь – страшно! Представление о ней связано со смертью. Вдруг больной превратится в покойника?.. Неизвестно, куда кинется его бесприютная душа. Лучше быть подальше.
Но лечиться-то надо, однако! Зачем умирать прежде времени? Шаман лечит по-своему. Иван с Каменушки – по-своему. Этот починяет людей, как старую одежду: где отрежет кусок, где поставит заплату из живой кожи. Иногда он вспорет человеку прореху на животе. Попробуй получить такую рану в тайге на охоте – умрешь сразу! А он вырежет то, что болело, и иголкой, точно искусная швея, зашьет дыру, сделанную его умным ножом.
Якут Никита и местный фельдшер старик Василий – оба тоже в белом – помогают. Лицо Никиты спокойно и важно, когда он кладет какую-то белую покрышку на рот и нос больного, а потом капает на нее из пузырька… Сладко, остро, чуждо запахнет в комнате, и у здорового человека закружится голова. Больной дышит громко, что-то бормочет, но постепенно стихает.
Черные глаза блестят в щели между простыней и дверными косяками… Во взглядах любопытство, страх, благоговение. Шепот, словно лесной шелест:
– Ай, Иван!
– Ай, Никита!
– Ай, Василий! Хороший друг!
Человек на столе спит удивительным сном. Видно, что он дышит, иногда начинает храпеть, но боль уже не доходит до уснувшей души. Его трогают, прямо к коже приметывают белые платочки и полотенца, режут, колют иголкой, сшивают свежую рану нитками, похожими на оленьи жилы: он спит себе. Другому совсем отрежут черно-синюю, сгнившую заживо ногу, отпилят кость… Он спит…
Стремление принести пользу общему делу превозмогает страх. Лесные жители сами напрашиваются помогать, лишь бы их не выгоняли из приемной: приносят дрова и воду, топят печи, доставляют зайчатину, куропаток, рябчиков, мясо рыси, нежное, как телятина, свежую рыбу. Нет отбоя от добровольных санитаров и уборщиц.
Девушка-эвенка с дальнего кочевья, сроду не державшая в руках мокрой тряпки, моет пол под присмотром старухи сторожихи. Она сопит от усердия, неумело, но упорно протирая половицы: плещет грязной водой на свои босые, словно выточенные, ножки. Длинные косы мешают ей, то и дело сваливаются на пол, и девушка энергично встряхивает головой, закидывая их на спину.
– Маша! Подбери косы! – строго говорит ей Иван Иванович, проходя между рядами коек, тесно поставленных в палате, под которую временно освободили еще один класс.
Девушка испуганно выпрямляется, тоненькая, стройная, очень похожая на Варвару.
– Пол надо мыть тряпкой, а не волосами, – хмуро поясняет доктор.
Он подходит к ней, сам складывает венцом ее угольно-черные тяжелые волосы, заплетенные в несколько кос, и к сторожихе:
– Матрена, дай марлевую косынку! Платок. Повязывай, – командует он по-якутски, уже улыбаясь. – Вот так! А косы, красавица, тоже мыть надо.
Таких постоянных помощниц, как Маша, у него много. Особенно он отличает трех. Это девушки из учаханской семилетки, смелые, как дети. Любая из них убьет, освежует и разделает по косточкам оленя, но человеческая кровь тоже страшит их. Однако, присутствуя на операции, они так сочувствуют и всем интересуются, что забывают бояться. На досуге Никита, а то и сам Иван Иванович объясняют им назначение и название инструментов, рассказывают о действии лекарств. Девушки понятливы и смышлены. Все услышанное они по очереди записывают в одну школьную тетрадку. Две из них помогают во время операций.
– Обрастаем штатом, Никита, хотя сметы у нас с тобой не составлено, да и денег на жалованье тоже нет, – шутливо сказал Иван Иванович, закончив рабочий день.
Никита только что вернулся из районного Совета, куда ходил за почтой.
– Газеты принес. Самые последние, – говорит он. – Отпечатаны месяц назад. Тогда англичане опять бомбили заводы в Германии. За это время, пока шла газета, война могла бы кончиться. Хорошо, что у нас есть радио.
– С Каменушки ничего не слышно? – спросил Иван Иванович.
– Почта проехала, а писем нет. – Никита сам ежедневно перебирал все до листочка на столе почтальона, в чаянии найти затерявшееся письмо для своего доктора. – Только газеты! В Москве с пятнадцатого февраля проходила восемнадцатая партийная конференция, там о медицине говорилось. В течение года добавится в Советском Союзе двадцать семь тысяч новых коек в городских и сельских больницах и свыше пятидесяти тысяч в постоянных детских яслях. Пока я шел обратно, то подсчитал: если по сто коек – значит, надо построить двести семьдесят новых больниц и пятьсот яслей. Здорово! До революции у нас в Якутии не было ни одной такой больницы. А как вы думаете, Иван Иванович, наш медицинский пункт на Учахане тоже здесь предусмотрен?
– Здесь, брат Никита, все предусмотрено. Но почему же мне письма нет, как ты думаешь?
– Не знаю.
– А ты получил?
– Нет. Ребятам нашим, курсантам, некогда, наверно. Им самим интересно, как мы тут…
– И Хижняк молчит! – снова вырвалось у Ивана Ивановича.
– Да и Варвара. Значит, все хорошо, раз молчат.
– Может быть, так плохо, что трудно написать…
– Отчего же плохо? Не должно быть…
– Что капсе сообщает?
– Капсе нет. Каюры проезжают стороной. Они не знают домашних новостей на Каменушке.
– Ты думаешь, там есть домашние новости?
– Я просто так говорю…
39
Хижняк с особенным старанием обслуживал тяжелых послеоперационных больных.
Имея большой опыт, он мог бы руководить пунктом на одном из отдаленных приисков или работать вместо разъездного врача помощи на дому, но упорно держался за скромную должность больничного фельдшера.
– Люблю чувствовать себя в коллективе! – сказал он Сергутову, который зашел к нему уплатить членские взносы в профсоюз. – Ну что я поеду на отдельный пункт? Не дозволяет мне того ни характер, ни семейное положение, а главное: ведь теперь на эти пункты направляют людей с высшим образованием – дипломированных врачей, – рассудительно говорил он, роясь в своих бумагах. – Выживают фельдшеров врачи… А в больнице нас сестры выживают. Опытная сестра делает то же, что и я: беспрекословно выполняет назначения докторов.
– Выходит, конченая ваша профессия? – пошутил Сергутов.
– Пока не конченая. Сейчас фельдшер как средний медицинский персонал еще в ходу. Но перспективы нету.
– Почему же Иван Иванович два года готовил целую ораву фельдшеров? – не без лукавинки спросил Сергутов.
Хижняк в раздумье почесал мясистую переносицу.
– Во-первых, здесь местность особенная: пространства громадные, а поселения мелкие – тут врачей не наберешься, значит, на ближнее время наши фельдшера очень хорошо пригодятся; во-вторых, это все молодежь. Если они войдут по-настоящему в работу – а Иван Иванович, я полагаю, сумел им кое-что внушить, – тогда они не захотят отставать, а двинут на усовершенствование. Никита Бурцев ужа запасается литературой по заочному курсу. Полный список у меня взял…
– Значит, вы тоже учитесь?
– Третий год. В Приморском мединституте…
– А молчал! Молчал ведь, рыжий! Вот хитрый хохол!
Хижняк усмехался, довольный произведенным впечатлением.
– Я не хитрый хохол, а упрямый: ежели чего задумаю, меня уж не своротишь в сторону! За непочтение к старшим даю вам нагрузку – выяснить сегодня в управлении, как там насчет курортной путевки Валерьяну Валентиновичу.
– Есть выяснить, товарищ председатель! – И шутя и грустно Сергутов сказал: – Рассыпается все наше северное отделение ВИЭМ. Сегодня Гусев говорил, что Иван Иванович не вернется теперь сюда, а проедет прямо через Якутск на материк.
– Это Иван Иванович-то не вернется! Плохо его знает Гусев! Разве он дезертир какой?! Партийный человек, с учета не снялся – и уедет!.. Ему, я думаю, партийность собственной головы дороже.
– Вы забываете про его семейную историю!
– Еще новое дело! Разве он подлость какую выкинул по отношению к жене? Если Ольга Павловна ушла, так это на ее совести и лежать будет. Меня другое заботит, наехала, наверно, в Учахан масса больных, и не управится Иван Иванович до распутицы. На работу он азартный, застрянет там до лета, а у нас здесь свои больные, за которых Гусев не возьмется. Двое с Колымских приисков приехали, бухгалтер из Охотска вторую неделю живет…
– От путевки на курорт я отказываюсь, – сказал через день невропатолог Валерьян Валентинович. – Я получил телеграмму – вызов из Якутска! Мой учитель и старший коллега принял там заведование городской больницей. Срочно еду туда и оформляюсь на новую работу.
– Вы не мимо Учахана поедете? – осведомился Хижняк, только что освободившийся от круглосуточного дежурства и заглянувший в кабинет Гусева.
– Об этом я не спросил каюров. Можно, конечно, и через Учахан, так даже будет ближе, но дорога там – зимник. Сами понимаете… Я тоже хотел бы взглянуть, как поживает наш Иван Иванович. Однако все зависит от каюров.
– Если вы поедете через Учахан, то я перешлю с вами письмецо, которое необходимо передать из рук в руки. От Ольги Павловны, – добавил Хижняк, понижая голос.
Валерьян Валентинович жалобно сморщился:
– Увольте! Я сознаю, конечно, но у меня у самого сердце больное. Шутка ли – сообщить человеку подобное известие!
– Как вам не совестно, – рассердился Хижняк. – В таком случае я превышаю власть и как председатель месткома предлагаю вам передать это письмо. Тем более что вы невропатолог, а тут дело тонкое.
– Я тоже хочу предложить вам одно дело, дорогой Денис Антонович, – сказал Гусев, услышав последние слова фельдшера. – Наш новый разъездной врач еще не освоилась с работой. Может быть, вы съездите вместо нее на прииск Сланцевый, там заболела женщина-счетовод и неважно чувствует себя Алексей Зонов. Помните, тот, которому Иван Иванович делал летом операцию по поводу гангрены.








