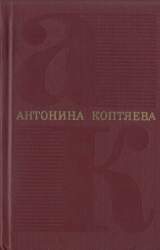
Текст книги "Собрание сочинений. Том 6. На Урале-реке : роман. По следам Ермака : очерк"
Автор книги: Антонина Коптяева
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 36 страниц)
Смущалась, если совали деньги «на чай», замирала, не решаясь резко одернуть, когда брали за подбородок, нагло рассматривая разгоревшееся румянцем лицо: ведь не шалопаи уличные, а «клиенты», «подписчики», «авторы», нужные для газеты. Гораздо меньше этих любезностей пугал ее бешеный собачий лай, поднимавшийся за дверью после звонка.
Вирка как-то сказала:
– Ты чувствуй себя уверенной, не поддавайся этим хахалям – бей их по рукам. Мы тут хозяева, рабочие. Вот в профсоюз вступать будем. – Но сама задумывалась: – У тебя хоть дома хорошо, а у меня душа изболелась. Кабы не отец!.. Он, вишь ты, тоже за то, чтобы мы где угодно на поденных работали, только не в организации. У всякого свое: твоя мать ухажеров городских боится, а наш изверг не хочет, чтобы у меня защитники нашлись.
Теперь город открывался для Фроси по-новому: появились в ее жизни городская управа, земская управа, клуб социал-демократов, Советы депутатов и другие неслыханные прежде учреждения, а улицы и переулки распахнулись множеством ранее незнакомых дверей.
В дождь и ветер торопливо шагала она по тротуарам, поднималась на этажи, нередко слыша за собой чье-то прилипчивое дыхание, вкрадчивые шаги.
Иногда плакать хотелось от страха, а иной раз лопалось терпение – отчитывала с отчаянной резкостью. Вечерами нарочно убожилась: укутываясь шаленкой, прятала косу, сутулилась, с горькой нежностью думала:
«Ну почему бы вместо этих поганцев Нестора не встретить?»
Пусть бы он брал ее за подбородок или под локоть, обнял бы, как тогда, в первый раз.
Но вместо него остановил однажды Фросю у входа в городскую думу другой человек… Ощутив прикосновение его властной руки, она оглянулась и стушевалась: перед нею стоял епископ Мефодий. Из-под шляпы спадала на плечи львиная грива волос, черное пальто, как ряса, до пят, а в отворотах воротника, напоминавшего большую пелерину, блестел на золотой цепи край наперсного креста.
Прожигая девушку сверкавшими глазами, епископ потрогал за уголок красную косынку на ее плечах, укоризненно покачал головой.
– В ересь большевистскую впадаешь, милая дщерь церкви Христовой! Уж лучше бы зреть тебя в вертепе разврата…
– А вы разве там бываете? – с неожиданно прорвавшейся дерзостью спросила Фрося, оскорбленная его словами.
У Мефодия дыхание перехватило. Он и сам не сказал бы, что больше взволновало его: убийственная прямота вопроса, или близость девушки, столько раз прерывавшей его молитвы и сны, или одна мысль о встрече с нею в том запретном месте, о котором он тоже нечаянно упомянул.
Не оглядываясь по сторонам, епископ потянул косынку, но, ощутив нежную теплоту гладенькой Фросиной шеи, не удержался – грубо сжал плечи девушки.
– Господи, воля твоя! – вспомнив о своем сане, промолвил он и резким движением распахнул тяжелую дверь в нарядный вестибюль, не ожидая услуги от ринувшейся к нему свиты церковников, до этого почтительно медлившей в отдалении. А перепуганная Фрося, не подняв косынки, только крепко прижимая к груди разносную книгу и пачку пакетов, бросилась бежать по улице.
– Хоть бы уж скорей состариться! – с горечью сказала она Вирке во время перерыва, когда они обедали в углу коридора типографии.
Еду приносили из дома. Сегодня по куску пирога с капустой, бутылка чая. Чего еще желать? Но не старости, конечно! Вирка поперхнулась от смеха и долго кашляла, побагровев и весело блестя глазами.
– Ну и дура! – изрекла она, отдышавшись. – Надо же выдумать! Чего хорошего, а состариться успеем.
– Зато жила бы спокойно, а сейчас все пристают… Ведь он мне синяки на плечах сделал… Пальцы у него как железные. Маманька увидит – прибьет.
Вирка опять начала бурно смеяться:
– Твоя маманька на эти синяки молиться будет. Ты теперь вроде святым миром мазана. Брось хныкать. Давай лучше сходим сегодня в электротеатр «Олимп», там кинобоевик «Тайна склепа, или Любовь святыни», а то еще в «Фуроре» идет «Пепелище счастья».
Фрося сразу оживилась. На прошлой неделе в «Аполло» смотрели они с Виркой тоже боевик – «На вершине славы» с участием Мозжухина и чернобровой красавицы Лисенко. Дома за опоздание влетело. Но зато теперь казалось – легче умереть, чем не попасть на любую картину, в которой играют эти артисты.
К вечеру в редакцию пришло известие о том, что воинские части, матросы и толпы вооруженного народа подступили к Таврическому дворцу, где заседал ЦИК Совета депутатов, и потребовали: «Долой Временное правительство и министров-капиталистов!». Демонстранты открыто выражали свою враждебность руководителям ЦИКа, меньшевикам и эсерам, передавшим всю полноту власти Керенскому. Но князь Львов и командующий войсками округа, составив план ликвидации «беспорядков», вызвали из Павловска конную гвардию, артиллерию, казаков и несколько рот измайловцев и семеновцев.
– Вот так бомба для Временного правительства! – подмигивая, сказал девчатам старый вахтер редакции. – Да и для Советов тоже конфуз. Чтой-то они так опрофанились!
35
Все перепуталось в голове Фроси: Мозжухин и Лисенко, мысли о Несторе, епископ Мефодий, объявления газет, которые она читала, ожидая распоряжений в коридоре редакции. А тут еще кронштадтское восстание… Опять для усмирения его в Петроград вызвали казаков. Опять их клянут рабочие… Теперь даже думать нельзя о встрече ее родных с Нестором.
«Чего этим казакам неймется? – чуть не плача, размышляла она. – Что они лезут, куда не надо? Почему рабочие и теперь, когда нет царя, не имеют права выйти на демонстрацию? И надо же было случиться такому несчастью, что полюбила я, глупая, казака! У него даже имя-то неласковое… отдается ровно удар плетью – Нестор. – Но снова пробуждалось у Фроси волнующее, девичье: – Ведь он не просто грамотный, настоящее образование, наверно, получил, мог бы весточку-то прислать…»
Знала теперь Фрося такое здание в Оренбурге, как главный почтамт: относила туда из редакции письма и бандероли. А сегодня заглянула в окошечко «До востребования». Что, если востребовать?..
Строгий старичок с белыми бакенбардами, откинувшись на стуле, вопросительно воззрился на ее запылавшее лицо.
– Мне бы… письмо, – еле слышно пролепетала она. Чиновник молчком протянул узкую ладонь. Фрося, не понимая, озадаченно посмотрела на нее.
– Документ! Паспорт! Па-аспорт! – желчно выкрикнул он, потряхивая ладонью.
– Вы посмотрите, Наследова я… Документ потом принесу. – Вдруг обнадеженная именно этой резкостью, попросила Фрося, хотя паспорта у нее не было.
Рука, изобразив усталость, опустилась, но прелестное лицо девушки расположило и старого чиновника. Он порылся в длинном узком ящичке, перебирая стопку писем, потом полез в другой…
– Вам… нету.
Фрося отошла пристыженная и обиженная, повторяя про себя: «Ну и пусть! Ну и пусть! Значит, не нужна ему. Может, это к лучшему. Вдруг он тоже поехал подавлять кронштадтцев».
* * *
В партийном клубе, куда Фросю послали за статьей Александра Коростелева о событиях 3 и 5 июля в Петрограде, все собрались в самой большой комнате. Накурили так, что из окон дым валил синими волнами – того и гляди, пожарники нагрянут.
Присела на скамью и Фрося.
Петр Алексеевич Кобозев, стиснув в руке свернутую трубкой газету, говорил возмущенно:
– Снова как при царском режиме! Для наведения «порядков» в столице Временное правительство казаков вызвало. Этого и следовало ожидать. Помните, в июне, когда шел Всероссийский съезд Советов, собрался общеказачий съезд? Наши делегаты говорили, что надо избрать истинно народное правительство, поднимали наболевший вопрос о войне. А казаки стремились только закрепить свои сословные права. Вожаки их открыто потребовали создания особой казачьей армии для борьбы с «внутренним врагом». Вот сейчас и началась такая борьба.
«Господи, зачем допускаешь зло? – мысленно взмолилась Фрося. – Одну войну не закончили, другая зачинается! Да с кем? Со своими людьми».
– Корниловы хотят оказачить Россию! А Гучков их подбадривает. – Это голос Заварухина из дымной пелены. – Дескать, казаки выполнят свою государственную роль. Ему мало горя, что они опять пролили рабочую кровь!
– Мы в июне надеялись, что казаки-демократы не пойдут за Гучковым, – сказал Коростелев, отрываясь от статьи, в которой что-то исправлял, примостясь на краю стола. – Но даже фронтовики поддались на красивые слова о защите казачьей вольности. Поэтому так единодушно избрали Дутова председателем своего постоянного совета. Наш «заслуженный» станичник пришелся по сердцу и Каледину и Корнилову. Читали, как генерал Корнилов приветствовал его на казачьем съезде?
– Несмотря на это, отбрасывать огульно все казачество во враждебный лагерь мы не будем, – твердо сказал Кобозев, и у Фроси, охваченной страхом после слов Заварухина и Коростелева, немного отлегло на душе.
– Фронтовиков, конечно, не надо отбрасывать, но и полагаться на них нельзя, – упрямо возразил Коростелев. – С фронта они уходят под впечатлением ужасов войны, озлобленные против золотопогонников, поэтому возвращаются в свои станицы, сочувствуя большевикам. Но дома сразу попадают в казачью среду, где господствуют традиции и сильна власть стариков. Нельзя забывать, что наше оренбургское казачество при своей зажиточности самая подходящая почва для старорежимных идей. Ездили мы с Кичигиным в станицы… Как же! Все стараемся склонить станичников на нашу сторону! Проводили беседы об Апрельских тезисах Ленина. Молодежь еще интересуется политикой, а у старшего поколения разговоры сводятся к одному: сохранить бы землю да свои казачьи привилегии. На большевиков смотрят бирюками. Если произойдет тут заварушка, дай бог, чтобы они нейтралитет сохранили.
– Но молодежь? Ты сам говорил о ней иначе, – напомнил Кобозев.
– И молодежь… Куда она от своих куреней?
– Неверно так рассуждать. В отдельных станицах расслоение в казачьей среде далеко зашло.
– Да там, где лодыри развелись… – сердито отмахнулся Александр, явно раздраженный воспоминаниями о выступлениях у станичников. – Какой от них прок? Есть, конечно, среди фронтовиков по-настоящему сочувствующие нам, но их забивают старики.
– Любишь ты поспорить!..
– Почему бы нет? Если бы мы с тобой, Петр Алексеевич, имели возможность вести в станицах постоянную партийную работу, тогда, глядишь, сколотили бы и там крепкий актив. Но агитаторов у нас раз, два, и обчелся. А у них почти в каждом доме собственный ярый агитатор против Советской власти. Казачество в массе – сословие более реакционное, чем крестьяне-середняки. Даже сравнивать невозможно. Потому я и расстроен. И вообще… Мы стараемся развивать ту линию, что проводилась на Апрельской конференции, а эсеры и меньшевики помогают князю Львову да Керенскому!
– Зато народ разобрался, кто его друзья и кто враги. Насчет казачества надо крепко подумать, шире использовать печать и прямые обращения к фронтовикам. Теперь размежевание сил пойдет быстро. Заявления Милюкова после расстрела демонстрации, что Кронштадт – это измена войскам, – демагогия. Но, наверное, министры прибегнут к террору и арестам.
– Как бы они Ленина не захватили! – встревожился Левашов, сразу после работы вместе с другими рабочими пришедший в клуб узнать новости.
«Даже не переоделись», – отметила про себя Фрося. Но ее гораздо больше, чем их заботы о политике, волновало то, что казаки в Питере убивали рабочих и матросов. Ведь это усложняло ее отношения с Нестором. Теперь она не допускала мысли о том, что Нестор мог уехать туда.
– Я тоже беспокоюсь об Ильиче, – заявил Александр Коростелев, и в голосе его прозвучала необычная мягкость, почти нежность.
– И я думаю об этом, – сказал Кобозев. – Но Владимир Ильич опытный боец. Он не станет рисковать собой и товарищами.
– Минуточку внимания! – Слесарь Константин Котов, отличавшийся военной выправкой, заметной и в рабочей одежде, вышел на середину комнаты, держа в руках широко развернутую газету. – Вот «Воспоминания делегата Всероссийского Совета». Он тут со слезой вспоминает, как вносили на кресле в Таврический дворец освобожденную из заключения эсерку, старушку Брешко-Брешковскую. Керенский тоже кресло поддерживал. – Котов, пряча усмешку под густыми усами и нарочно хмурясь, посмотрел на сникшего Ефима Наследова. – И про торжественную встречу с Плехановым красиво расписано. А что говорится о прибытии Ленина? Слушайте: «Я не ходил его встречать. Мне его проезд через Германию показался подозрительным. Проезд ему могли исхлопотать только те германские социалисты, которые идут на поводу у Вильгельма». Здорово брешут?
Фрося засмотрелась на Константина Назаровича, с трудом вникая в смысл его слов (о ком это он так?) и не заметила, когда к ней успела подсесть коротко стриженная девушка с лихорадочным ярким румянцем на худощавом миловидном лице.
– Откуда ты? – спросила она.
– Рассыльная из газеты «Заря». А вы кто?
– Мария Стрельникова. Я работаю на консервной фабрике, депутат Совета. Сейчас организую школу рабочей молодежи и вообще хочу заниматься вопросами культуры. В народном доме стану работать.
– Счастливая вы – ученая!
– Не очень ученая, но это еще впереди, если останусь жива.
– Почему вы так говорите: «Если останусь жива»? Так только старики загадывают.
– Потому что нам теперь придется воевать у себя дома. Раз начались такие столкновения – значит, не миновать гражданской войны.
Фрося по-детски беззастенчиво рассматривала новую знакомую.
– Вы из «Союза женщин»?
– Нет. Но бываю и у них. То, что они обучают грамоте взрослых женщин, – хорошо. Но с их политазбукой я не согласна. Мы агитируем солдат против бесполезной изнурительной войны, а они организуют в Оренбурге «Женский батальон смерти» по примеру петроградского.
– Вы сами сказали, что нам придется воевать даже здесь, дома.
– То будет другая война, за настоящую народную власть, за государство рабочих и крестьян.
– Вы большевичка?
Стрельникова молча кивнула.
«Может, мне тоже записаться в большевики?» – подумала Фрося и тихонько спросила:
– А среди казаков есть такие… которые в вашей партии? – спросила и сразу спохватилась.
«Почему я говорю: в „вашей партии“? Ведь дядя Андриан, Александр Алексеевич, мои братья, Федор Туранин – все большевики. А отец застеснялся, покраснел, когда Котов говорил про эсерку, которую в кресле несли! Знать, не зря Харитоша попрекает его за этих эсеров!»
– Многие казаки, побывавшие на фронте, поняли, где правда… – уклончиво ответила Стрельникова.
«Нестор не был на фронте», – чуть было не выпалила Фрося, но вовремя прикусила язык, а подумав, сказала:
– Ведь они тоже русские…
– Конечно. И такие же землепашцы, как крестьяне. Поэтому неправильно выделять казачество в какую-то особую категорию. Земли, отобранной у помещиков, хватит на всех.
– Вы не хуже мужчин обо всем можете рассуждать! – наивно позавидовала Фрося.
Стрельникова искоса взглянула на Александра Коростелева, который, положив в конверт исписанные им листы, о чем-то оживленно заговорил с Кобозевым. Он, «этот сухарь», никогда не восхищался ею. Румянец еще ярче заиграл на скулах Марии, и Фросе она ответила неожиданно сердито:
– Вот поваришься в нашем котле… сама поймешь, что к чему.
36
Только что в бело-золотом зале дворца закончилось заседание Временного правительства. Шорохи шагов глохли на мягких коврах, слабо звучали отдельные голоса под высокими потолками парадных покоев Зимнего, рассчитанных на толпы придворных. Исполинские двери открывались всюду почти без усилий, легко, бесшумно.
Полковник Дутов с чувством сожаления и невольного торжества проходил по этим чертогам, куда раньше казаки имели доступ только как телохранители царствующих особ. Да, он сожалел о бесславном конце трехсотлетнего царствования, потому что понимал: вместе с крушением дома Романовых приходит конец и казачьему сословию.
Керенский, не уверенный в прочности своего положения, с одной стороны, стеснялся дружбы с казачеством, с которым были связаны все карательные меры последних десятилетий, с другой – заигрывал с ним. Дутов так же, как Корнилов и Каледин, понимал, что казаки нужны Временному правительству лишь для того, чтобы удержаться у власти, но возможность уклониться от подавления июльского восстания представлялась ему самоубийством казачества.
Особенно близко принимал к сердцу Дутов судьбу своего Оренбургского казачьего войска. Яицкие казаки были вольными людьми даже при Петре Первом, хотя тот, несмотря на их бурные протесты, сделал им перепись, определил службу и жалованье, назначил войскового атамана и отдал всех в ведомство военной коллегии. После новых притеснений от правительственной канцелярии, учрежденной для них при Екатерине, казаки стали прямыми бунтарями и под предводительством Пугачева потрясли все устои государства. Жестоко усмиренные, названные, дабы стереть память о прошлом, уральскими казаками, они в царствование последних Романовых, когда начало развиваться революционное движение, снова получили разные поощрения и превратились в настоящих царских опричников. Революция могла бы уничтожить казачьи войска, отменив окончательно их сословные привилегии, но Временное правительство не осуществило ни одного революционного мероприятия: все оставалось пока на своих местах.
Проходя твердым шагом по залам дворца, полковник Дутов чувствовал себя исторической личностью, ниспосланной для России самим господом богом. От него во многом зависело, сохранится ли казачье сословие, которому он был так горячо предан. Может быть, поэтому коренастый, ниже среднего роста, полковник смотрел на окружающих свысока смелыми, навыкате глазами. И во всей его крупноголовой приземистой фигуре, расширенной внизу пузырями брюк галифе, в густобровом щекастом лице с крупным носом и полногубым ртом, плотно сжатым под коротко подстриженными усами, чувствовалась надменная самоуверенность.
Умея владеть собой, Дутов очень волновался, вступая в сферу политики, когда, будучи командиром 1-го Оренбургского казачьего полка, воевавшего в Румынии, приехал в марте в Петроград делегатом на общеказачий съезд.
«Военный министр Гучков широко пошел навстречу казачеству», – сообщали газеты. «Главнокомандующий генерал Корнилов целый день пробыл на казачьем съезде, и, когда Дутов произнес свою речь, резко и твердо отстаивая самобытность казачества, предсказывая ему огромную роль в направлении русской резолюции в государственное русло, Гучков, Корнилов и вожак донского казачества Каледин горячо приветствовали его».
Это был шумный успех полковника Дутова. Съезд, создав союз всех казачьих войск с временным советом в Петрограде, единогласно избрал его старшим товарищем председателя. И дальновидный Дутов, чувствуя зыбкость почвы под ногами казачьего войска, всю свою энергию бросил на ее укрепление, стараясь войти в верховные дела государственной жизни. Большой демагог, он везде выступал с докладами (ни один съезд в столице, ни один большой митинг не обходился теперь без его речей); имея хорошее образование и владея слогом, писал статьи в любые газеты, которые просили его об этом.
В июне он подготовил съезд всероссийского казачьего круга, обеспечив все – от места заседаний до общежитий, и делегаты, восхищенные практической хваткой полковника и умением выступать с трибуны, избрали его председателем постоянного совета. С деловито-самоуверенным председателем начал заигрывать дипломатический корпус, зорко следивший за событиями в России.
«Дни третьего и пятого июля, когда большевики в первый раз серьезно атаковали Временное правительство, были торжеством казачьей твердости», – писали правые газеты. В эти дни, когда казаки опять стреляли в толпы демонстрантов, Дутов впервые увидел открытое желание Керенского опереться на его руку.
37
Дутов вышел из автомобиля у общежития совета, где он жил вместе со служащими своей канцелярии, как раньше в походах – наравне с казаками. Рядом раздался пронзительно звонкий голос газетчика:
– Исчезновение Ленина и Зиновьева! Сообщение по России: самая крупная политическая новость – исчезновение Ленина и Зиновьева!
У Дутова радостно екнуло сердце.
Адъютант, расторопный молодой казак, повинуясь движению бровей полковника, бросился за газетой.
«Странно: редакциям известно, а во дворце промолчали!» Эта мысль усилила радостную тревогу Дутова. Он слышал речи Ленина на многолюдных петроградских митингах, сразу почувствовал силу воздействия, исходившую от этого человека с необычно большим, светлым лбом и доброй улыбкой, и сразу возненавидел его, увидев в нем непримиримого врага Ленин говорил с неотразимой логикой, убежденно страстно, но, чем больше подчинял аудиторию, тем яростнее ненавидел его Дутов.
– Таких надо немедля убивать, – сказал он Керенскому, когда тот спросил его однажды, какое впечатление производит на него Ульянов-Ленин.
– Да, убивать, и немедля! – опять пробормотал Дутов, беря газету из рук адъютанта.
У себя в комнате он так и впился в газетные строки, не снимая перчаток.
В сообщении говорилось: «Самой крупной политической новостью сегодняшней ночи является внезапное исчезновение из Петрограда Ленина, Зиновьева и всей большевистской руководящей компании. В связи с получением исключительной важности сведений руководство исполкома Совета рабочих и солдатских депутатов и крупнейшие социалистические партии решили пригласить Ленина и Зиновьева на совещание. Но, несмотря на все принятые меры со стороны политических деятелей и властей, найти их в Петрограде не удалось, – они скрылись».
– A-а, ч-черт! – Дутов зло отбросил газету. – Упустили! Надо было сразу думать… А теперь ищи-свищи! Вот же арестован какой-то присяжный поверенный – большевик Козловский, а самого главного – «Ленина – упустили. Растяпы!»
Затем, все еще не перекипев, он бегло просмотрел заметку о прибывшем из действующей армии в полном боевом вооружении Митавском гусарском полке. Командир митавских гусар сказал корреспонденту: «Полк примет меры, чтобы расплодившиеся здесь гнусные, подлые изменники не могли мешать закреплению завоеваний революции». И снова Дутов прошипел:
– Упустили, сволочи!
Вот и о Керенском: «В штаб военного округа прибыл вернувшийся с фронта Керенский. Ему доложили о событиях. Он прошел в соседнюю комнату, встал на подоконник и обратился к стоявшим внизу с речью: „Происходящее в Петрограде произвело в армии ужасающее впечатление. Шлю проклятие большевикам, которые пролили на улицах столицы невинную кровь. Проклятие изменникам!“» Дутов представил Керенского, позирующего на подоконнике, актерский голос его и презрительно усмехнулся: не мог простить ему, что, взяв власть, он не воспользовался ею для разгрома большевиков и не расправился с Лениным, не мог простить и двоедушия в казачьем вопросе. Теперь, после Кронштадта, Керенский готов вызвать не только митавских гусар и казачьи полки, но, пожалуй и наследников престола.
При обсуждении декларации нового правительства он так и заявил: «Позорный прорыв фронта русской народной революционной армии войсками германского императора облегчен предательством большевиков, теперь Временное правительство будет действовать против них со всей энергией и решимостью».
От досады у Дутова заболела голова: сказывалось фронтовое ранение. Все залечили, а трещину в черепе не замажешь – нет-нет да и напоминает о себе.
* * *
Дутов, не отличаясь особой скромностью, не подавлял подчиненных роскошью и причудами личной жизни потому, что с детства получил спартанское воспитание, кроме того, ему приходилось считаться с трудностями военного времени и особенно с мнением о нем как деятеле казачьего войска. А войско казачье он любил ревнивой любовью.
Походив по комнате, напоминавшей канцелярию, он принял патентованную облатку, прилег на диван, подстелив газету так, чтобы не испачкать сапогами богатой обивки (неряшливости не терпел), и минут десять лежал не шевелясь – ждал, когда утихнет головная боль. За окнами серое взлохмаченное небо. Ветер с моря опять нагнал тучи, и начался дождь: верхушки деревьев, которые только что сильно раскачивались, присмирели, лишь листья подрагивали, блестя мокрым глянцем. Сколько здесь таких дней, промозглых, туманных, когда по-военному прямолинейно расчерченный город словно размывается, утопая в белесой дымке.
Головная боль стихла, но ощущение тупой тяжести осталось. Дутов снова прошелся по комнате. Ноющую тревогу вызывали в нем зажигавшиеся в домах огни, похожие на костры, горевшие в неведомой черноте. Ряды уличных фонарей убегали вдоль мостовой, роняя в лужи жидкий желтый свет. Где-то там, на рабочей окраине, а может быть, в одном из ближних домов находился сейчас Ленин… Что значил один небольшой с виду человек перед тем грозным, что творилось на фронтах войны? И однако же сообщение о том, что он исчез, больше расстроило Дутова, чем прорыв немцев на передовой линии: ценой больших жертв там можно выправить положение, а как бороться с большевистской заразой, разлагающей и фронт и тыл?
Отец Дутова, генерал-майор, участник покорения Средней Азии, являлся всегда сторонником самых крутых мер. Он и внешне производил внушительное впечатление: седая борода, расчесанная на две струи, взгляд фанатика-службиста, неласковая рука на эфесе шашки.
Александр гордился своим отцом, а жил у деда в Оренбургской станице. Весь быт семьи и духовная настроенность ее были проникнуты военщиной. Но эта жизнь не была тем официально узаконенным бездельем армейской военной касты, о котором писал граф Лев Толстой: если рядовые казаки в мирное время работали в своем сельском хозяйстве, то их командиры тоже не понаслышке знали, что такое пахота.
Отсюда возникала рознь между офицерами-казаками и белоручками-золотопогонниками, кичившимися своим дворянским происхождением.
«А теперь судьба связала нас одной веревочкой. Мой полк и тот же Митавский полк: вместе дрались на фронте, теперь – в тылу. Задача – вырвать с корнем большевизм. Александр Федорович будет тверже теперь. Пора!»
Стремясь избавиться от тяжелых дум, Дутов перенесся мысленно в родное Оренбуржье. Он любил, когда глубокий снег ложился голубоватыми сугробами на улицы станиц, а низкое солнце стелило над степью золотую пряжу. Отшумела на станичных токах молотьба, наварены в каждом доме бочки браги-кислушки и арбузного меда, и всюду звенят свадебные запевки. Только налетающие внезапно бураны омрачают небо. Тогда люди сбиваются у домашних очагов и под яростный вой ветра и шорох метели ведут разговоры. Кто вяжет, кто читает, кто чинит сбрую. Народу словно на посиделках, а на самом деле одна большая казачья семья. Во всем патриархальная старина, строгое соблюдение обычаев, истовая религиозность. На эту казачью приверженность старине и возлагал надежду Дутов.
38
В ночь на 21 июля 1917 года в Малахитовом зале Зимнего дворца собрались члены правительства, руководители всех четырех советов, партийная верхушка кадетов, эсеров, меньшевиков и представители казачьего войска. Дутов переходил от одной группы людей к другой, не очень заметный в скромных полковничьих погонах, заложив руку за спину, другою держась за нагрудный ремень портупеи, с невозмутимо-спокойным видом вслушивался в горячие споры.
«Правильно говорится: горбатого могила исправит: все больше колебаний у моего тезки Керенского, – думал он. – Вручили ему пост министра-председателя, союзники тоже делают на него решительную ставку, а он мечется из одной крайности в другую. И это ощущается во всей политике Временного правительства: в самом деле временное!»
Малахитовый зал сиял хрусталем люстр, позолотой богатой лепки, облицовкой стен и каминов, горевшей переливчатыми зелеными огнями. Тяжелые шелковые драпировки на окнах опущены. Лихорадочный Петроград спал вполглаза. В грязи и во вшах перемогались в бредовом полузабытьи солдаты на фронте. Неспокойно спали сто шестьдесят миллионов полуголодных, холодных, осиротевших и просто выбитых из колеи жителей государства Российского. А здесь, в роскошном зале, собралось сто двадцать ответственных персон решать судьбу России – создать власть для нее. Страшно становилось Александру Дутову от одной мысли об исполинской стране, доведенной до разрухи. Жутко было ему в глухую ночную пору ходить по великолепным палатам, где словно витали тени человека, считавшегося помазанником божиим, всегда внушавшего верноподданнический трепет. Еще возвышались в спальнях пышно убранные кровати, в столовых, гостиных, приемных залах стояла редкостная мебель, как бы хранившая прикосновения царственных особ, и лежали драгоценные ковры, по которым ступали эти богочеловеки. Но вдруг их закружил Распутин – буйный мужик в сапогах и широкой русской рубахе, и вымело их бурей революции из роскошных чертогов.
От безлюдья опустевшего дворца Дутову делалось холодно. Но стоило вспомнить о большевиках и Ленине – сразу кидало в жар. По всему Петрограду рыщут сотни ищеек – бывших жандармов и городовых, – разыскивая следы исчезнувшего Ленина, и не могут найти. Однако везде ощущается его незримое присутствие. Большевиков преследуют, арестовывают, а их становится больше и больше, и с каждым днем крепче, грознее смыкаются ряды рабочих. От этого тоже становилось страшно, хотя Дутов не принадлежал к породе робких людей.
После круговорота встреч в зале и обмена приветствиями начались выступления. Остро ощущая свое одиночество среди толпы собравшихся, Дутов с негодованием слушал речи, полные трагизма и обреченности.
«Вот так князья и бояре устраивали драки, когда Русь истекала кровью, и вместо борьбы с врагом раздирали в клочья ее одежды и выдирали друг другу бороды, – сокрушенно думал Дутов. – Все вошли в раж дележа власти».
Хотят править кадеты, преданные Лавру Корнилову, которого они и казаки превозносили как народного героя. Эсеры, подстрекаемые Савинковым, предлагают кандидатуру Керенского. Меньшевики требуют старшинства, а сами пятятся, словно раки, и всех стараются утянуть за собой. Ночь проходит, на западе бухают пушки, голодная страна спит. А тут говорят, говорят, говорят… Кто же сможет вывести Россию из тупика?
Дутов кашлянул, вытер платком вспотевший затылок и короткую шею и подумал: «А если бы сейчас явился в парадный зал из своих покоев свергнутый император?.. Но что бы он смог – невзрачный человечек, тоже в мундире подполковника, пустые глаза, речи избалованного недоросля», – и Дутов отвернулся от вызванного призрака с тоскливым чувством: не та фигура. Тяжелый камень, привязанный на шею тонущей матери-России, – вот во что превратился ее последний монарх, которого Временное правительство решило отправить из Царского Села в захолустный Тобольск.
Керенский на совещании отсутствовал. Следуя примеру Бориса Годунова в Смутное время, он подал в отставку и теперь ждал решения совещания, которому предъявил свои категорические требования. Хотел, чтобы его попросили главенствовать.








