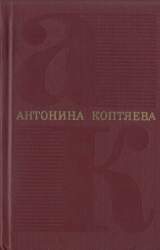
Текст книги "Собрание сочинений. Том 6. На Урале-реке : роман. По следам Ермака : очерк"
Автор книги: Антонина Коптяева
сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 36 страниц)
– Теперь поздно горевать. Наше дело правое – все равно осилим.
– В бою-то осилим. Сломим. Но дальше-то как? По себе сужу насчет нашего разгильдяйства. Страшит легковерность, когда становишься слабак вроде ребенка малого. А революцию беречь надо пуще жизни.
– Никак я в толк не возьму… – В голосе Кости невольно плеснулась досада.
Харитон сел на соломенной подстилке, нашарил кисет, свернул цигарку.
– Помнишь, Петра Алексеича Кобозева травили меньшевики и эсеры? Какую клевету несли! Врали наперебой. И страшней всего было то, что они его на наших собраньях, на наших глазах грязнили, а рабочие в большинстве верили им и молчали. Потому и провалили его на первых выборах. Спрашивается: за кем шли наши рабочие? Мой отец, к примеру, тоже в то время окосел, я чуть не треснул его от злости после драки в Караван-Сарае. А ведь он честный, отец-то! Только какой прок от честности, ежели она слепая?
– Но надо же верить людям!
– Без этого нельзя, – со вздохом согласился Харитон. – Только научиться надо узнавать врага под любой личиной. Не то пойдет чехарда: мы будем строить, они – разваливать. И вечно будет наше дело под угрозой.
На улице хлопнул винтовочный выстрел; парни разом вскочили, но снова стало тихо. Вернувшись на свое место, Харитон сказал неожиданно мягко, даже стеснительно:
– Ты меня сухарем назвал… Я о себе по-другому думаю. Будь я сухарем, не болела бы моя душа за народное дело. И в партию мне вступать было бы незачем. Когда я в первый раз партийную программу прочитал, она мне сказкой показалась. После вдумался и вижу – все правда, заслужили мы своим горбом и трудом, чтобы жилось хорошо не мне одному или тебе, а всем! Того, кто не желает с нами вместе идти, надо к стенке, потому что никогда он не смирится быть наравне с простым народом.
– Злой ты стал. Но вдруг ошибешься да хорошего человека угробишь?
– В большом деле не без урону. Лучше ошибка, чем оставить такого, который тысячам навредит.
Костя беспокойно повернулся.
– А если Фросин муж тебе попадется?
– Рука не дрогнет, когда в бою встретимся. Да неужели ты его хорошим считаешь?
– Верчу и так и этак. Ведь мог он с Фросей плохо поступить? Вспомню, как она башмаки свои начищала, когда рассыльной работала в редакции, платьишко ситцевое, коса с бантиком – сразу видно, из бедной семьи. А офицеры да чиновники с простыми девушками не церемонятся.
– Значит, уважаешь казачишку за то, что он сманил, увел ее?
– Что поделаешь! Митя мне рассказывал, как этот Шеломинцев приходил свататься. Любят они друг друга.
– Еще бы! Сразу втюрилась! Красавец писаный при всем параде, да и казак богатый.
– Не трави, мне без того тошно.
– Тогда не вспоминай.
– Легко сказать!
– Нет, брат, иногда слова – гири пудовые. Ими убить можно, и себе на ногу уронишь – тоже не поздоровится. Оттого и молчу о Фроське, о том, что меня самого мучит.
– Измучишь тебя: дуб дубом.
– По виду не суди. Другой с виду хлипкий, однако душой – зверь. Если я настроился против Фросиного хахаля, то это к моей личности отношения не имеет. Враг он рабочему классу? Безусловный. И никакой благодарности за его любовь к моей сестренке я не чувствую. Так что ты со мной об нем больше не заговаривай.
53
– Не подведут нас эти добровольцы? – спросил Костя Туранин Джангильдина, когда они возвращались в теплушках из Башкирии, побывав в Стерлитамаке и Уфе.
– Что тебя смущает? – спросил, в свою очередь, Джангильдин, прислушиваясь к беседе смуглых, смольно-черноголовых ребят, тесно набившихся в вагон.
– Они толкуют только о лошадях, о кумысе да заработках.
– А ты хотел бы, чтобы они занимались вопросами мировой революции? – По сухощавому лицу Джангильдина скользнула добрая улыбка и спряталась под жесткими усами. Сощурив глаза, отчего резкие морщины на его висках еще углубились, он сказал: – Парни говорят о том, что доступно им только во сне. Ты видел, какая голодная, нищая жизнь в башкирских селах? Бедняки поголовно неграмотны, и за Советскую власть они будут бороться не красным словом, а жизнью.
– Тогда почему столько башкир у Дутова?
– У нас в Киргизии тоже есть басмачество. В каждом народе идет борьба классов, и множество людей мечется в поисках правды между добром и злом. – Джангильдин отодвинулся подальше от жаркой печурки, гудевшей посреди вагона, снова посмотрел на робевших при нем добровольцев: кто разбирал вещи в дорожном мешке, кто делился с соседом скудными подорожниками; несколько человек при тусклом свете фонаря изучали винтовку (занятия проводил русский командир роты). – Хорошо, что эти уже поняли: просить милости – значит проиграть все. Ты помнишь Бахтигорая Шафеева? Настоящий орленок. – Он ведет пропаганду среди татар и башкир и, несмотря на свою молодость, многим помог встать на путь борьбы за свободу.
Костя с первой встречи запомнил Бахтигорая, чернобровое лицо которого, нежное, как у девушки, но с резко очерченным ртом и прямым острым взглядом соколиных глаз, выражало непреклонно твердый характер, гордый и смелый. Однажды, поговорив с Шафеевым, Костя с удивлением почувствовал, что пошел бы с ним на любой риск. Что скрывать: ему хотелось быть похожим на Бахтигорая.
– Сейчас он уже известный в крае человек, – добавил Джангильдин.
– Меня не на это завидки берут: хочется сделать не меньше его.
– Сделаешь! Язык киргизский ты уже немного знаешь, а это прямая дорожка к сердцу наших людей. Их надо учить, как малых ребят. В древности культура Востока была на большой высоте, а потом пришли монголы, напоили пески кровью мирных чабанов, разрушили города и аулы, сожгли рукописи поэтов и философов. Вся история Средней Азии пошла вспять.
– Почему же говорят, что ее нельзя повернуть вспять? Да и вы, Алибий Тогжанович, нам так же объясняли: «Колесо истории ничто не остановит».
Джангильдин сидел на груде седел, положив руки на эфес шашки, широко расставив ноги в мягких меховых сапогах, и глядел на Костю усмешливыми глазами. Заметно возмужал парень: вытянулся, окреп, раздался в плечах, но в лице и рассуждениях его все еще проскальзывало мальчишеское. И поневоле задумался Алибий.
Громыхали колесами теплушки, стыли от бившего навстречу ветра, сваливавшего под откос черно-серую кошму дыма. Торопился, пыхтел паровоз, но состав еле тащился среди заснеженных полей и лесов, мимо деревушек, где жгли лучину и топтали снег лаптями, как тысячу лет назад. Но и в этих глухих местах решался теперь вопрос о дальнейшем пути страны.
– Остановить ход истории нельзя, – подтвердил Джангильдин, подумав о башкирах-красногвардейцах (неграмотные, а ведь тоже приближают завтрашний день!). – Остановить историю никому не удастся, но затормозить ее можно. Как? Принуждением, обманом народа. Чтобы оправдать несправедливость, буржуазные философы учат: человек – жестокий зверь и требует насилия над собой либо сам его совершает. То же говорили нам в мусульманском духовном училище…
– Неужто вы хотели стать муллой?!
– Нет, не стал бы. Мне только образование нужно было получить, а где мог учиться сын чабана-киргиза? Спасибо, добрый инспектор устроил в духовное училище, потом в семинарию. Но в девятьсот пятом году я оттуда вылетел. Потом либеральные интеллигенты помогли поступить в Московскую духовную академию на исторический факультет. И там не удержался: заметили неуваженье к религии, интерес к политике и исключили. Реакция тогда свирепствовала. Куда ни сунься – жандармы.
Костя примостился возле Джангильдина и, хотя Алибию было всего тридцать три года, с сыновним уважением посмотрел на него.
– Сейчас нам трудно, но нас много. Просто дух захватывает, когда подумаешь, какая силища пролетарьят. А как вы тогда в одиночку?
Джангильдин поправил ремень, на котором сверх шинели висел внушительный маузер, подтянул голенища сапог, но сделал это машинально, потому что, погруженный в мысли о прошлом, не спешил нарушить молчание.
– Мы тоже не чувствовали себя одиночками, общая идея была у нас: вера в будущее народа, – сказал он задумчиво. – Молодость, конечно, выручала в тяжелые времена. Когда мне пришлось совсем туго, я решил отправиться пешком в кругосветное путешествие. Хотелось попасть в Швейцарию, куда опять, после девятьсот седьмого года, эмигрировал Ленин по решению партийного Центра. Поговорить с ним, а потом двинуться в Турцию, Египет, Индию, Китай, Японию…
Возможность такого путешествия, да еще пешком, да еще без гроша в кармане, поразила Костю. Но не сказочные страны, где водятся слоны и львы, где растут пальмы с орехами в человеческую голову, где горы подпирают небо снеговыми вершинами, а в синих морях плавает чудо-юдо рыба-кит, – не все эти чудеса занимали Костю.
– Нашли вы Ленина? Какой он из себя?
– Какой? Быстрый на ногу. Ловкий. Мне он показался лучше всех. Тем более что на киргиза похож (татары уверяют – на татарина). Есть в нем наше, родное: скулы широкие, глаза карие, острые, как у чабана. А главное, я сразу ощутил, что это близкий мне человек. Будто долго бродил в глухой степи, натосковался по теплому дружескому слову – и вдруг такая счастливая встреча!
Джангильдин потеребил густые усы, опять помолчал, словно забыв о Косте, о том, куда ехал, окруженный молодежью.
– Швейцария мне не понравилась, хотя это красивая страна. Все прилизано. Люди вежливые… Очень вежливые, но столько мелочной расчетливости… В России баба в деревне вынесет крынку молока, краюху хлеба. Посмотришь – ноги у нее босые, черные от загара, руки огрубелые, а глаза будто окна в небо. Денег с прохожего ни за что не возьмет. За границей такой доброты, простоты нет. Нелегко прожить там русскому человеку целые годы… В Сибири куда лучше. Ты, наверное, думаешь, самое страшное для большевика тюрьма, жандармы, ссылки? Нет, Костя, самое страшное – идейные шатания в рядах партии, измены друзей. Ленин все это перенес, но он никогда не падал духом, и каждая его статья была ударом по врагам.
– А как он вас встретил?
– Сердечно. Когда я сказал, кто я и откуда, он посмотрел, прищурился, мне даже неловко стало, и вдруг громко позвал: «Надя, иди скорей! Здесь уникальный турист из России. Да еще из Средней Азии. Представь себе, пешком пришел!» Заинтересовался, как образовалась наша сухопутная тройка по газетному объявлению. Расспрашивал о положении в Киргизии. О восстаниях в аулах. О карательных экспедициях. И все обращался к Крупской: видишь, что делается! Предложил мне написать статью в газету, потом вскочил с места: «Черт побери! Прежде всего мы должны накормить товарища! Соловья баснями не кормят», – и, пока сидели за столом, все подшучивал: «Человек, который идет пешком вокруг света, голоден не как соловей, а как серый волк».
Теперь Джангильдин рассказывал охотно, весело, гордясь встречей с Лениным, а Костя жадно слушал, удивляясь и тому, что такой человек, который не раз встречался с Лениным и имеет мандат Совнаркома о назначении чрезвычайным военным комиссаром, так запросто беседует с ним, малограмотным заводским парнем.
– Когда я прочитал книгу Ленина «Материализм и эмпириокритицизм», которая отстояла учение Маркса от наскоков враждебной критики, то подумал: «Жаль, что эта книга будет трудна для массового читателя! Такая в ней глубина философской мысли», – продолжал Джангильдин, а Косте стало стыдно за то, что он даже не слышал об этой книге.
– Ленину вы тоже сказали об этом?
– Да.
– Обиделся он?
– Нет. Улыбнулся лукаво и спросил: «А как вы думаете, товарищ Джангильдин, рядовой рабочий или крестьянин знают такое слово – „эмпириокритицизм“»? – «Пожалуй, не знают…» – «А я, когда писал, о них думал. Верю, что сразу после революции в России они станут грамотные и для них не будет непонятных слов. А вы сами-то как прочитали?» Я спохватился: «Понял все». Но в беседе выяснилось несколько иное, и тут я почувствовал, что такое бережное отношение к младшему товарищу и какой гигант мысли он, Ленин.
«Вот так и Джангильдин со мной», – обрадованно подумал Костя.
– Вы с ним еще виделись?
– После Февральской революции, когда на заседании фракции большевиков в Смольном я докладывал о положении в киргизской степи и зверствах генерала Лаврентьева. Потом встретился и разговаривал с Лениным уже после Октября, когда он направил меня сюда для борьбы против Дутова.
– Он сразу узнал вас?
– Узнал. Держит за руку и смотрит, смотрит: «Где это я вас видел?» – «В Швейцарии». – «A-а! Турист-пешеход. Где вы еще побывали тогда?»
– А сейчас Ленин помнит о нас? Знает, как здесь трудно?
– Все знает и помнит. Положение в Оренбургском крае очень тревожит его.
Да, было от чего тревожиться! Военных сил у Дутова раза в четыре больше, и конница, и вооружение. А молодых красногвардейцев надо было вооружать и спешно обучать тому, как обращаться с оружием. Так что Джангильдин, а с ним и Костя минуты не имели свободной.
54
В «Декадансе» выбирали королеву красоты. В зале, сверкавшем позолотой пышной лепки, бронзой и хрусталем люстр, тесно и шумно. Больше мужчины: какие-то линялые старички, тучные сановники с розовыми лысинами, умытые купцы, надушенные, затянутые офицеры. Среди подвыпившей компании за столом, уставленным бутылками и фруктами, Софья Кондрашова, которая пришла в этот дом в маске, как и другие порядочные дамы, не желая рисковать своей репутацией. На ней платье из цельного куска шелка, задрапированного и заколотого на плече бриллиантовой пряжкой так, что обнажилась стройная спина и нежные тонкие руки с гладкими обручами браслетов. Волосы взбиты, нагромождены затейливой башней, глаза ярко блестят в узких прорезях маски.
С Софьей любезничают, прикладываются к длинным ее пальцам с остро отточенными ногтями, но не она здесь в центре внимания и не те девушки, что похаживают среди гостей в вычурных, ярких платьях или в тугом трико и кружевных корсажах. Взгляды всех прикованы к ярко освещенной сцене, где стоит златокудрая смуглая Рогнеда – гордость «Декаданса». Только что ее сняли с пьедестала и пронесли полунагую через весь зал на громадном блюде вроде плоской раковины. Никто из красавиц, проходивших перед глазами строгих знатоков, не мог сравниться с нею, затмившей всех соперниц. И вот она, уже одетая для концерта, на эстраде. Сам Дутов, изрядно подвыпив, подносит ей букет роз, и Рогнеда с победоносной улыбкой глядит на властного атамана, который при всех заискивает перед нею.
В зале грохот аплодисментов, возгласы одобрения. К ногам вновь избранной королевы летят цветы и деньги.
– А епископ Мефодий стал архиепископом оренбургским, – говорит кто-то за соседним столом в компании солидных промышленников.
– Отметил его усердие патриарх Тихон…
– Да, Тихон теперь избран на вселенском соборе патриархом всея Руси.
– Заслуженно! Кто другой осмелился бы на Красной площади предать анафеме большевиков?
– Счастье русского народа, что у него такие мужественные отцы церкви, показавшие себя в годину смуты и как политики.
– Тише, господа!
Грудной голос Рогнеды, полный сердечного, живого чувства, сразу заворожил всех.
«Да, изумительно поет. И собой хороша необыкновенно», – думала Софья, хотя по-женски возревновала, когда впервые увидела эту «королеву» с золотой гривой высоко подобранных кудрей, с черной повязкой на нежно округленных бедрах. Как стояла босая на пьедестале, вольно поставив длинные, редкой стройности ноги, ровно дыша прелестной грудью, полуприкрытой черными, в блестках кружевами на еле приметных бретелях. Красива она была до безгрешности, как прекрасный ребенок. Поэтому и смотрели на нее, словно на чудо, без пошлых ухмылок, может быть, впервые поняв божественность настоящей женской красоты.
* * *
Придя сюда, Софья искала встречи с Нестором. Не могла она поверить тому, что ею и богатством ее пренебрегли ради какой-то замарашки из нахаловских трущоб, не допускала мысли, что молодой хорунжий сидит возле грубых юбок работницы. Конечно, он сейчас при штабе Дутова.
– Ах, душка атаман! Такой заслуженный и такой обаятельный, – шептались женщины, пробравшиеся сюда, как и Софья, под маской.
– Цветы преподнес королеве красоты!.. Интересно, знает ли об этом его почтенная супруга?
Рогнеда пела. Наэлектризованная толпа неистовствовала, выражая свой восторг. Рогнеда улыбалась, глядя в зал, кланялась, благодарила, с новой силой и чувством повторяла любимую песню атамана:
Я ехала домой…
Потом начался разгул.
– Ты чудная, ты дивная! – Дутов целовал душистые ладони певицы, гладил ими свое пылающее лицо. – Сегодня ты поедешь со мной! Скажи: да!
– Нет, нет, нет! А то придется платить три тысячи за тройку лошадей. Я читала приказ, знаю: запретили вы катанье и пьянки.
– Ты научилась лукавить?
– Зачем учиться? Каждая женщина умеет лукавить. С пеленок умеет. Но сейчас я правду говорю.
– Чего ты боишься? Или ты еще не знаешь любви?
– Если бы не знала!
– Значит, другого любишь?
Рогнеда насупила узкие брови, но глаза ее смеялись.
– Не девушка я, но гордость имею. Вот звенят здесь золотые струны, – она приложила к груди руку, выгнув гибкую ладонь, – и я пою для народа, но жить с каждым, кто позовет, не хочу. Не стану!
– Разве я «каждый»? – Дутов снова налил шампанского себе и ей, надменно откинулся на стуле, обводя тяжелым взглядом кутил, сидевших с женщинами за соседними столиками. Он был обижен и раздосадован – «Пою для народа» – рассуждаешь, как социалистка!
– Этого я не понимаю, – она придвинулась к нему, бросив веер из белых страусовых перьев на перила ложи. – Я цыганка. Гадать – могу. Вижу, что впереди, и боюсь. Только подумаю о завтрашнем дне – даже плечи озябнут.
– Со мной ничего не бойся. Я сильнее всех.
Она улыбнулась сострадательно и, как маленького, нежно погладила его по плечу и затылку.
Дутов обнял ее, припал губами к юному рту, погасив его ослепительную улыбку, прижал к себе, ощущая трепет еще непокорного прекрасного тела, ища глазами ординарца:
– Лошадей! Шубы!
Сам внес желанную в кошевку на руках, и тройка звонко помчалась в ночь и мороз в снежной пыли под светлыми звездами. Следом рвали копытами снег и лед мостовой лошади бородачей личной охраны.
* * *
Резкий стук в дверь, тревожный уже своей бестактностью, спугнул ощущение сладостного покоя.
– Депеша особой важности из Переволоцкого!..
В дверную щель просунулась толстопалая рука заслуженного ординарца с телеграфным бланком, потом показалась обросшая физиономия, с собачьей преданностью глянули глубоко посаженные глаза.
– Да заходи, заходи! – с досадой, но и с явной мужской гордостью приказал атаман.
Рогнеда, подтянув к подбородку одеяло, тревожно искоса смотрела, как он, приподнявшись на локте, торопливо читал текст телеграммы.
«Кобозев снова перешел наступление, 20 000 войска, под общим командованием мичмана Павлова, прибывшего летучим отрядом Кустанайского фронта. Уже погрузились эшелоны, бронепоезда. Двинуть навстречу конницу нам мешает небывалая глубина снега. Подробности письмом, пакет посылаю нарочным. Полковник Акулинин».
Сна как не бывало. Дутов сел, спустив на пол ноги, очень белые, пухлые. Молодой адъютант помогал одеваться.
Рогнеда, сгорая от стыда и обиды, лежала как брошенная, забытая вещь. Ну тревога – люди военные. Ну надо скорее возвращаться из пригорода в Оренбург, но зачем же врываться в спальню? Ходить тут возле смятой постели…
– Ты спи! – ласково сказал уже одетый атаман, поправляя папаху и туго затянутые на меховой бекеше ремни. Заглянул в опустошенные глаза, погладил рукой в перчатке (чуть не уехал, не простясь!). – Я оставлю на страже казака.
– Не здесь, конечно… Не в этой комнате. – Голос ее сделался гортанным, клекочущим от гнева, а Дутов даже не заметил, как она сердится (шутка, двадцать тысяч войска, и опять этот мичман Павлов с его летучим отрядом!).
– Утром пришлю лошадей. Отдыхай, дорогая.
– Не очень дорогая! – Рогнеда вскочила, едва они вышли, заметалась по комнате, мотая тяжелой гривой волос, тонкая в прозрачной до пят рубашке. – Не хотела, а опять в грязь влезла. Почему? Жалко стало? Страшно стало? Убьют его! Ишь, степенный какой, а бабьи рубашки тут наготове. – Злобно рванула ленты, завязанные бантом на груди. – Других тоже возил сюда. Эх, атаман! «Я сильнее всех», а испугался, побежал сразу.
55
На заседании Военного совета Кобозев предложил новую тактику наступления: цепь эшелонов, которые будут поддерживать друг друга.
– Впереди пустим бронепоезд, за ним ремонтно-вспомогательный. Следом пойдут красногвардейские эшелоны и артиллерия, размещенная с таким расчетом, чтобы она могла бить с вагонных платформ, а в случае надобности быстро сгружаться для позиционного боя…
Петр Алексеевич на всю жизнь запомнил свое боевое крещение, когда так счастливо подоспела батарея наводчика Ходакова. А как выручала она, когда бузулучане вырывались из окружения после боев под Каргалой! Теперь Кобозев знал, что такое артиллерия, и продолжал уверенно:
– В середине пойдет санитарный поезд со штабным вагоном, замкнет всю цепь второй вспомогательный бронепоезд. С обеих сторон железнодорожного полотна мы будем защищены от казачьих конных атак сугробами снега. Снег нынче, к счастью, необыкновенно глубокий.
– Где же мы возьмем столько бронепоездов? – спросил Алибий Джангильдин, тоже избранный в Военный совет бузулукской группы.
– Друг Алибий! – Кобозев не сдержал озорной улыбки. – Неужели сердце не подсказывает тебе, что бронепоезда выросли на ваших хлопковых полях?
– Шуточки?
– Серьезнее быть не может. Паровозы у нас защищены настоящей броней, а платформы обложим в два-три ряда тюками спрессованного хлопка. Как ты думаешь, надежная это будет защита от пуль и осколков? – Про себя Кобозев отметил: «Идея Алевтины, которая собиралась так обезопасить детишек».
– Надежно, пожалуй… – В голосе Джангильдина раздумье, даже нерешительность. – Пули не пробьют тюки ваты. Но если ударит снаряд…
– Осколком тоже не пробьет.
Костя стоял у двери вагона, слушал, готовый ринуться с любым поручением куда угодно, гордость так и распирала его: он присутствовал на Военном совете.
Идет над степями злая зима, заваливает железную дорогу и проселки сугробами снега, но не задуть ей всеми студеными ветрами жаркую ненависть к врагам в душе Кости Туранина.
Вот на платформе зазвенели девичьи голоса и смех. Девчата спешили сюда, узнав, что заседание Совета окончилось. Однако, опередив их, в вагон вошел Бахтигорай Шафеев. Смугло-румяный под белой папахой, в белом полушубке, туго перехваченном ремнями портупеи, он приветливо взглянул на Костю и других ординарцев, скромно, даже застенчиво, поздоровался с членами Военного совета. Бахтигорай учился в Оренбургском мусульманском медресе, мог бы стать почетным человеком в городе – служителем аллаха, но за смелые речи против несправедливости был исключен. Потом учился в Казанском университете, и опять улыбалась ему жизнь среди богатых и сильных, но и в Казани больше волновали прямого, пылкого Бахтигорая жизнь народа, политика, борьба. Весной семнадцатого года он вернулся в Оренбург и со всей страстностью взялся вместе с большевиками за революционную работу.
«Верно назвал его Джангильдин – настоящий орленок!» – подумал Костя, глядя на Бахтигорая.
А Шафеев уже коротко доложил о своей работе: созданы башкирский и татарский красногвардейские отряды.
«Не выпячивает себя, – снова отметил Костя. – Я, наверно, хвастун: мне все хочется, чтобы меня похвалили, а у него получается так, будто поехал и принял готовые отряды».
– Где они? – спросил Кобозев, и по выражению его было видно, что он очень доволен Бахтигораем.
– Только что выгрузились из эшелонов, но оружия у нас совсем мало.
– По возможности обеспечим. Вы как командир и двинетесь в наступление с этими отрядами.
56
Девушки с повязками медицинских сестер!.. Бесстрашная Стеша Черкасова, участвовавшая в первых боях против Дутова, Мария Корецкая, веселая, неугомонная, с блестящими черными кудрями. Она так хороша, что даже Костя Туранин готов признать: красивее и милее ее нет девушки в Оренбуржье. Одна лишь Фрося… Маша Корецкая жила в пансионе благородных девиц, и хотя была там простой портнихой, преуспела в грамоте. Теперь она и политически развита, а держится так, что все те благородные в подметки ей не годятся.
«Тоже могла бы выскочить за богатенького, – не без горечи подумал Костя, когда ходил вместе с Джангильдином и Коростелевым осматривать будущие санитарные вагоны: медсестры осаждали штаб со своими просьбами и жалобами. – Нужда ей пришла идти на смерть с красногвардейцами!»
– Какие у нас замечательные медицинские кадры подобрались! – весело сказал Цвиллинг, входя в вагон и прежде всего здороваясь с девчатами.
Ответив на шумные приветствия товарищей, он принял нарочито важную позу, хотя на лице его так и пробивалась откровенно радостная улыбка.
– Явился из Екатеринбурга… Был в Челябинске. Принимайте отчет! Сегодня придет прекрасно сформированный отряд с Верх-Исетского завода под командованием Петра Ермакова. В нем есть и девушки-санитарки. Может быть, не такие красотки, как наши, но боевые. Сам я тоже прибыл сюда с отрядами красногвардейцев: приехали челябинские металлисты и копейские шахтеры. С уральских заводов будут доставлены завтра орудия, снаряды и винтовки.
– Вот здорово! Активно мобилизуют силы уральцы! Хорошее пополнение дает нам и мобилизация в сельских местностях губернии. Много добровольцев из батраков и беднейшего крестьянства, – говорил сияющий Кобозев. – Пора наступать, красногвардейцы рвутся в бой: все понимают, что каждый пропущенный день грозит расправой над рабочими Оренбурга. И просто от голода могут погибнуть они.
– Да, насчет оренбуржцев… Хорошо, что я побывал в Екатеринбурге: деньги получил для наших забастовщиков.
Ввалились в вагон и командиры прибывших с Цвиллингом отрядов. Морозный воздух ворвался вместе с ними из тамбура. Белый пар будто приподнял от пола девушек, и на этом облачке Маша Корецкая в белой повязке с красным крестом показалась Косте настоящим ангелом милосердия. Но сердце его оставалось спокойно, когда она, уходя, задорно махнула ему рукой. Он улыбнулся ей так же, как и Стеше Черкасовой.
– Начинают моего Костю девчата интриговать, – шутя заметил Джангильдин. – Был заморыш нескладный, вроде гадкого утенка, а теперь, смотрите, какой лебедь!
– Под твоим идейным руководством, – подтрунил Цвиллинг. – Но что-то этот лебедь больше смахивает на молодого грача. Черен и большенос.
– Будет вам изощряться! – заступился Кобозев. – Совсем смутили Туранина. Нос у него как и полагается мужчине (ты, Самуил, тоже этим не обделен). А насчет девушек, так молодость всегда словно шампанское игристое, о котором мы с вами давно забыли.
– Кто забыл, а кто и не пробовал. – Цвиллинг расстегнул полушубок и присел к столу. – Ты, Петр Алексеевич, когда жил в Риге до ссылки, наверно, пивом баловался? Говорят, у латышей пиво хорошее.
– У латышей вообще закваска хорошая… Революционная закваска, я имею в виду.
– Шампанское да пиво… Где уж нам! Надо товарищей хотя бы чайком побаловать, – сказал Коростелев.
И сразу засуетились у железной печки ординарцы.
– Чай – дело стоящее. С дороги особенно, – согласился Цвиллинг. – Но поскольку речь зашла о девушках, на которых мы, женатые рыцари, можем только любоваться, то разрешите мне, старому агитатору, одну минуту уделить поэзии. Как ты думаешь, Саша?
– Давай! Все с удовольствием послушают.
Но Цвиллинг задумался, потом заговорил серьезно:
– Когда я работал в троицкой революционно-демократической газете «Степь», то по должности читал стихи местных авторов, а для души классикой увлекался. Кроме доморощенных, у нас печатались произведения Горького, Бедного и других поэтов и писателей. Многое мне запомнилось наизусть.
Цвиллинг, как был в распахнутом полушубке, вышел на середину вагона, непривычно сурово взглянул на товарищей.
Не плачьте над трупами павших бойцов,
погибших с оружьем в руках!
Не пойте над ними надгробных стихов,
слезой не темните их прах.
Не нужно ни гимнов, ни слез мертвецам!
Воздайте им лучший почет:
шагайте без страха по мертвым телам,
несите их знамя вперед!
Костя Туранин так и замер со стаканами в руках: слушал, почти не дыша. То были обычные слова, которыми говорили каждый день, но отчего они звучали торжественно, бередили, обжигали душу?
«Надо списать да затвердить, чтобы всем пересказывать», – решил Костя.
– Еще? – спросил Цвиллинг, прерывисто дыша.
– Пожалуйста! – горячо попросил Коростелев. – То, что ты сейчас продекламировал, каждому красногвардейцу заповедь.
– Да, да! – восторженно поддержал Кобозев. – Превосходные стихи.
Джангильдин и Бахтигорай, схожие, словно отец и сын, тоже с оживлением смотрели на Цвиллинга. И Сергей Дмитриевич Павлов, которого при всей его молодости охотно именовали по отчеству, разогнулся, оторвался от карты, разложенной на другом столе, статный, во френче и галифе, стоял и слушал, склонив голову с гладким зачесом на косой пробор. Лицо его с юношески округлыми щеками, энергичным подбородком и крупным, с горбинкой носом светилось одобрением: хотя не до стихов сейчас, но они будто нарочно для данного момента написаны.
Голос Цвиллинга зазвучал снова, сперва приглушенно, потом все накаляясь и наполняясь звоном:
Не скорбным, бессильным, остывшим бойцам,
усталым от долгих потерь,—
хочу я отважным и юным сердцам
пропеть свою песню теперь.
– Нам! – невольно вырвалось у Кости.
Все посмотрели на него, побагровевшего от неловкости, но на губах и в глазах у каждого можно было прочесть: «Да, нам».
Священную память погибших в бою
без слов мы умеем хранить!
Мы жаждем всю силу, всю душу свою
на тот же алтарь возложить!
«Если бы я раньше знал эти стихи!.. Мы сами виноваты, что не удержали Фросю в Нахаловке, не раскрыли ей красоту борьбы за свободу». Но эта мысль не огорчила, а только еще сильнее окрылила Костю.
57
Новое наступление началось в лютую январскую стужу. Синим вечером, когда над уютными бузулукскими домиками клубились дымы и звучно скрипел снег под полозьями и ногами прохожих, один за другим отходили со станции воинские эшелоны.
Костя набегался с поручениями по улицам постепенно пустевшего городка и, как присел в теплушке поближе к печке, так и заснул, прислонясь головой к винтовке, которую теперь не выпускал из рук.
Медленно шли по степям поезда, высылая вперед конную разведку, а там, где заносы и взорванные мосты, – ремонтных рабочих. Холодный ветер обжигал лица людей на открытых платформах, которые со своими плотно выложенными брустверами из тюков хлопка, слабо белевшими в темноте, походили на окопы, отрытые в снегу. Возле пушек и пулеметов потеснее, для тепла, сбились артиллеристы и пулеметчики.
Красными угольками мелькают огоньки цигарок, плывут над эшелонами клубы паровозного дыма с летящими искрами; длинные пучки света локомотивных фар, пробиваясь сквозь белесую поземку, шарят в снегу, нащупывая рельсы, помогая ремонтникам, расчищающим путь от снежных заносов.








