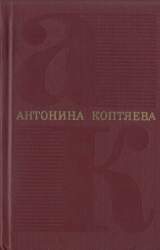
Текст книги "Собрание сочинений. Том 6. На Урале-реке : роман. По следам Ермака : очерк"
Автор книги: Антонина Коптяева
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 36 страниц)
А эта личиком редкостно миловидна… Кто она? Какого роду-племени? Что дадут за ней? На своем седле привез ее Нестор… Похоже, умыкнул. Чего же ради он, есаул Григорий Прохорович Шеломинцев, отцу и матери Неонилы очки втирал? Как ни поверни, нехорошо поступил Нестор. Осрамил отца перед станицей.
Бородач еще не успел составить свой приговор, как из-за его широкой спины выскочила Харитина, с необычной смелостью повисла на шее брата, глянув на Фросю, не сказала – пропела:
– Батя, посмотрите, парочка-то до чего славна!
– Славна. Это я и без тебя вижу. А насчет пары еще неизвестно, – веско сказал старый Шеломинцев и, не торопясь, сошел с крыльца.
Следом выплыла дородная, нос кнопочкой, мать Нестора. Ей хотелось позвать сына и привезенную им девушку в горницу – не на улице же разводить разговоры! – но она боялась прогневать «самого» и потому остановилась в нерешительности. Тяжелое молчание нависло тучей над живописной группой, застывшей во дворе.
48
Кстати подоспевшее тарахтение повозки и топот лошадей заставили всех обернуться к воротам. Харитина бросилась отворять, и во двор бойко вкатила пара буланых. На ворохе свеженакошенной травы сидели раздобревшая Аглаида с грудным ребенком, спавшим на ее раздвинутых коленях, и Михаил, совершенно изменившийся за три года службы на фронте.
Из станицы уходил в армию румяный, круглощекий, будто полный месяц, казак с буйно кучерявым чубом и всегда смеявшимися глазами. И в прошлом году он был еще веселый, когда приезжал на побывку после первого ранения, а сейчас к Нестору подходил угрюмого вида человек с незнакомо вытянутым под выгоревшей фуражкой темным лицом. Похоже, война не только высушила, выдубила брата, но и озлобила.
– Здравствуй! – сказал он Нестору, обнимая его твердыми, словно из корней свитыми, руками и трижды целуя; догадался, что встреча тут получилась трудная, в глазах засветилось прежнее, по-молодому озорное и доброе: – Ты, браток, под батиным крылом все красивеешь. За границей тебя наверняка в магазин заграбастали бы для показу мужской моды.
Отстранил Нестора, всмотрелся ласковым взглядом:
– Здорово папаня с маманей выдали тебя под первый сорт? Надо же, ни одного изъянца! Вы как думаете? – полушутя обратился он к Фросе, желая разрядить напряженную обстановку, и протянул ей жесткую руку.
Она вспыхнула, искоса взглянула на Нестора, на его родителей и снова потупилась, ухватясь, как за спасение, за свой выстроченный складочками новенький фартук. Аглаида, передав ребенка свекрови, тоже поздоровалась за руку с деверем и привезенной им девушкой.
Пухлые губы ее смешливо морщились, но улыбка пряталась в прищуре ресниц, ярко-черных на толстощеком лице с утиным носиком и легкими черточками бровей: еще свежа была в памяти ссора между свекром и мужем-фронтовиком, да кабы опять не грянуло!
– Насовсем явился? – забыв осторожность, спросил брата Нестор.
Михаил кивнул, но с таким видом, словно не придал значения этим словам: дескать, не о том речь, есть кое-что поважнее, хотя багровый рубец на лбу показывал, насколько серьезным было здесь недавнее столкновение.
– Пройдемте в горницу, – пригласила всех хозяйка, ободренная поведением старшего сына.
Прошли гурьбой в дом, шумно топая по полу, добела промытому в сенях, а в горнице крашенному желтой охрой и устланному покупными дорожками.
«Не то что у нас в землянке», – тоскливо промелькнуло у Фроси, не знавшей, куда ей теперь деваться и как себя держать.
Чувствуя растерянность любимой девушки от суровой встречи, Нестор взял ее за локоть, поближе притянул к себе.
– Ну, сынок, рассказывай, – приглушенно-ровным голосом произнес старый Шеломинцев, выложив на стол грубые, сильные руки с волосатыми запястьями. – Кого это ты привел к нам? С кем тебя судьба свела?
У Фроси больно сжалось сердце.
Душно в большом, добротно поставленном доме, даже мухи и те угомонились от жары. Чуть веет в открытые настежь створки теплый ветер, чем-то печеным, съедобным наносит со двора. Есть не хочется Фросе, но в горле пересохло, может быть, оттого, что сердце, похоже, переместилось: стукает где-то под косточками ключиц. Голова так и клонится – плакать охота.
«Даже чаем не угостили – сразу допрос. Вот они какие, а еще православными называются! Как же принимают людей те казаки, которые кулугурами зовутся? Сразу, поди-ка, в колья…» – И испуганно вздрогнула, когда отец Нестора добавил:
– Мы ведь не кулугуры. Те вас и на порог не пустили бы. Крик бы подняли. У них чуть что, и пошли проклинать. А у нас разговор по-людски, начистоту. Вы на меня, барышня, не обижайтесь, сами понимаете, не чужой я ему, и вот она, мать, тоже вес имеет. Нас с ней родители сосватали по старому обычаю… Ну, теперь времена, понятно, другие, и, однако же, согласие отца-матери все равно требуется. Опять же для обустройства новой жизни начала должны быть заложены, фундамент, так сказать…
На минуту опять наступило тягостное молчание, а в доме словно бы потемнело.
– Какое будет слово со стороны ваших родителей? Кто они? Судя по вас, не скажешь, без роду-племени!
Фрося хотела сказать, что отец ее работает в главных мастерских, что семья Наследовых большая, дружная и жители поселка их уважают, но в горле у нее совсем пересохло и язык словно прилип: непреодолимая помеха – ненависть отца и Харитона к казакам. Даже дедушка Арефий, Митя и Пашка их не любят.
Чувствуя, что щеки и уши у нее горят, а над бровями и стиснутым ртом выступил пот, она посмотрела на грозного хозяина.
– Если вам надо богатую, то я не богатая. У меня даже совсем ничего нет. И родители отдавать меня за Нестора Григорьевича несогласные.
– Это почему же? Значит, люди бедны, а за человека из состоятельной семьи вас отдать не желают?
Фрося еле слышно:
– Да.
– Но отчего, позвольте узнать?
Она снова сделала над собой огромное усилие и опять подняла дремуче густые ресницы.
– Потому, что у нас в поселке казаков не любят.
– Это верно, – заговорил Нестор, не дав застояться зловещему молчанию. – Ефросинья Ефимовна из рабочей семьи. Отец ее и два… три брата работают в главных железнодорожных мастерских. Я с ними говорил, и они правда не согласны на наш брак. Но нам с Фросей расстаться невозможно, и мы приехали поклониться вам. Если вы тоже не согласитесь, тогда мы с ней хоть в кормельщики – за скотом ухаживать, но поженимся обязательно.
– За таки слова, за подобно поведение тебя выпороть следует на кругу при всем честном народе! – вскипел Григорий Прохорович. – В кормельщики он пойдет! Твое дело службу воинску отбывать. Да, может, не в запасном полку, а на фронт идти придется. И здесь еще неведомо чего… Время смутно, грозно. Казакам родину защищать, спасать надобно, а он – в кормельщики! Служить будешь, сукин сын! А женушку куда? От нее и родные – отец с матерью – отказались.
– А я не откажусь! – Нестор обнял испуганную Фросю. – Я за нее жизни не пожалею и уж в крайнем случае найду для нее уголок, где она без страха ждать меня сможет, как законная жена.
– Правильно, Несторка! – Михаил встал, угловатый, костистый, протянул брату широкую ладонь. – Вот тебе моя рука, что мы с Аглаидой заодно с вами держаться будем. Не пыли, батя: Нестору с женой жить, ему и выбирать для себя, котора по душе. Пороть его на кругу никто не станет. Теперь и в станичном правленье прислушиваются к депутатам из казачьего Совета. Давайте не будем срамиться перед родным казачеством! Время невеселое. Сыграем свадьбу без приданого, пускай взамен наш род ишо обогатится красивыми казачатами.
49
– Ты коров доить умеешь? – спросила Харитина после ужина, когда Фрося, обласканная Домной Лукьяновной и Аглаидой, успокоилась и немножко повеселела.
– Не приходилось мне…
– Ясно-понятно! Вы, городски, только молочко пить горазды, – поддразнила Харитина, уже надевшая платьишко похуже и чирики сыромятной кожи. Голову она туго повязала платком, запрятав под него косу и светлые завитушки на висках.
– Молочко мы никогда не пили, – серьезно сказала Фрося. – Только чай забеливали.
– Чего же так?
– Мало зарабатывают рабочие на заводах. Работаем все, и старые и малые, а только-только на хлеб да на приварок. Из-за того и забастовки.
Харитина сунула в карман кусок пшеничной булки для своей любимицы коровы и загремела подойником. Разговор шел в летней кухне-мазанке, жарко натопленной, хотя дверь была распахнута настежь.
– А у нас в станицах говорят: рабочие – лодыри и сквалыжники. Потому, мол, они бога-то и не признают, на церковны богатства зарятся. То царя спихнуть с трону старались, теперь хотят ликвидировать начисто казаков и наши земли мужикам отдать.
– Насчет земли я не знаю. А казаков у нас не любят оттого, что мешают они рабочим законную прибавку требовать. За богатством-то мы не гонимся!
Харитина стояла с подойником в руке, серьезно смотрела на Фросю ясно светившимися коричневыми глазами.
– Я впервой разговариваю с рабочей. Но тебе верю. Из-за Нестора. Раз он за тебя воюет – значит, стоишь того! За ним девки знаешь как бегают! А он только с виду баловник. На деле-то строгий.
– Хочешь, я с тобой пойду коров доить, покуда Нестор занятый? – предложила Фрося, проникаясь все большей симпатией к Харитине. – Надо же мне присматриваться… учиться, как у вас тут.
– Правда? – обрадовалась Харитина и достала из ларя старые обноски. – Надевай, в базах-то грязно.
Фрося сняла кофту, бережно скинула и свернула широченную юбку.
– Что это на тебе? – ахнула изумленная Харитина, глядя на ее нижний наряд. – Ни воротника, ни рукавов. А материя-то шикарна, шелкова!.. И кружев-то сколько! Что же ты говоришь, плохо зарабатываете? Этакого платья у жены станичного атамана нету. Стой, да оно порвато и в крови. У тебя и кожа-то содрана да поцарапана! – Харитина зорко оглядела сконфуженную Фросю, и на курносеньком, чуть веснушчатом лице ее промелькнула догадка: – Это тебя дома так отделали?
Фрося только губами пошевелила.
– А платье вы с Нестором достали, чтобы под венец пойти?
Фрося кивнула, сгорая от стыда.
– Ну и дураки! Кто же такое под венец одеват? И выкат на груди страшенный. Ладно, что ты не толста, а то бы все наружу лезло, как тесто из квашни. Давай скидавай эту срамоту, пока маманя с Аглаидой не увидали. И снизу-то набрали сплошно круженье! Все снимай! – Харитина заперла дверь на крючок, скатала снятое Фросей в тугой сверток. – Покуда спрячем, после покроишь на кофточки, на отделки. И мне дашь, ладно? А я тебе платье шерстяно подарю. Мы с тобой ростом вроде одинаки… – И Харитина, примериваясь, прислонилась к новой подружке.
Фрося мигом накинула поношенную кубовую юбку, ситцевую кофтенку, напомнившую ей работу на шерстомойке, сунула ноги в чирики, поданные чистосердечно услужливой Харитиной. «Идет баба за барином!» – прозвучала в ушах отцовская поговорка, и снова ворохнулась тоска в сердце.
– Покуда мы с тобой коров подоим, Аглаида с Айшой баню приготовят. Тогда и переоденешься, – рассудительно сказала Харитина. – Коровы у нас подпускны, только с подсосом доят, – говорила она, открывая скрипучие ворота база на втором дворе. – С телятами доим. Почиркашь сколько, а он уж тут, хвостом крутит. Ежели месячный, так его хоть убей: лезет, да и все, а больших отбивать да доишь. А которы коровы на хуторах, тех запускам.
Фрося слушала и не понимала, как собиралась Харитина отбивать телят и куда запускают коров на хуторах.
– У нас здеся везде палки понатыканы. Без палки в баз заходить нечего.
Харитина вооружила и Фросю, с опаской посматривавшую на острые рога коров, сердито косившихся на нее. Их было тут штук тридцать, а между ними, создавая суматоху, уже толклись телята. Оттащив от матери одного, с чертячьими рожками и мохнатыми мосластыми ногами, Харитина пристроилась с ведерком сама, наскоро ополоснув вымя коровы, принялась звонко чиркать молоко в подойник. Но бычок тоже не дремал: разбежался и, конечно, сбил бы девушку, если бы она не вытянула его хворостиной по морде.
И пошло: одной рукой Харитина доила, другой отбивала атаки рослого сосуна. Фрося стояла в нерешительности, боясь подступиться к корове, которую уже сосал теленок. Этот был еще маленький, зато Пеструха, любуясь им, так и заслоняла его.
– Чего ждешь? – Харитина подскочила с молоком, пенившимся в подойнике. – Он тебе и кружки не оставит, ишь как тянет. – Она ухватила теленка за шею, подтолкнула к морде заволновавшейся матери. – Давай садись, я его подержу.
Фрося заспешила, стараясь подражать движениям Харитины: начиркала на землю, себе в рукава, на ноги Пеструхи, попало и в подойник. Харитина заглядывала сбоку, поучала, смеялась…
Молока от такого большого стада надоили совсем немного: телята буйствовали, требуя свою долю, опрокидывали подойники, отталкивали девчат.
– Мученье-то какое! – сказала Фрося, с уважением глядя на ловкую и смелую Харитину. – Зачем бы их привадили вместе? Оставить им половину, пусть сосут.
– Да так уж заведено. Себе масла, молока и каймаку хватат, работникам тоже, не жалем и для телят, чтоб росли хороши. – Харитина потрогала синяк над локтем в продранном рукаве. – Ишь как саданул, проклит! На быках пашем, на быках в извоз и по сено… Вот и душимся с этой скотиной!..
Она процедила молоко, разлила его в крынки и горшки, потом снова провела Фросю по базам.
– Тут хряки и свиньи… Сколько они всего сжирают – не поспевай варить да месить. А куры… Полазий-ка за ними, пакостницами, по яслям да крышам: не несутся в гнездах, все норовят украдкой… Гуси, утки – эти сейчас в лугах, на Баклуше, а зимой только и дела: корми, снежку принеси, в базке почисть. Овечкам корму, козам, лошадям, коровам тоже, да на прорубь либо к колодцу два раза каждый божий день. Хорошо, что не меньше того скотины в кардах зимой помещается да на хуторах. Там уж одни киргизы присматривают. Маманька, когда осердится, бранится, за грехи, мол, послана нам эта благодать, а все равно гордится – хозяева!
– А ты?
– А я бы лучше поплясала часок, с ребятами, с девками балясы поточила. Столько работников держим и сами тут же чертомелим день-деньской. Намотаешься другой раз – к вечеру без рук, без ног…
– У меня спина устала. Должно, с непривычки, – созналась Фрося. – Уж очень я старалась, торопилась, аж кулаки заболели…
Харитина тихонечко отперла калитку в проулок, по которому гоняли скот на водопой. Постояли тут. Вся станица разлинована поквартально. В каждом квартале четыре хозяина: два дома на одну улицу, два на Другую, а длинные переулки – сплошь плетни да мазаные саманные заборы, чтобы было просторно и людям и скотине.
Кланялся журавель в соседнем, ведякинском, дворе, и Харитине не терпелось свести Фросю с Дорофеей, чтобы посмотреть, как поведет себя соседка. И не из злорадства хотела испытать она ее чувства (знала ведь, что та сохнет по Нестору!), а потому, что сама не на шутку ревновала к ней Николая – младшего из трех братьев Ведякиных.
50
Все тут казалось Фросе необычным. Живут себе люди под широким синим небом, не задыхаясь в тесных каморках, не гомонят на пыльных улицах возле трактиров и кабаков, не дышат заводской копотью. Вроде бы хорошо!.. День в поле или в лугах на покосе, а росным вечером под спелыми звездами, не замутненными грязной мглой, едут на телегах в станицу, пахнущую молоком, свежим сеном, терпким кизячным дымком. Ужин сытный, неторопливый, и тихая ночь надвигается из степей на зеленую пойму Илека, гасит в домах огни.
Молодежь угомонится не сразу. Где-то еще звенит гармонь, еще не все песни допеты. Фрося под крылом Нестора слушает стук его сердца; стесняясь Харитины, вьющейся вокруг да около, целуется с ним.
Потом Нестор нехотя уходит, а девчата ложатся вместе в Харитининой светелке, но долго еще шепчутся, поверяя друг другу нехитрые тайны. А потом, когда Фрося лежит без сна, слушая сладкое дыхание умученной работой Харитины, приходит к ней плачущая мать и скорбно приникает к изголовью. И вся нищета наспех сколоченной, зарывшейся в землю Нахаловки надвигается из углов спящего казачьего дома. Душно, жарко делается Фросе, жалобно скулит где-то ребячий голосишко: не Костины ли сестренки просят хлебца у тетки Палаги? И уже не степнячка Харитина, а Вирка, истерзанная недевичьим горем, сидит рядом. Не износить ей синяков, не избыть забот, свалившихся на худенькие плечи. Но до чего же гордая она и злая! И дедушка Арефий, ступая босыми ногами, проходит, с улыбкой глядя на Фросю… И Митя…
«Родные вы мои! – с трудом побарывая желание заплакать, шепчет Фрося. – Всех вас променяла на единственного. Но что же делать, раз я не могу без него? Без него не могу и по вас скучаю. Вирка-то теперь совсем с ума сойдет со своим зверем-батей. Не успевает, поди-ка, оборонять от него братьев и сестренок».
Милая, бедная подружка! Сколько вместе работали на поденной каторге, вместе в редакцию газеты поступили, бегали в кино. И накануне беды, случившейся с ними, зашли они в кинотеатр «Чары», манивший ярко размалеванными афишами. В тот день там обещали «необыкновенное» зрелище первой серии «Духа времени» по роману Вербицкой, «с редким по глубине и интересу сюжетом и небывало роскошной обстановкой». Правда, «Дух времени» тогда где-то запропастился, и вместо него шла, тоже «небывалый шедевр», жуткая драма – «Танцовщица черной таверны». Девчонки прикинули свои возможности и взяли билеты на «Танцовщицу».
А когда они бежали домой, то встретили по дороге Александра Коростелева, избранного председателем Совета депутатов. Он шел в Нахаловку на рабочее собрание. Бойкая Вирка стала с восторгом рассказывать ему про «шикарные и жуткие шедевры», какие им удалось посмотреть в кино.
– Охота вам забивать себе голову разной дрянью?
– Что вы! Красота-то какая!
– Какая же?
– Ну, платья, наряды… И все ж таки будто входишь сам в красивые комнаты и видишь своими глазами, как люди богато живут.
– Скажи пожалуйста! А в жизни вас это привлекает? Нравится вам, что есть богатые люди?
– Так то в жизни!.. – отмахнулась было Вирка, хотя вдруг задумалась, но, еще не сдаваясь, добавила: – Опять же артисты… и так завлекательно про любовь.
– И про любовь в этих боевиках только для спекуляции говорится, именно для завлекательности. Разве она такая, любовь? Тащат на экран слащавые чувствица или страсти-мордасти, а человека-то живого и нет.
Фрося слушала и опять удивлялась тому, что Коростелев так серьезно разговаривал с девчонкой-наборщицей. Сама она никогда не решилась бы пуститься в споры с ним, да еще о любви.
– Настоящий человек должен дышать глубже, чувствовать сильнее. Не может он отрываться от своих жизненных задач, отгораживаясь от людей шелковыми ширмами и прочими прелестями буржуазного уюта.
– Значит, вы против кинотеатров? – спросила Вирка, заметно поколебленная.
– Вовсе нет! Кино – важнейшее достижение современного общества и лучший агитатор в народе. Но пока что оно агитирует за мещанскую мораль, за основы старого мира. Вот когда мы создадим свое пролетарское искусство, тогда этот «Великий немой» станет нашим лучшим помощником в воспитании нового человека.
– И все «небывалы шедевры» побоку? – Вирка неожиданно развеселилась. – Тогда, может, и я в артистки попаду? Чем черт не шутит! Уж я бы сыграла про женщину, у которой муж тиран вроде моего тятеньки! Чтоб все смотрели и плакали!
– Вот видишь, дошло до тебя! – Александр Коростелев тоже рассмеялся.
А Фрося шла молчком, растревоженная, старалась понять, почему, в самом деле, богатые люди, которые так возмущали рабочих, по-иному выглядят в кино? Почему им сочувствуешь, когда они действуют на экране?
Живя в Изобильной и вспоминая Нахаловку, разговоры с Коростелевым, дружбу с Виркой, родную ершистую и в то же время дружную семью, Фрося со странно щемящим чувством душевного холодка думала:
«Теперь Александр Алексеич не считает меня своим человеком. А для кого здесь я своя? Кому я нужна? Только Нестор да я. Я да Нестор. Ну и пусть! Лишь бы он был всегда со мной!»
51
Свадьбу решили справить поскорее. И хотя возраст невесте не вышел, не поехал Григорий Прохорович в епархию, а отогнали они с Михаилом корову во двор станичного попа, обещали щедрое вознаграждение за венчание и получили согласие. Пусть здешний поп и отвечает перед епископом, если выйдет огласка.
– Такое кругом творится: цело государство рушится. Кто теперь станет из-за одной девчонки дело затевать? Все понятья кувырком, – сказал старый Шеломинцев своей Домне Лукьяновне. – Но чтоб не было покора от станичников, приготовить столы честь честью. Охотников пображничать, как телят палкой, не отобьешь. – Он сел на лавку, широко расставив мощные колени, проутюжил кулаком усы, привычно поправил бороду, в медвежьих глазах – недоумение и вроде печаль. – Все не вовремя. Самая страда. Сроду свадеб не игрывали об эту пору. Только ради смуты окаянной поступился: не стал скандалить с Нестором. Что ему приспичило? Ведь вот-вот в полк для военного действия потребуют. Дать бы выволочку, да опять политика препятствует. Ссориться мне с Михайлой второй раз не с руки: фронтовики в станицу гуртом прут. Неохота пока что с этой молодью в контры вступать, ишо одумаются, пригодятся для делов казачьего войска. Потому, видно, и начальство временно рукой на них махнуло, не может сейчас совладать.
– Арбузы у нас ноне до срока вызрели на хуторской бахче, где рассадой посадили. Медку свеженького арбузного не сварить ли, отец? – соображала свое Домна Лукьяновна.
Шеломинцев глянул на нее, как сквозь пустое сто, угнетенный государственными заботами:
– Сказал ведь: чтоб покору не было! Велю гурт овец пригнать со степи, двух бычков годовалых забьем, пусть наготовят студню и пашкету на всех, ишо нетель выходилась одна – пудов двадцать потянет. Свиней… сама отбери. Киргизцы из аула, чай, припрутся.
– Ты уж, отец, не сажал бы их за чисты-то столы. С души воротит глядеть, как они грязными ручищами в блюдо лезут!
– Которых надо – посажу. Уваженье требуется. – Есаул немножко повеселел, снова поправил, обласкал свою окладистую бороду. – Покосы, считай, задаром у них берем. Сколь ни попросишь, столь и дают: хоть сто десятин, хоть сто тысяч. Ровно ребята малые.
– А как тебе она кажется? Ефросиньюшка-то?
– «Кажется»! – передразнил Шеломинцев и с минуту отчужденно, молча смотрел на жену, обросшую жиром, неповоротливую, нелюбимую. – Нестору глянется – и ладно, а мне от нее ни радости, ни прибытку. Неонила Одноглазова, та, по крайности, тысяч полтораста чистоганом в дом принесла бы.
– Да бог с ней, отец! Нескладна, непригожа девка. И рука-то у ней не права с той поры, как сломала она ее, да ишо умом недовольна. А деньги… – Домна Лукьяновна подошла бочком, таинственно сощурила и без того махонькие глазки. – Патреты царевы в городе сымают. Вон куда хватили! А деньги…
– Деньги всегда будут, – резко оборвал ее Шеломинцев. – Николаевски ли, керенски ли. Без царя ишо куда ни шло… Полгода при всех беспорядках прожили, а без денег дня не протянешь. То-то и оно!..
Снова помрачневшим взглядом он окинул горницу. Большая. Светлая. На побеленной стене портрет свергнутого государя в круглых золотых эполетах, лицо благообразное, чистое, бородка уголком подстрижена. В другой раме – молодая императрица, молочно-розовая, как месячный поросеночек. Волосы пышно взбиты, по голой груди низки-борочки белого жемчуга.
«Дал ей, бусурманке, волю Николай, вот она и положила клеймо на всю царску фамилию. Может, ишо тоже по сговору с Вильгельмом работала, чтоб расшатать устои, уронить Российско государство. Всыпал бы ей розгами по розовой-то… Враз бы утихомирилась».
Насчет денег Шеломинцев сам подумывал:
«Введут эти временны правители еще каки-нибудь купоны, и пропадут в банке мои денежки. Те, что дома в кубышках, – звонки золоты останутся, но ведь это капля в море».
Он снова оглядел горницу.
«Ни ковров, ни мебелей городских. Кровати просты, деревянны: все одно спим, как киргизы, на полу. Перины кошмами обернуты, тулупами закрываемся. Все богатства – скот да земля, и про то социалисты – язви их душу – раструбили на всю Расею. А как оно, это богатство, достается – никому не ведомо».
Женский смех во дворе спугнул его раздумья. Григорий Прохорович шагнул к окну, затаился у косяка в простенке.
Нестор возле летней кухни пытался поцеловать Фросю, держа за косу и локоть, а она, откинув голову, смеялась и клонилась назад, не в силах защититься, потому что в руках ее был арбуз.
До чего же гибка она, камышинка озерная! Юбка зонтом раскинулась, руками смуглыми, загорелыми цепко держит белый шар, а лица не видно, смеха уже не слышно: целует ее Нестор, пойманную в кольцо рук, полуопрокинутую. До тех пор добаловали – чуть не перевернулись через порожек, так и опустились, сели наземь, и арбуз уже на коленях Фроси. Харитина с ножом подоспела, чуть тронула, и разломилась красно-серебристая мякоть. Осторожно, чтобы не брызнуть на платье, надкусывает Фрося сладкую скибку арбуза, а Нестор хочет вместе с нею от одного ломтя отведать, и она, улыбаясь, подносит свой кусок к его губам.
Пустяки? Баловство? Но ради такого баловства города летят!.. Сроду бы не взял Григорий Прохорович куска, надкушенного его женой, и не целовал так никогда, и не падал рядом с ней, опутанный любовью, точно птица сетью. Буднично было все, как молотильный камень. Надо – привязал, повез. Обмолотил хлеб, и опять лежит серый, тяжелый, на задворках до нового обмолота.
А тут… Девки проходят, аж бледнеют от зависти. Парни, сажен десяти не дойдя до ворот, рубахи под ремнем одергивают, «висок», под фуражкой раскудрявленный, трогают, прихорашивают, и даже у самого Григория Прохоровича какой-то росток веселый в душе подается, проклевывается при виде избранницы Нестора.
«Может, зря мы родителев слушали – ломали свою жизню, потому и радости в семьях не было. Кубышки только набивали, а наступило безвременье, и прахом могут пойти труды… Не-ет, надо свадьбу сделать, чтобы всем запомнилась. Не утечет пшеничка. Котора поспелей, работники-поденщики уже лобогрейками покосили, в бабки поставили. Покуда пускай в обрывы возят да в скирды кладут. Возьмем свое. Гульнуть, чтоб небу жарко было. А то пропадут, обесценятся деньги, да и самих-то неведомо что ждет в смутно это время».
Так думал Шеломинцев…
…Много глины идет в казачьем хозяйстве: там умазать, тут подбелить, саманные кирпичи для ограды сделать, печь в летней кухнешке или в доме сложить. Повсюду, где есть глина, роют за станицами ямы. Потом в них сваливают мусор со дворов. На реку – по неписаному древнему договору – никто дряни не вывезет, и вода в ней идет, как стеклышко, чистая, светлая, только в бездонных омутах, словно завороженная, дремотно и загадочно смотрит в небо, заманивая в черную глубину плывущие облака. Зато рыбы первейшего сорта в Илеке полно. Судаки и окуни «скуснее нигде нету», сазаны аршинные, лещи красноперые – кипящее в хрустальных струях живое серебро – ловить не переловить! И казаки ловят безданно, беспошлинно: кто бреднем, кто сетью, или ставят плетневый чегень с ловушками через весь сверкающий плес.
Фрося и Нестор шли по песчаному яру над поймой, шурша выгоревшей уже травой, к глиняным ямам, куда женщины увезли на быках чугунные котлы, черпаки, большие ножи, словом, целую кухню для варки арбузного меда. Чтобы не отвлекать работников от уборки хлеба, Григорий Прохорович, прихватив Михаила и Харитину, сам с рассвета до полудня возил арбузы в фурманках с хуторских бахчей. Замужние казачки и девчата, отработав свое в полях, спешили на толоку, как в церковь. Всем хотелось принять участие в редкостном по времени веселом событии.
– Нравится тебе у нас? – спросил Нестор, срывая на ходу веточку дикой мальвы и осторожно вкалывая ее в косу Фроси.
– С тобой мне везде хорошо. Смотри, деревья тянутся над яром, будто на цыпочки встают, чтоб заглянуть сюда.
– Интересуются, наверно, какую невесту я себе привез! Скорее бы прошла вся эта свадебная канитель и нам остаться вдвоем.
– Сегодня и так до утра просидели вдвоем на лавочке. Люди затемно снопы возят, а мы как голуби-лодыри… Твоя маманя сказала, что мы совсем изведемся, и придется мне под венец румянец наводить.
– Отоспимся, успеем. Я боюсь, чтобы нас в полк не вызвали. Как ты тогда без меня?
В эту минуту Фросе действительно не мешало бы навести румянец, но только миг печали, раздумья – и снова беспечно-преданный взгляд:
– С немцем воевать тебя не угонят, а в бараки – новобранцев учить – не страшно. Я тут привыкать начинаю. Не навечно ведь расстанемся.
52
Дорофея вела себя так тихо, такой отрешенной от всех выглядела, пришибленная появлением Фроси, что родные начали бояться, как бы она не натворила чего.
– Ну, а если бы он на Неониле женился? – шипела Алевтина, стараясь, хотя бы разозлив, вывести сестренку из состояния этой странной безучастности.
Бледно-голубые глаза, точно пустые фарфоровые чашки, и голос ровный, беззвучный, неживой:
– Тогда я знала бы, что и он несчастный…
Сестры тоже пришли к глиняным ямам, где, окончив страду, все хозяева каждую осень сжигали мусор, а потом устраивали печи-горны и варили мед из арбузов. Шеломинцевы впервые нарушили прочно установленный обычаем распорядок времени.
Печи уже дымили вовсю. Над ними были поставлены два большеухих кубастых котла, ведер по восемнадцати, да три котла развалистых, вроде глубоких тазов. Набежавшие девчата и женщины, – опаленные жгучим солнцем, в будничных платьях, но все-таки успевшие прихорошиться, – начали резать арбузы пополам и выгребать из них мякоть в кадки железными ложками-чистилками. Другие рубили ее там лопатами, чтобы при варке семечки скорее садились на дно котлов. Аглаида, Домна Лукьяновна и могучая батырша Айша загружали изрубленной мякотью кубастые котлы, к которым мальчишки и девчонки подтаскивали дрова и кизяки.
Дорофея, вооружась ковшом на длинной деревянной ручке, помешивала красное месиво, которое должно лишь слегка кипеть на медленном огне, чтобы не подгореть. Когда оно сварится, его процедят, мякоть – в бочки на корм свиньям, семечки – на маслобойку, а сусло выпаривается в развалистых котлах, пока не станет черным, тягучим, приторно-сладким медом. А тем временем кубастые котлы снова заполняются арбузной мякотью.
Для свадебной стряпни хозяйки варили тут же из сусла с тыквой сладкое варенье, отлив неуваренного сусла и на брагу-кислушку.
– Настоящий завод! – шутил Нестор, толкаясь среди девушек и женщин, которые нарочно оттирали его от Фроси.
– Иди-ка ты отсюдова, – притворно шумела на него Аглаида. – Тебе, жениху, пышек из семечек напечем.
Нестор все еще любил пышки из муки толченых арбузных семечек, обваренной и смешанной с медом. «Лучшее угощение для ребятишек», – подумал он, ища взглядом Фросю.








