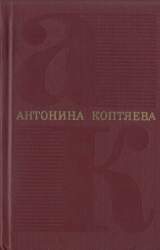
Текст книги "Собрание сочинений. Том 6. На Урале-реке : роман. По следам Ермака : очерк"
Автор книги: Антонина Коптяева
сообщить о нарушении
Текущая страница: 32 (всего у книги 36 страниц)
Костя согласно кивнул и стал читать ответ ревкома на ультиматум:
«1. При любом посягательстве на Советскую власть будут расстреляны арестованные офицеры, юнкера и белогвардейцы.
2. За каждого убитого красногвардейца ответят своей жизнью десять представителей оренбургской буржуазии.
3. Если станица окажет содействие контрреволюции, то будет беспощадно уничтожена артогнем.
4. Все станицы, которые добровольно в три дня не сдадут оружие, будут подвергаться артобстрелу».
– Крепко сказано! – прошептал Митя.
– И правильно, а то опять поднимется вся контра, – горячо одобрил Харитон. – Казаки от белогвардейцев не отстанут. Жен и детишков им вывезти из станиц на хутора – нет ничего! И скот угонют, чтоб сопротивленье без большого урона оказать. Пускай, мол, палят по пустым дворам. Потому и надо строгостью их оглушить, покуда они не успели сговориться меж собой.
– Довольны, граждане? – шутливо по тону, но с серьезным видом спросил Коростелев.
– Очень даже. Ежели их не постращать, они завтра резню устроят.
Коростелев задумался, в недоумении развел руками.
– Сколько раз уже обращались мы от имени Советской власти к «гражданам казакам»… Призывали их к мирной жизни, к совместному труду с рабочими, чтобы ликвидировать разруху в стране. А все подстрекают их против нас то богатая верхушка, то старики фанатичные, то господа офицеры. Ну ладно… Рассказывайте, как вели себя во время ареста эти «благородные» партизаны?
Костя и Харитон снова принялись вспоминать подробности ночной операции, а застенчивый, несловоохотливый Митя присел в кресло у порога. Но только он устроился на непривычно мягком сиденье, кто-то тихонько постучал в крашеную дверную филенку. Митя открыл дверь и точно пристыл у косяка, глядя в светло-синие глаза Вирки Сивожелезовой. Она бережно несла свертывавшиеся в трубки полосы бумаги с колонками газетного текста. На волосах ее блестели, как роса, тающие снежинки, а бумага была совсем сухая, видно, девушка бежала, пряча ее под своей байковой шалью, стянутой на плечи.
По тому, как сразу бросился навстречу ей Коростелев, Митя понял, что газета приготовила еще одну «бомбу» для белогвардейцев.
– Чего же ты так налегке? – упрекнул Коростелев.
– Да тут от типографии близко. Александр Алексеич, мне бы вас на два слова. – Вирка, умоляюще сложив худенькие руки, посмотрела на Коростелева, который, положив полосы, отошел с нею в сторону, оглянулась на ребят. – Вы всех винтовками вооружили… А мне бы хоть кольт какой-нибудь…
– Кольт? – Коростелев засмеялся. – Зачем тебе такую громоздкую штуку? Еще пулемет вздумаешь попросить!
– Но я вовсе безоружна! А меня уж давно убить посулились.
– Никто тебя теперь не посмеет тронуть, а оружие домой принесешь – твои же пацанята натворят беды.
– Не натворят. Илюши теперь нет… Не дожил он до вашего прихода, а остальные уж все понимают. И сестренка Мотька в руках их держит. – В глазах Вирки светилась такая надежда, что Коростелев не устоял: достал из своего портфеля браунинг в кожаном чехле и положил его в жадно протянутую ладонь наборщицы.
– На! Владей! Но осторожно – держи при себе. Стой, покажу, как им пользоваться, где тут предохранитель!
Митя удивленно и радостно смотрел на тонкие под легкой жакеткой плечи девушки, на светлый узел ее теперь уже заправской прически.
«Красивая она стала. Красивая и хорошая», – думал он.
– Что ты на меня воззрился, будто фотограф? – Глаза Вирки сияли нестерпимо, на губах заиграла усмешка… и погасла. – Поправился, думать забыл? Спасибо, Харитон да Павлик навещают.
Митя вышел за ней в коридор:
– Не забыл я тебя, а просто целые дни в работе и в красном нашем отряде разные поручения. Я ведь столько провалялся – вся душа изболела.
– Значит, наверстываешь, что упустил?
Он молча кивнул, продолжая неотрывно глядеть на нее:
– Давай будем дружить. Я тебя всегда жалел, а теперь…
– А теперь?.. – повторила она, еще настороженно ощетиненная. Но что-то дрогнуло в ее лице, мягче заблестели глаза, и вдруг, словно по волшебству спрятав свои колючки, она сказала с тихой улыбкой: – Ты со мной обращайся осторожно, будто со стеклянной вазочкой. Пустых слов мне говорить не надо, я ведь не привыкла радоваться. Когда плохо – терплю. Станет еще того хуже – в комок сожмусь, но выдержу. А хорошего мне помаленьку, как хлеба тому, кто помирал с голоду. Это я нынче очень поняла, когда наши в Оренбург входили. Бегу навстречу, а сердце в груди так и скачет. Вот-вот надорвусь и упаду замертво.
– Уничтожим гадов – тогда и радость придет. Не надо будет к ней привыкать, бояться, что она опять скроется, – сказал Митя, потрясенный не словами, а выражением лица девушки, по годам еще подростка, но с такой тяжелой судьбой, которая могла бы задавить и взрослую женщину.
– Мы думали, ты уже домой ушел! – весело сказал Харитон, выйдя следом за Костей из кабинета. – Хорошую статью дадут насчет суда над Барановским. Суд обратят против всей эсеровской партии… Я крепко запомнил, как этот плюгавый Барановский одурачивал наших рабочих. И такую крысу несли на руках по городу, будто икону! А он потом с Архангельским да с Семеновым-Булкиным в своем «Комитете спасения» требовал от Дутова рабочей крови. Атаман и без них горазд был ее проливать!
77
На улице ребят встретил неожиданно разыгравшийся буран. Совсем недавно светило солнце и словно летом голубело небо, а тут северный ветер стремительно нагнал тучи и пошел куролесить, дико завывать над городом.
– Вира! Вир! Подожди, я тебе свой полушубок дам! – кричал Митя.
Но Вирка, смеясь, завернулась потуже шаленкой и, тонкая, гибкая, сама похожая на вихрь, помчалась, развевая подолом широкой юбки, махнула свободной рукой – другою прижимала к груди шаль и браунинг – и мгновенно точно растаяла, исчезла за углом.
– Вот сумасшедшая! – восхищенно сказал Харитон.
– Не стрельнула бы в себя нечаянно, – обеспокоился Костя.
Митя молчал: не было таких слов, чтобы выразить то, что творилось у него на душе.
За вокзалом, на пустыре буран набросился на ребят с новой силой, толкал их обратно, швырял им в глаза пригоршни снега. В степи он гудел набатом, и сизая мгла катилась там клубами, как казачья конница.
– Ах, хорошо, ребята! – изо всей мочи от избытка чувств крикнул Харитон, подставляя ветру широкую грудь, и громко запел:
Вихри враждебные веют над нами,
темные силы нас злобно гнетут.
Костя подхватил звучным баритоном:
В бой роковой мы вступили с врагами,
нас еще судьбы безвестные ждут.
Митя обнял друзей большими руками за плечи, тоже подстроился к их шагам и к песне:
Но мы поднимем гордо и смело
знамя борьбы за рабочее дело.
Буран злился, однако не мог заглушить молодые, дружно спевшиеся голоса, не мог остановить напористый шаг юных красногвардейцев, и все яснее вставали перед ними в белесой сумятице корпуса родного завода.
Оренбург – Николина гора 1966–1971
По следам Ермака
(из путевого блокнота писателя)
Поздняя была в тот год весна в Тюмени.
Уже шла вторая половина июля, а хлеба стояли еще как густо-зеленая щетка добрых озимых в осеннее время. Свежо и холодно голубело небо над полями, над шоссе, плоско лежавшим среди тучных черноземов.
Вот она – Сибирская низменность, дно великой нефтяной чаши! Но вышек здесь не видно. Это юг области – житница ее, издавна прославленная пшеницей.
Нефть шумит севернее – в Ханты-Мансийском округе, по берегам Оби. А еще севернее, к Ямалу и на северо-западе, где края низменности приподняты, открыты залежи природного газа: Березово, Тазовское, Уренгой…
– Погода у нас очень изменчива, – сказали нам тюменцы, на которых впервые было устроено такое нашествие… писателей. – Природа нас не очень балует: зимой – морозы, летом – комары, тучи гнуса да непроходимые болота. И наводнения… Нынче второе за три года. Заметало песком луга в поймах Оби и по Иртышу. Много скота погибло. Пришлось вывозить поголовье с животноводческих ферм в другие районы.
Тюмень – старый сибирский город на берегу Туры, притока Тобола, – бурно растет и в центре и на окраинах. Возле нашей скромно уютной гостиницы «Колос» на улице Мельникайте тоже зияют разрытые котлованы, из которых поднимаются, выпирают не по дням, а по часам кирпичные стены.
Этот веселый беспорядок радует: нефть и газ, открытые в Тюменской области, рождают среди тайги новые поселки и города и вдохнули жизнь в старые. Одна мысль о том, что мы все это увидим своими глазами, воодушевляет.
Наш писательский отряд из сорока восьми человек прибыл сюда на декаду советской литературы. Мы будем выступать перед народом со своим творческим отчетом и узнаем, в каких условиях живут и трудятся нефтяники Тюмени. Конечно, каждый из нас надеется найти тему для очерка или стихотворения, а может быть, первая разведка увлечет и на большие повести. Наши идеи и замыслы рождаются при встречах с людьми, от впечатлений, разговоров, от размышлений и сердечной взволнованности – всего, чем так богаты дальние пути-дороги.
Тюменцы тоже приняли наш приезд всерьез, и на встрече в обкоме КПСС второй секретарь Геннадий Павлович Богомяков, геолог по профессии, кандидат геолого-минералогических наук и лауреат Ленинской премии 1970 года, с увлечением рассказал нам о делах области. Прежде всего о ее гордости – нефти и газе.
Мы смотрели на секретаря обкома, совсем молодого, русоволосого, чернобрового, по-настоящему влюбленного в свое дело, и думали:
«Такие богатства открыты, а ведь очень многое еще не разведано на этой необжитой территории с ее суровым климатом!»
– До тысяча девятьсот шестьдесят четвертого года Госплан СССР сопротивлялся разработке наших месторождений: не верил в их перспективность из-за отдаленности от обжитых мест, – говорил Богомяков. – Но наша нефть идет главным образом самотеком и выгодна для страны. В последние годы открыто еще такое месторождение нефти, как Самотлор. Месторождение газа открыто в Уренгое.
Рассказал нам секретарь обкома и о лесных богатствах Тюмени, о рыбе, «которую мы еще не всю выловили и отравили» (как принято говорить о нефтяниках), об осетрах и красавице нельме, нежном муксуне и сосьвинской селедке, единственной в мире, о подземном теплом море Западно-Сибирского бассейна.
Нас просто заворожил этот красивый человек, а когда он заговорил о людях, мы поняли, что труд тюменцев – настоящий подвиг. Кого ни возьми: разведчиков (геологов и геофизиков), строителей, лесорубов, дорожников – смелость и трудолюбие прежде всего, и выносливость, порою превышающая меру человеческих сил, и – как железный закон для каждого – забота о товарище. Запомнились нам имена первооткрывателей. И это сразу, после разговора в обкоме, привело меня к организатору тюменских разведок Юрию Георгиевичу Эрвье, начальнику главка Тюменьнефтегеологии.
Вот он сидит передо мною, лауреат Ленинской премии, человек-легенда здешних мест. Еще молодой в свои 62 года, с щедрой проседью в вихрастых волосах и цепким взглядом широких глаз. Высокий лоб, изборожденный волнистыми морщинами, послушными движению густых черных бровей, крупный с горбинкой нос и твердая линия рта – все говорит о волевом характере, и небольшая фигура Эрвье кажется очень значительной. Сразу видно – вдумчивый и в то же время решительный товарищ.
Я вцепилась в него, словно репей. Кто он родом? Откуда? Какими путями пришел на Север? Как стал геологом?
Эрвье сам из породы пишущих людей (на прощание он подарил мне свою книгу «Сибирские горизонты») и мои расспросы, стремление вывернуть его наизнанку принял как должное, а когда стал вспоминать прошлое, то потеплел, мягкая лукавинка заблестела в темных глазах, и представился он моему воображению веселым озорником и забиякой.
– Наверно, в школе не одна девчонка из-за вас плакала?
– Нет, с девушками я был всегда предупредителен, можно даже сказать, галантен.
Похоже и на это: дед и бабка Эрвье приехали в Россию из Франции в семидесятых годах прошлого века. Отец родился в России. Работал механиком. В семье, кроме Юрия, было еще четверо детей. Жили в Тбилиси, который стал второй родиной для французских выходцев. До девятнадцати лет Юрий проработал на мыловаренном заводе подмастерьем у мыловара. Потом окончил рабфак и уехал в Среднюю Азию. На крыше вагона уехал. Любознательного и пылкого юношу влекли романтика, перемена мест и впечатлений.
– А может быть, бегство от несчастной любви?
Эрвье солнечно улыбается – все его лицо знойного, хотя и побеленного сединой южанина расцветает.
– Любовь была, но не несчастная, а просто безответная, даже без объяснения. Моя принцесса училась в Тбилисской балетной школе вместе с Чебукиани. Мы, мальчишки, наблюдали в окна, как они выплясывали (школа была на нашей улице). С этого и началось: волнение встреч, мечты о будущем. Детское увлечение. – Эрвье задумчиво шевелит черными бровищами, и легкая зыбь пробегает по морщинам лба, а губы улыбаются чуть грустно и примиренно. – Были в какой-то мере друзьями. Потом она уехала в Ленинград и там вышла замуж.
– Что же вы делали в Средней Азии?
– Работал в Ургенче, это в Узбекистане, грузчиком на хлопкоочистительном заводе…
– А геология?
– Она привлекала меня с детства. Мальчиком лазал по горам вокруг Тбилиси. Туризма тогда не было, просто ходил, потом еще и охотился, но всегда собирал камни. Смотрел, думал, как земной шар построен. У нас есть озерко Лиси (теперь там лодочная станция), я на этом озере пропадал каждый свободный час. Находил ракушки, черепки, окаменелое дерево, тащил домой. И вот после Ургенча поехал в Ленинград: хотел поступить в Горный институт. Но был ноябрь месяц, прием уже закончился…
Я смотрю на Эрвье и вижу, как стройный, чернобровый юноша, странно сочетавший в себе серьезную вдумчивость и резвость озорника, бродит по туманному Ленинграду под мокрыми хлопьями снега, ищет встречи с нею – золотым лучом своей юности.
– Мне таки повезло, я встретил… – Эрвье искоса взглядывает на меня, и в уголках его глаз и губ вспыхивает уже знакомая ласково-озорная и чуточку печальная усмешка. – Встретил прораба разведочной газовой партии из Мелитополя и, подружись с ним, поехал туда рабочим. С тех пор – все!
В истовости этого восклицания я ощущаю важность сделанного человеком открытия – нашел свое призвание.
– А что дали те разведки?
– Так, небольшой газочек…
И опять слова геолога выдают на-гора его глубинную духовную приверженность: «газочек», а значит, и «нефточка», как говаривали обожженные ветрами и морозами буровики Татарии.
– Так и началась она, кочевая жизнь разведчика, и даже женитьба (жена работала в геологической партии коллектором) не принесла оседлости. Искали нефть, бурый уголь и руду в Кривом Роге, Кировограде и Кременчуге.
В 1932–1933 годах Эрвье с отличием закончил высшие инженерные курсы, получив диплом инженера-геологоразведчика. И снова поиски нефти и газа на юге страны, но произошел конфликт с главным инженером треста…
– Первый мой деловой конфликт. Я – прямой, а мы не сошлись взглядами на разведку, на методику работы. Характеры у обоих оказались непримиримыми, но бороться с ним было трудно: он занимал пост выше, и я ушел. Несколько лет работал в коммунальном тресте: искали воду в Одессе, Николаеве, Тирасполе. Бурили артезианские колодцы, которые потом, во время войны, очень пригодились, когда немцы захватили Беляевский водопровод. Я эвакуировал сынишку и жену, отказался от брони и пошел в отдельный отряд глубокого бурения Южного фронта. Носили мы форму как гидросаперы, бурили скважины и раздавали воду по карточкам – полведра на человека. После отступления из Одессы я стал командиром этого отряда.
– Я не знала, что в армии были буровики…
– Ну, как же! Представьте себе обстановку, когда немцы прорвались к Моздоку, а мы отступили в Туапсе… Под Моздоком воды не было. Кто имел воду – держал фронт. Тут мы возили ее на передовые со своих артезианских скважин в резиновых баках. Потом наша армия пошла в наступление, и я командовал саперным батальоном. В конце тысяча девятьсот сорок четвертого года меня демобилизовали: получил назначение начальником геологической экспедиции в Молдавии. Условия там со здешними, конечно, не сравнить. Климат мягкий, масса фруктов. Всюду жилье. Дороги… Да что говорить! Разве нам, разведчикам, это главное?! Вышло постановление Совмина о развитии работ по нефти и газу в Сибири, и я поехал в Тюмень. Тут был уже трест «Тюменьнефтегеология», а нефть искали в районе Челябинска: считали, что там, в обжитых районах, больше перспектив. Три года и я там искал. Нефть была, но маленькая. В тысяча девятьсот пятьдесят пятом году меня назначили сюда главным инженером Тюменского треста, а еще через год, когда начальник треста пошел на пенсию, мне пришлось возглавить всю организацию разведок в Тюмени. Теперь уже совсем прижился тут. Старший сын, тоже геолог, работает в Томске. И дочь – геолог, а младший сын бурит в Горноправдинске.
– А как справляетесь с попутным газом? Собираете?
Эрвье вздыхает. Между бровями его ложится глубокая складка.
– До сих пор не справились. Факелы горят у всех действующих скважин.
– Кого из людей было бы интересно там встретить?
Юрий Георгиевич сразу оживляется:
– Если попадете в Горноправдинск, то поговорите с Фарманом Салмановым – начальником геологической экспедиции. Он Герой Труда, один из первооткрывателей обской нефти. И вообще… – Веселая улыбка досказывает остальное: видно, Фарман очень симпатичный и огневой, жизнерадостный человек. – В Нефтеюганске спросите Галяна, тоже начальника экспедиции. Он украинец. Еще надо бы поговорить вам с буровым мастером Мелик-Карамовым. Отличный бурмастер! В Мегионе – главный инженер Каталкин, скромный, с хорошим взглядом на дело, очень энергичный. И еще начальник экспедиции Абазаров – открыватель Самотлора, лауреат Ленинской премии. Этот из Краснодара. Очень колоритный. А в Сургуте молодой геолог Евграф Тепляков…
Нефтеюганск, Мегион, Самотлор, Сургут… Да ведь это все в Ханты-Мансийском округе. Какая необъятная земля лежит перед нами! Мы прилетели в Тюмень – «ворота в Сибирь» – за два с половиной часа, покрыв расстояние, которое первые сибирские землепроходцы, ссыльные и переселенцы одолевали месяцами, может быть, годами… Сюда из чусовских городков с боями пришла четыре века назад дружина Ермака, разбила войско князя Епанчи и 1 августа 1581 года заняла Чинги-Туру – крепостцу татарского ханства, где через пять лет была основана нынешняя Тюмень.
Из Чинги-Туры Ермак Тимофеевич с боями проплыл по Туре и Тоболу и стал лагерем на устье Тобола в Атинском городке – предтече Тобольска. Ему и не снилось тогда, что, по существу дела, он явился самым первым открывателем сибирской нефти. Простой казак, малограмотный, коренастый крепыш с упрямо-смелым взглядом, он после трехдневной битвы под Искером на Иртыше – центром Кучумова царства (верст на пятнадцать выше устья Тобола) – разгромил татар и занял Искер. Но татары покорились не сразу, и через три года в одной из стычек Ермак погиб, утонув возле устья реки Вагай. Наверное, не только тяжелая кольчуга была тому виной, но и прижимное течение у подмывных берегов крутого яра, который теперь называется Ермаковским, где Иртыш изгибается громадной стальной подковой.
Песня о гибели Ермака не зря живет одной из любимых в русском народе. Привольная, могучая, она гремит уже давно и будет греметь в веках заслуженной славой героя-землепроходца, умножившего богатство и силу нашей земли, самой смертью своей утвердившего победу над грозной Сибирью.
Нам, как и Ермаку, предстоит путь из Тюмени в Тобольск, но не по реке Туре – сто восемьдесят пять километров, да еще четыреста сорок километров по Тоболу до устья его на Иртыше, и не на воздушном корабле – немыслимой мечте пешего казачьего воинства, а – поднимай выше! – по железной дороге.
Я давно уже за недостатком времени отказалась от железнодорожного транспорта, но в поезд дороги, как стрела уходящей на север от Тюмени, ведущей через Тобольск на Сургут, еще не законченной, но уже давшей второе дыхание «стольному граду Сибири», в этот поезд я сяду с великой охотой и душевным трепетом.
Но прежде, – после торжественного открытия декады и выступлений на заводах в Тюмени, – мы побывали в Ялуторовске, бывшем уездном городе на Тоболе, где жили декабристы и где находится единственный в стране музей, им посвященный.
Двадцать второго июля в жаркий день (погоду мы с собой захватили московскую) наша большая бригада выехала туда на легковых машинах и автобусах. Мелькают по сторонам шоссе чудесные березовые рощи, сосняки, изумрудно-зеленые поля. Вдруг в просветах среди лесов на равнине голубеют разливы громадных озер.
И вот он, Ялуторовск, бывший когда-то крепостью, обнесенной острогом, сторожившей Тюмень от татарских набегов. Сейчас это оживленный, славный городок. От старого – добротные деревянные дома, из лиственницы, длинные заборы по-сибирски просторных оград; новое – гордость ялуторовцев – молочно-консервный комбинат, один из крупнейших в стране. После осмотра его отлично оборудованных цехов мы с удовольствием не то что попробовали выпускаемую продукцию, а, присев у длинных столов, по-настоящему воздали должное необыкновенным по вкусу свежим и нежным сыркам, кефирам и мороженому. Нашлись охотники и до сухого масла и молока в порошке.
Поговорив с рабочими, мы снова прошли по высоким, светлым цехам и поехали в Музей декабристов. Он помещается в одноэтажном деревянном доме, обшитом потемневшим от времени тесом, где с 1838 по 1856 год жил Матвей Иванович Муравьев-Апостол.
Странно и хорошо смотреть на этот дом, где протекала жизнь ссыльных дворян-революционеров. Как ходили Муравьев-Апостол и его друзья по немощеной, наверное, поросшей травкой улице с березками в палисадниках, с тучами надоедливых комаров? Как смотрели их жены, привыкшие к столичным выездам, балам, нарядам, в низенькие окна со ставнями и железными болтами…
С волнением входили мы на скромную веранду, пристроенную Муравьевым-Апостолом после покупки дома, где он сначала жил на квартире.
У порога нас встретил директор музея Николай Васильевич Зубарев, ветеран Великой Отечественной войны, майор с четырьмя рядами орденских колодок, местный уроженец, громкоголосый, огромного роста, длиннорукий и длинноногий человек. Блестя глубоко сидевшими, ярко-черными глазами и точно лакированным, плотно лежавшим зачесом волос, разордевшись всем смугло-пригожим лицом, он азартно и влюбленно, будто о своих лучших знакомых, рассказывал о Матвее Ивановиче и его друзьях, водил нас по комнатам, гордо хвалился экспонатами, которым позавидовал бы любой столичный исторический музей.
Ялуторовск служил местом ссылки – для декабристов, народовольцев, большевиков; много замечательных людей России прошли сюда наряду с уголовниками по таежному тракту, громыхая кандалами. Тайга безлюдная, на тысячи верст окрест, была для них самой строгой тюрьмой: сторожила зимой лютыми морозами, глубокими снегами, летом – болотами и тучами комаров да липкой, тоже кусачей мошкарой, которую народ наименовал коротко и метко – «гнус». Но, попривыкнув к жизни в отдаленных краях, ссыльные убедились, что Сибирь не так уж сурова: она баловала их рыбой, которой искони славились здешние реки, дичью, пушным зверем, кедровыми орехами, ягодами, грибами. Возникли добрые отношения с местными жителями.
Не имея надежды вырваться отсюда, Матвей Иванович написал письмо потомкам – «будущим археологам для пользы и удовольствия», – и оно, запечатанное в кургузой бутылке с длинным, как у гуся, горлом, девяносто три года пролежало под печью. В 1948 году во время ремонта дома, когда вынимали толстую плаху пола, нашли это письмо, поехали с ним в Москву и после того решили открыть в Ялуторовске краеведческий музей памяти декабристов.
Осматриваем гостиную, обставленную мебелью карельской березы: диван, кресло, стол с чернильным прибором и гусиными перьями – личные вещи Муравьева-Апостола. На камине – часы, принадлежавшие ему. И картины именные: декабристы в Ялуторовске, дом Пашкова в Москве – гравюра столетней давности. Люстра со свечами – тоже того времени, как и маленький черный клавесин с двумя подсвечниками. В доме всегда шумела молодежь: у Матвея Ивановича было четыре сына и шесть дочерей. В кабинете в старинных шкафах хранятся семьсот книг с автографами Муравьева-Апостола, и, конечно, очень досадно, что мы не смогли за недостатком времени хотя бы полистать их.
Девять человек, участников событий на Сенатской площади отбывали ссылку в Ялуторовске, не теряя духовной связи с центром. Тринадцать лет прожил Иван Иванович Пущин, получив здесь более пятисот писем. Иван Дмитриевич Якушкин (домик которого перенесен теперь во двор муравьевского дома, где строится новое каменное здание для музея декабристов) умудрялся получать через почтмейстера даже «Колокол» Герцена!
Декабристы устроили здесь парк, громадные березы которого сохранились до сих пор, окруженные молодой порослью, и многому научили местных жителей. Василий Карлович Тизенгаузен, проведший в Ялуторовске двадцать три года, первым посадил саженцы яблонь, Муравьев-Апостол разводил картофель, а Иван Дмитриевич Якушкин открыл первую в России школу для девушек.
– Пять районов нынешней области входили в Ялуторовский уезд и два Курганских, включая и город Курган.
– Жил здесь и Евгений Петрович Оболенский, бывший адъютант командующего всей пехотой России, и Николай Басаргин, который женился на старшей сестре Менделеева – уроженца Тобольска, – с увлечением говорил директор музея, и мы, понимая его радостную гордость, от души разделяли ее.
В тот же день отправились на рыбалку, на озеро Сингуль, неподалеку от Ялуторовска. Надобно сказать, что рыбу мы ловили… ложками в столовой замечательного пионерского лагеря, на огромной веранде, затененной зелеными завесами, сделанными ребятишками из гирлянд березовых листьев. Поразительна, особенно при вечерней заре, красота широко и далеко расхлестнувшегося водного зеркала. «Сингуль» по-татарски – «глубокое». У этого озера двойное дно: сверху светлая вода метров семь глубиною, потом во всю громаду ложа подстилка из торфа и водорослей, а под ней опять вода метров на пять и уже настоящее дно. В общем, хитрая ловушка для аквалангистов! Водится здесь во множестве небольшой, но очень вкусный золотистый карась.
На другой день наша литературная бригада выехала из Тюмени в Тобольск. Поезд шел медленно, как бы ощупывая новый путь, часто останавливался ни с того ни с сего среди дремучей тайги или болота, расцвеченного по залитым водою местам ярчайшими красками игравшего в небе заката. Мы радовались, как дети, этой необычной поездке: освоению впервые проложенной дороги, красной полосе зари в плоских берегах таежной речки, вдруг раздвигавшей черный лес, мохнатому кедрачу, взметнувшему в сизое небо свои издалека приметные густые макушки, белокорым и в сумраке березам.
Ночь стояла прозрачно-бледная, напоминая о близости Севера, и месяц светил, прячась за вершины деревьев. А к утру по дикой тайге поползли над болотами, над мокрыми лугами холодные белесые туманы, заклубились среди островерхих ельников. Зябко, неуютно стало и в вагонах. Сквозь запотевшие стекла окон уже по-иному, пугающе, глянул серый сумрак, рисуя в воображении бездонные топи, безлюдные дали, колдовские лешачьи урочища, грозящие гибелью одинокому человеку.
Но утро приветствовало нас на берегу Иртыша теплом и солнцем, разогнав невольно навеянную ночную жуть, а длинный ажурный мост – подарок Тобольску от тюменских строителей, приняв поезд в свои стальные объятия, напомнил о том, что дружный труд людей все может превозмочь.
Проехали Сузгун, где, по преданию, бросилась с обрыва в Иртыш одна из жен Кучума, красавица Сузги, когда казаки Ермака вступили на ханский двор. Щедро, смачно зеленеют тут могучие кедры, а ели, согретые солнцем, не так сердито щетинятся вдоль берегового ущелья. И уже выбегают навстречу с горы деревянные затейливые домики старинной постройки.
Тобольск, первый стольный град Сибири! Герб его – два соболя, стоящие на задних лапах, и стрела между ними – был и гербом сибирским, а воеводы правили землями вплоть до Якутска и пограничной черты по Амуру, включая берега Тихого океана. Вся пушнина, собираемая на гигантской территории, как ясак с покоренных племен, шла в Москву через Тобольск.
В октябре 1712 года сюда прибыл уже не воевода, а губернатор – князь Матвей Гагарин, которого называли сибирским Меншиковым. При нем на высоченной круче иртышского берега закончено строительство прекрасного белокаменного кремля.
Отсюда, с этой кручи, виден вверх по Иртышу тот Подчувашский мыс, где Ермак разбил войско Кучума, видны устье Тобола и все далекое низменное заречье, тонущее в голубой дымке. Иртыш идет внизу сплошной, широченный, как у Гоголя, – «не зашелохнет, не загремит». Могуче-полноводный, он еще намного превышает межень после недавнего бурного половодья, причинившего немало бед. Природа здесь – сила! И люди тоже. Много славных сынов породил Тобольск: поэта Ершова, автора сказки о Коньке-Горбунке, знаменитого химика Менделеева, художника Перова, композитора Алябьева.
Побывав в первом театре Сибири – деревянном, причудливой архитектуры здании девятнадцатого века, где так и представляется на каждом шагу Онегин и Татьяна Ларина, мы едем на городское кладбище. Оно называется Завальным – значит, находилось когда-то за крепостным валом. Ему двести лет, тут все дышит величавым покоем: колоссальные березы, кедры и тополя, не тесня друг друга, высоко вздымают отяжелевшие кроны над старыми могилами, заросшими пышными, нетронуто-чистыми травами, над крестами и памятниками. Солнце свободно гуляет по могучим стволам. Хорошо тут отдыхать после щедрой на горести жизни!
Среди буйной зелени возле ярко-белой церкви Семи отроков, под развесистым тополем две прямоугольные черные глыбы – могилы Вильгельма Кюхельбекера, умершего в 1846 году, и похороненного годом раньше декабриста князя Александра Барятинского, друга Павла Пестеля, повешенного царем в Петербурге.
Кюхля! Стоим, потрясенные внезапным взрывом чувств, мыслей, волнующих представлений: кипучая в своем росте Тюмень, разбуженный после застоя Тобольск, первый гудок поезда на Иртыше, наступление на Север могучей индустрии, а перед нами могила любимого товарища Пушкина…
Под этим тополем, приехав на поселение из Иркутска, уже совсем больной и слепой, стоял Кюхельбекер и плакал, слушая, как читали ему надпись на могиле Барятинского: «Друзья и товарищи изгнания проводили его тело до дверей вечности и вручили его душу вечной благости искупителя».
Вспоминаю ночную таежную жуть… Каким холодом обдавала она изгнанников русской столицы, ступавших впервые по сибирской земле после жестокой расправы твердолобого самодержца. Предчувствовали ли они, что их жизнь не пропадет даром, что их следы здесь никогда не сотрутся?!








