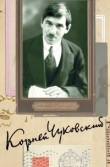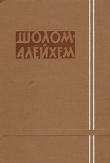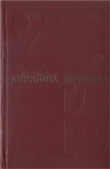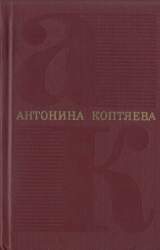
Текст книги "Собрание сочинений. Том 6. На Урале-реке : роман. По следам Ермака : очерк"
Автор книги: Антонина Коптяева
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 36 страниц)
Вот она обернулась, засмеялась, юбка фартуком подобрана, в руках нож, будто и родилась здесь, в казачьей станице, но вдруг задумалась, глаза стали строгими.
– О чем загрустила? – спросил Нестор, снова оказавшись рядом с нею.
– Ты смотри! – Она повела рукой.
Нестор осмотрелся: земля вокруг была завалена пустыми арбузными половинками, красными от спелого сока.
– Ну и что особенного?
– Похоже, побоище тут произошло.
– Полно выдумывать! Ничего похожего.
– А ты видел убитых?
– Знаю. Сказывали… Вот выдумщица, ей-богу! – Но ему тоже показалось: валяются арбузные корки, как расколотые черепа.
– Охота людям пачкаться, черный мед варить. У меня от него изжога, – громко сказала белобрысая богатейка Неонила Одноглазова.
Дома она еще, как говорили, «шибко играла в куклы» – устраивала с подружками кукольные свадьбы да крестины, а на людях жеманничала, точно старая дева. У отца ее была большая лавка в станице, магазин в Оренбурге, и хотя он считался станичным казаком, но с городом связь имел более тесную, ездил по ярмаркам и Неонилу нарядами, подарками совсем избаловал. Единственной долгожданной дочкой была она на придачу к девяти братьям, которые – орешек к орешку: все русые, белые, бравые – при царе служили. Неониле же (хоть десять юбок надень!) – не спрятать худобы, да еще рука «не права» – плохо сгибается после того, как сломала она ее, упав с качелей.
Вот какую невесту облюбовал Нестору отец. Увидев ее сейчас, он и сам подивился в душе, можно ли было пожелать сыну такую жену.
«Дурочка не дурочка, но фактически умом недовольна. И с виду, хоть рядись, хоть не рядись – журавель общипанный. А ведь законной женой стала бы, присухой до гроба».
Увидя Неонилу, изменилась в лице Дорофея, кивнула сестре и первая звенящим голосом вывела:
Когда я была младешенькой,
Девчоночкой была…
Алевтина подхватила, вторя:
Тогда мою ручку цыганка брала…
Вот жених твой богатый
Сделат большой мост.
Мост длинный, широкий, на тысячу верст.
Голос Дорофеи тосковал, звенел.
– Чего вы завели этаку нудну? – запротестовала Аглаида. – Сыграли бы веселу.
– И эта хороша! – с необычной суровостью бросила Дорофея и залилась еще звонче:
Поехали венчаться, взяли казаков,
Впереди пустили сотню, по пятьсот – с боков.
Алевтина, сбившись от неожиданного упрека, умолкла и почти испуганно смотрела, как Дорофея ожесточенно мешала в котле черпаком и пела, словно вызывала, накликала беду:
Упала невеста во быстру реку,
Упала, кричала: прощай, милый мой.
Еще повторяла: женись на другой.
– Откуда ты таку жалку песню выкопала, соседушка? – спросил Михаил Шеломинцев, разгружая с помощью мальчишек последний воз арбузов. – У нас в казармах и то задорней пели!
И сам затянул хрипловатым баритоном:
Бывал у тятьки я, кохался
На кофи, на сладком чаю,
Теперь, бедняга, я попался,
Что рад сухому сухарю.
Взрыв смеха был наградой певцу.
– Это вы на фронте спортили нашу песню «Прощай, страна моя родная»! – крикнула Алевтина. – Здорово ты покохался у тятьки свого! – намекнула она на недавнюю ссору.
Михаил тоже не забыл этого, но, будто вспомнив юность, а на самом деле желая рассеять впечатление от выходки Дорофеи, которая разыгрывает из себя покинутую невесту, повел свою запевку дальше:
Бывал у тятьки я, проснулся —
Лежит красотка на руке.
Теперь, бедняга, я проснулся —
Лежит винтовка в головах.
– Ох, чтоб тебя намочило, видно, у шармачей в Челебе перенял песню-то. Блатна песня-то, говорю! – Это дед Захар Караульников, возвращавшийся с «обрывов», где работники складывали снопы в скирды, заглянул на веселый шум к ямам и стоял, опираясь на клюшку. – Чего это вы, станишники, не ко времени меды заварили, игрища завели? В страду хлебушко надо убирать, а у вас, никак, свадьба на уме?
– Она, дедуня, – отозвался Михаил. – Приглашаем вас на пир честной. Отпируем, оженим своего казака и сразу за уборку, а пока и без нас идет.
– Чего так приспичило? Летний день год кормит.
– Казаку, дедуня, каждый час – божье соизволенье, теперь тем паче. Потому на месяц ему загадывать нельзя, не то что на год!
– Да оно, пожалуй, по нонешним-то временам… А чью берет? Одноглазову ли, чо ли?
Неонила вспыхнула, вздернула нос, тряхнула полями французской фасонистой шляпки:
– Очень-то нам нужно!
Нестор взял Фросю за руку, гордясь, подвел к старику:
– Вот моя невеста, дедуня.
Тот посмотрел, пожевал ввалившимся ртом, тронул задумчиво седые, прокуренные до желтизны усы:
– Стар, видно, стал: не помню, чья така. Но сразу видно: казачка природна. – Тут он увидел Алевтину, поманил к себе скрюченным пальцем, отвел в сторону и сказал озабоченно: – Тихон-то мой просил вас с Демидом уведомить, как вы есть опекуны Дорофеюшке. Сватов к ней собиратся засылать внук Семен по осени.
У Алевтины под тонкой кожей ало плеснулась кровь, даже веки порозовели. Год назад каким завидным женихом был бы для Дорофеи вдовец Семен Караульников. А сейчас – и то, да не то! Вон как старый черт Шеломинцев вильнул от дочки торговца: сегодня у нее капитал, завтра вместо денег будут бумажки, годные только сундуки обклеивать. Разве уступил бы старый казак сыну в прошлом году?
И она промолвила сдержанно:
– Спасибо Семену Тихонычу за честь. Только разговор с Дорофеей вести надо. Она сама себе голова.
Захар Караульников, опираясь на клюшку и осуждающе кивая в такт твердым еще шагам, пошел домой:
«Все перевернулось вверх тормашками! – ворчал он. – Девка сама себе голова. Это придумать надо! Бывало, сваты ходили… Другой раз дворов шесть обойдут: то родители не согласны по младости дочерней, то о приданом не договорятся, то у невесты изъян какой обнаружат. Девка – товар, ее и выбирали, словно как товар. А тут: сама себе голова. Не бывало такого и не будет!»
53
В солнечный день собралась у Шеломинцевых родня на запой. Страда еще в разгаре, и, сами себе дивясь (такого не бывало!), приехали казаки и казачки из соседних поселков, с Илецкой Защиты и из уральских станиц, что, как орлиные гнезда, стоят вдоль правобережного Сырта – водораздела меж Уралом и рекой Самарой. Прискакали с левобережья, из многолюдной Краснохолмской, брат Григория Прохоровича – Степан с сыновьями и молодыми казаками Кучугуровыми, друзьями Антошки Караульникова, явились и дружки Нестора по Оренбургскому казачьему училищу.
Шумно стало во дворе и в доме Шеломинцевых. Распахнулись двери амбара и клети, устилались полы и временные настилы под поветями сеном, брезентами да кошмами для отдыха дорогих гостей.
Нестор, ради особого торжества сменивший казачий мундир на щегольской черный костюм с твердой бело-крахмальной грудью рубашки, казался без вина пьян.
– Доволен судьбой? – с ласковой насмешкой и с завистью пытал Антошка, тоже приглашенный в шафера, хотя держать в церкви венцы над женихом и невестой поручили другим: не могли старики простить ему причуд, дышавших непокорством.
– Сказать, что доволен, – этого мало, – ответил Нестор. – Счастлив безмерно. Могли ведь год назад силком окрутить с Неонилой!
– Очень просто. А родные Фроси не согласны, значит, родниться с вами?
– Слушать даже не стали. Рабочие давно против нас зуб имеют, а тут кронштадтцы еще жару подкинули – наших казаков на грех навели.
Не стриженная по-казачьи, а вся кудрявая цыганская голова Антошки склонилась к самому уху Нестора:
– Вдруг и здесь, в Оренбурге, такая заваруха приключится, ты тоже пойдешь расстреливать рабочих?
– Н-не знаю. Раньше сказал бы: «Как начальство прикажет»… Теперь мне это совсем не по нутру.
– Из-за Фроси?
– Да! На ее братьев у меня рука не подымется, хотя старший, Харитон, от одного слова «казак» сатанеет. Может, минует нас это испытание. Ты сам-то что собираешься делать? Дома до победного отсиживаться?
– На полати залезу – припадочным прикинусь, а против своих не пойду.
– Кого же ты своими считаешь, если не станичников?
– Так станичники-то разные… Если взять наших батек, то это один коленкор (мои отношения с папаней тебе давно известны). А другие станичники – это ты, я, ваш Михаил, фронтовики наши. Вот сейчас я тебя познакомлю с моим Краснохолмским дружком – Горой Кучугуровым. У них семья – пятьдесят два человека.
– Что так много?
– Как водится в казачестве: дети, внуки все вместе. – Антошка нырнул в толпу гостей, вывел рослого верзилу казака. – Вот он, Горуня!
– Горуня, стало быть, человек-гора? – спросил Нестор, проникаясь симпатией к юному богатырю.
– Стало быть, Георгий, – спокойно уточнил Кучугуров неожиданно тонким голосом. – Нас двенадцать братьев, и все такие рослые, кроме одного, горбатого. Я младший – от второй жены.
– У вас ведь и сестры есть… – припомнились Нестору разговоры с Антошкой.
– Семь сестер – и тоже богатырши.
Нестор невольно улыбнулся.
– А отец?
– Папаня ростом не вышли, даже неказисты с виду. Зато они полный георгиевский кавалер, выдумщик и забияка. Потому и по кулачным боям сильны были – решительностью брали. Дома командуют до сей поры.
– Патриарх, одним словом, – весело перебил Антошка неторопливую речь Горуни, преисполненного почтения к своему родителю. – Ты скажи лучше насчет линии вашего папани в политике.
Горуня огляделся, но гости были заняты разговорами.
– Они за нейтралитет.
Нестор, с нетерпением ждавший выхода Фроси и оттого не очень внимательный, сразу заинтересовался:
– Как это понимать?
– Так что хватит, мол, навоевались. Ни в какие свары встревать не будем. С дворянами-золотопогонниками нам ладить трудно, с голью рабочей тоже не по пути. Пусть они меж собой договариваются как хотят, а мы своим казачьим самоуправлением обойдемся.
– Дельно, пожалуй… – Однако Нестор сразу же забыл и о Горуне и о нейтралитете: гости, притихнув, подались к двери, из которой вышла невеста, закутанная платком, поддерживаемая под локотки свахой и дружкой. Сутуло согнутая, припадая на одну ногу, она заковыляла к побледневшему от испуга Нестору.
Но тут Алевтина громко крикнула:
– Не наша!
И все закричали:
– Не наша!
Горбунья звонко рассмеялась, повернулась и, уже не хромая, не горбясь, побежала обратно.
– Харитина! – Нестор покачал головой, еще не опомнившись от внезапной растерянности. – Вот озорница! А я подумал: что-то с Фросей стряслось…
– Здорово ты врезался, милок! Все на веру теперь берешь! – смутно ревнуя друга, сказал Антошка. – Старинная ведь шутка!
– Мне сейчас не до шуток. Даже лихорадит!
Дверь в парадную горницу снова открылась. Робея, вошла в окружении нарядных девчат-провожаток Фрося с дарами на подносе: белыми пуховыми перчатками и шарфом для жениха.
Бирюзовая, узкая в талии кофточка с кремовой гипюровой вставкой на груди и юбка, тоже отделанная по волнистому подолу богатой полосой выпуклого кружевного узора, особенно выделяли смугловатую красоту чернобровой невесты, делали ее похожей на сказочную царевну. Была она без платка, «развязкой», и волосы, заплетенные в косу с бантом, хоть и оттягивали голову, но пышно, от гущины, лежали над чистым лбом. На шее вокруг стоячего воротника белели нежно на кружеве жемчужные борочки, поднесенные от щедрот будущего свекра посаженой матерью Алевтиной Ведякиной. А сережки и перстенек золотые – подарок жениха. Под плавно колеблющимся платьем чуть виднелись на ходу носочки белых туфель.
Все уставились теперь только на Фросю, – оценивая каждую черточку ее лица, каждое движение, каждую подробность наряда, – и оттого она застеснялась еще сильнее, вся вспыхнула до слез, до испарины над задрожавшими губами, полуоткрытыми словно от удушья, но стала от этого еще краше и притягательней для жадно устремленных на нее взглядов. Нестор не выдержал – шагнул навстречу, скорее взял дары из ее ослабевших рук. Зато и посмотрела она на него распахнувшимися глазами! Столько счастья, еще несмелого, в них светилось, так усилили их черное сияние близко стоявшие слезы, что даже шорох прошел по горнице от общего вздоха удовольствия, одобрения, зависти, когда Нестор обнял ее и поцеловал прямо в губы.
* * *
– Поднесешь дары-то да по рюмке вина ишо подай родителям да сватьям, – поучали, наставляли ее перед выходом, и теперь она, закруженная в толпе, гибким движением обернулась назад, на обе ладони приняла поднос с рюмками и стала обносить старших.
– Посмотри и на нас, красавица! – сказал разбитной, подходчивый дружка, желая еще раз показать товар лицом. – Ну, Нестор, какую кралю выхватил! Ручки с подносом, сердце с покором, голова с поклоном…
Народу на окнах налипло – на каждом будто пчелиный рой жужжит. Все, побросав работу в полях, сбежались поглядеть, как у Шеломинцевых начнут запивать невесту.
Жених взял ее под руку, и вместе с шаферами и провожатками они пошли в другую комнату, где собралась молодежь, а девчата исходили нетерпением возле гармонистов и столов, уставленных закусками, сластями, кувшинами с медовухой да брагой. Запой начался.
54
И в день свадьбы с утра песни, пляски, веселое похмелье.
Рука в руке. А вокруг цветной вьюгой бабьи платки, карусели юбок, девичьи банты, пестрые шали, перепляс, пересвист, дробное топанье каблуков. От говора гармоник, от хлопанья ладоней – звонкий плеск на всю округу. «Пусть пляшут, поют и гомонят, а мы только вдвоем, хотя ради нас и затеяна вся эта несусветная веселая суматоха».
На голове Фроси увал – восковые цветы, белоснежные на черных как смоль волосах. Коса прикрыта красой – пучком лент. Ярко рдеет маленькое ухо, чутко ловящее в обвальном шуме шепот любимых губ. Не поворачивая головы, чувствует она каждый взгляд, каждое движение Нестора.
Дружка в красном кафтане, полотенце через плечо, командует свадебным торжеством, с обрядной выступкой, с приговорами встречает и угощает почтенных гостей. Сколько тут всяких примет, обычаев, уловок! Но вот запевают прощальную «Злату трубоньку»:
Вечор мою косыньку мамынька плела,
Всю мою косыньку слезьми облила.
И у Фроси начинает пощипывать глаза, тугой комок подкатывает к горлу: вспомнились опять доброе лицо матери, ее ворчание, вечные хлопоты и то, как по копейкам собирала она на последнюю обновку для дочери – баретки, потерянные в тот страшный вечер.
«Ведь она теперь панихиды по мне заказывает!»
И такая жалость, такая горячая любовь затопила сердце Фроси, что она не выдержала и залилась плачем, будто отвечая, по обычаю, на свадебную песню обязательным для девушки рыданием. Глядя на нее, и Нестор расстроился, впору самому заплакать.
Приехали свахоньки немилостивы,
Стали с моей косыньки злото убирать,
Красу срывать…
Вывели Фросю с женихом на середину горницы, сняли с нее девичью красу, накинули длинную фату, прозрачную, шелковую, шпильками прикрепили к увалу, восковые цветочки на тонких плеточках спустили до плеч. Дружка мечется, точно огонь, в красной своей рубахе: девок за столом, что песню спели, одаривает, иконы помогает снимать – благословить молодых. Фрося уплакалась, еле на ногах стоит, и еще милее и прекраснее кажется она Нестору в слезах, в просвечивающем сквозь снежную дымку фаты атласном белом платье с отделкой из дорогих парижских кружев – специально нарочного гоняли в Оренбург за подвенечным нарядом.
Окруженные свахами, провожатыми, родными, жених с невестой выходят на крыльцо. Во дворе парни и девчата едят глазами нареченных; лошади, запряженные в брички и коляски, нетерпеливо роют землю копытами, позвякивают бубенцами. Народу на улице – пушкой не прошибешь: старые и малые, бородатые почтенные казаки в черных мундирах с голубыми лампасами и высоких сапогах, нарядные казачки…
Дружка, понаторевший в свадебных делах, кричит:
– Господа поезжане, все по местам, как соколы по гнездам!
И понеслись – пыль столбом – в недальний веселый путь к церкви, заполненной огнями и голубым дымком ладана. Площадь перед церковью поросла вдоль изгородей зеленой травкой-муравкой, а середина ее – место, где по звуку набата или по зову горниста вмиг собираются конные казаки, – покрыта толстым слоем взбитого праха, в котором любят купаться куры да малыши, дружно улепетывающие, когда раздастся топот всадника или зашумит казачья сотня, оглашая окрестность гиканьем, свистом, пронзительным ржанием просящего поводьев горячего конского табуна. Долго смотрят с крылечек казачки, держа на руках голозадых карапузов, как, клубясь, катится по знойной степи облако пыли. Заслыша грохот лавины, дед, замшелый воин, вышагнет через подворотню за калиточку и, морщась от солнца, оскалив темные пеньки зубов, тоже будет долго смотреть, затаенно вздыхая.
А на звонкий гомон свадебного поезда… да тут и мертвый поднимется! Ведь веселая свадьба – вызов всем горестям человеческим, торжество из торжеств, вопреки серости жизни и даже печали невесты и жениха. Потому так и веселятся на свадьбах – кто во что горазд. Все население станицы, кроме тех, кто гнул спину, страдуя на дальних хуторских полях, высыпало из дворов. Бегут, вспугивая кур, петухов, долговязых индюшат, сорванцы – мальчишки и девчонки, плетутся старушки и казаки, помнящие еще азиатские походы губернатора Перовского [6]6
Перовский В. А. – в 1833–1842 и 1851–1856 годах оренбургский военный губернатор.
[Закрыть]и жестокие порки его.
Поп в облачении ждет со всем причтом невесту и жениха. Певчие на клиросе кашляют – прочищают горло. Только нищих нет на паперти. Тут не город, не иногороднее село: хлеба и в голодную годину на старых и убогих хватает.
Точно магнитом стянуло станичников под церковные своды. Все таращат глаза на молодых, жадно любуются нарядами, светом лампад и сотен свечей, забывая креститься, ревниво следят за обрядной службой.
– Исайя, ликуй!
«Кто такой этот Исайя?» – думала Фрося, не представляя собственного великолепия под золотыми венцами, которые несли над нею и над Нестором шафера. Она стеснялась смотреть по сторонам и потому с трепетно-острым вниманием слушала певчих и возглашения церковного клира. Забыть все ради мужа? Она и так забыла. Бояться его? Не может она бояться, в самом деле всей душой «прилепясь» к нему. Истощив накопившиеся слезы, она тихо радовалась теперь и только радости ожидала от будущей жизни.
Снова зашумело веселье в доме жениха. Все, что связано по обряду с домом невесты, отпало, поэтому и родители у Фроси здесь не родные, а посаженые – Демид и Алевтина Ведякины.
Дружка со свахами выглядывает из кухни, на лоснящемся лице его вроде испуг:
– Гусь из печи не лезет.
Под общий смех тянут невестиной «матери» Алевтине веревочку. Она добывает из рукава приготовленный заранее узелок – платок с деньгами – и привязывает его к бечевке. После того пошел из печи на стол румяно зажаренный гусь, а за ним другой, третий, индейка, убранная зеленью, аппетитные поросята с подгорелыми ушами и хвостиками, бараний бок с гречневой кашей, свиные окорока, заливные судаки и осетры, доставленные из Уральска [7]7
Лов осетров и севрюги был монополией уральских казаков, промышлявших этой ловлей от Уральска до берегов Каспия.
[Закрыть]. Пошли по кругу бутылки с белой водкой, наливка, брага-кислушка, пьяный мед.
В доме пьют и едят, и во дворе столы накрыты, будто скатерти-самобранки раскинулись.
«Господи, сколько еды, и какой хорошей еды! – думает Фрося, пораженная таким изобилием, и снова тоска обжигает ее сердце. – Вот бы отнести отсюда гостинцев маманьке и Пашке с Митей. Поросеночка, хоть бы самого маленького. Бате с Харитоном и дедушке. Почему они нас так обидели? Приехали бы… Я бы спела песню, когда меня к венцу обряжали:
Ой, речка моя, реченька,
Течет реченька, не шелохнется.
А то проплакала и о песнях забыла».
Нестор прижался плечом:
– О своих заскучала?
Печальное раздумье на лице Фроси сгоняется грустной, но ясной улыбкой:
– Маманю жалко!
Подвыпившие сваха и дружка уже опять вьются около молодых. Женщины снимают с Фроси цветы и фату, девушки поют:
Дивись, дивись, дева,
Несут твое дело.
То дело не винуче,
Всем девкам неминуче.
Красивая, разрумяненная вином Алевтина берет поднесенный на тарелке волосник – сшитый из атласа женский чепчик, вышитый бисером, – и, закрутив волосы новобрачной в огромную шишку «кулек», туго покрывает ее голову.
Вывели Фросю и Нестора из красного угла, поставили на кошму. С одной стороны позицию занял дружка с водкой и чаркой в руках, с другой – сваха с закуской. Началось подношение даров, или, как говорят на Илеке, стали класть, кидать на «сыр».
Дружка, горластый и, словно цыган, беззастенчивый (как только у него язык не заболит!), выкликал по очереди родных и знакомых, начиная с родителей.
– Григорий Прохорыч, вас вызывает молодой князь с княгиней – рюмку выпить, донышко позолотить: не рублем, не полтиной, а золотой гривной. Кидайте на «сыр»: от кобылы жеребеночка, от коровы теленочка, от свиньи поросеночка, все примем, чем ваша милость одарит.
Отец Шеломинцев подошел важно, выпил не спеша, утерся большим клетчатым платком.
– Жалую молодым четыре пары добрых быков, жеребца адайского – трехлетка гнедого с белыми бабками, двух кобылиц с жеребятами, – подумал, глядя, как бойко записывал на стене поднесенный «сыр» Николай Ведякин, и добавил: – Ишо гурт овец в сто голов.
Фрося и Нестор, подтолкнутые дружкой, опустились на кошму, поклонились родителю в ноги.
Домна Лукьяновна, похожая на городскую башню, во множестве навздеванных одна на другую юбок и в кофте, расширенной пыжами сборчатых рукавов, подплыла козырем, положила детушкам на «сыр» шесть дойных коров и два тулупа. Брат Михаил поднес пять свиней (одну с поросятами), Аглаида корову с телком да трех пуховых оренбургских коз. Даже скряга Семен Тихоныч Караульников расщедрился на двухлетнего жеребенка. И пошло, поехало! Молодые едва успевали кланяться всем в ноги. И Фрося, равнодушная к обрастанию хозяйством, но поначалу развлекавшаяся новым для нее обрядом одаривания, и Нестор, охотно покорявшийся свадебным причудам, раскраснелись, как в бане. А их еще обступили, сомкнув тесный круг, заглядывая им в лица. Кто обещал гусей и кур, кто индюшку с выводком. Вещи клали сразу на кошму: юбки байковые, суконные поддевки, сюртуки, ботинки. Дорофея бросила скатерть, расшитую цветными нитками, рывком взяла чарку, пригубила, посмотрела сверху, кривя рот, на широкие плечи и ровно подбритый затылок тонкого в поясе Нестора, на гибкую спину Фроси и высокий узел ее прически, выпиравший под волосником. А Харитина, вместо того, чтобы выпить водки, расцеловала обоих и подарила невестке кольцо с бирюзой в цвет платья, которое было на ней в день запоя, и сережки такие же. Кидали и сита, и нарядные туеса из бересты. Сваха приношения принимала весело. Денег тоже много набросали на тарелку, приговаривая:
– На шило и мыло, на пеленку и сосок.
Потом измученных молодых посадили опять в красный угол, немножко покормили, дали по чарке меду и оставили наконец в покое, занявшись едой, питьем да песнями. Девчата и парни плясали во дворе, а дружка со свахой все изощрялись, потешая людей.
– Что мы теперь будем делать со всем этим хозяйством, которое нам насулили? – спросила Нестора Фрося, по-девчоночьи засматривая в его лицо.
– А ты как думаешь?
– Ничего не думаю, это уж ты решай.
– Будем пока жить с родителями, как Мишаня с Аглаидой. Тебя все у нас полюбили, а время такое трудное, что надо сейчас держаться вместе.
– Верно! – сказала Фрося и вздохнула.
– Ты не тревожься зря, все равно мы потом помиримся с ними… с твоими.
– Опять ты угадал, об чем я подумала!
– Сердцем чувствую.
– А ты чувствуешь, что мне немножко страшно?
– Да, и мне тоже.
Она взглянула пытливо. Нестор понял, покраснел:
– Не потому. Боюсь: вдруг что-нибудь не так, и ты разлюбишь меня.
– Нет. Нет. Все будет хорошо, – не сумев на этот раз вникнуть в смысл его слов и потому смело обещала она. – Я никогда не разлюблю! Ты заметил, подвенечные свечи погасли разом, значит, нам вместе жить и вместе умереть.
Он промолчал, засмотревшись на нее, особенно миловидную в забавном чепчике, не закрывавшем ни лба, ни ушей, но так плотно сидевшем на волосах, что если бы не мерцание бисерного узора, то спереди она казалась бы стриженой.
Фрося перехватила взгляд мужа, потрогала непривычно гладкие виски, стесненно засмеялась:
– Как лысая, да?
– Горька-а! – спохватываясь, зычно заорал дружка.
Уже рассветало, порозовел восточный край неба, а в пойме проснулись птицы, когда пьяные гости, устав от веселья, повели молодых под шуточки и песни в клеть амбара, празднично убранную цветами и зеленью. Наконец-то они остались совсем одни.
Фрося стояла возле приготовленной свахой и матерями высокой постели, не в силах двинуться с места от нахлынувшей робости, не смея посмотреть на Нестора. Он подошел, тоже волнуясь, обеими руками осторожно снял смущавший ее чепчик. Освободясь из плена, скользя по белым переливам тяжелого атласного платья, тесно облегавшего девичий прелестный стан, радостно устремилась в его ладони буйная масса шелковистых волос. Он опустил их за теплые плечи Фроси, обнял ее.
– У меня отчего-то кружится голова, – сказала она, с пугливым обожанием глядя на него.
55
– Дома братья Кирилл и Мефодий?
Лиза Коростелева перестала крутить ручку швейной машинки, подобрала шитье и, поправив бант в косе, выскочила в прихожую. Со двора, минуя парадное, входили Левашов, Кобозев и еще двое приезжих. Одного, смуглого, легкого на ногу, Лиза узнала – Алибий Джангильдин из Тургая, второй, невысокого роста, с цепким взглядом широких серых глаз на горбоносом лице, был совсем незнаком.
Мать, Наталья Кондратьевна, крупная, русая женщина, вышла из кухоньки, засветилась приветливой улыбкой.
– Проходите! Георгий Алексеич дома, а Саня в комитет побежал, скоро должен вернуться. Сейчас самоварчик, арбуз тяжеленный в погребе, окрошка будет – как раз все поспеет.
Георгий вышел из своей комнатушки, загородив собой дверь, радостно смотрел, как гости в тесной прихожей снимали фуражки, а заодно и пиджаки. На улице нестерпимо палило солнце, и в доме, несмотря на раскрытые окна, стояла духота.
– Хотите шипучки холодной? – предложила Лиза.
У Георгия было больное сердце, а работал он медником по десять часов в горячем цехе. Поэтому Наталья Кондратьевна и Лиза всегда держали на льду воду, которую Георгий, приходя домой, пил с содой и лимонной кислотой.
«Кого это еще дядя Андриан привел к нам?» – гадала Лиза, пробегая мимо окон хозяйского нижнего этажа и по издавна въевшейся привычке сразу отмечая: дома ли хозяева, нет ли во дворе и возле ворот кого из посторонних?
Ей, длиннокосой девушке с легкими бровками и хорошеньким прямым носиком, грамотной и умеющей поговорить, гулять бы с кавалерами да танцевать до упаду на благотворительных вечерах, до которых так охочи оренбургские дамы, а она всегда в работе.
Может быть, оттого такая тяга к труду, желание сберечь копейку на черный день, что навсегда запомнилось, как после смерти отца, самарского извозчика, билась мать, чтобы поставить на ноги шестерых детей. Аресты и безработица любимых братьев тоже заставили девушку строго смотреть на жизнь. Дружно, но не очень радостно жила семья.
Громадный город Самара… Особняки и доходные дома богачей, как и в Оренбурге, украшали улицы центра, а по окраинам сплошь серела деревянная рухлядь. Набережная Волги, заваленная грудами мешков под выгоревшими брезентами, штабелями ящиков, бочками, была заполнена днем и ночью суматохой большого порта. Оглушающе гудели пароходы, кричали грузчики, грохотали извозные телеги, запряженные парами, а то и тройками ломовых лошадей. И по всему пыльному, замусоренному берегу глазом не окинуть – те же навалы грузов, почерневшие тесовые помещения складов, бесконечные поленницы дров. Везде оборванные донельзя босяки, ватажки гологрудых, часто пьяных портовых рабочих, мимо которых, отворачиваясь, мчались на рысаках нарядные дамы и господа с разодетыми, как куклы, детьми.
Набережная запомнилась Лизе потому, что отец изредка возил туда всю свою ораву прокатиться. Дети любили его. Прижимая носы к стеклам окон, малыши жадно следили за тем, как лихо осаживал он у ворот пару лошадей. Зимой в санках с меховой полостью, летом в коляске, сиденье которой качалось, будто люлька, над булыжной мостовой, отец приезжал пообедать, выпить чайку, приласкать ребятишек, льнувших к нему. Затем он снова, важный и красивый, с расчесанной бородой и собранными в протянутых руках струнами вожжей, уносился в город.
И вдруг его не стало: умер. А дети малы, и некому было вместо него ехать на биржу, промышлять извозом.
Тогда мать продала экипажи и сбрую; увели со двора – плачь не плачь – красавцев коней, а вместо них появились две коровы, постоянно что-то жевавшие. Чтобы прожить с пятью детьми (одна дочка тоже умерла), Коростелиха стала молочницей. Но, видно, мало платили за молоко обыватели, и подростка Георгия отдали в ученики к меднику. Горьким пьяницей был хозяин лудильной мастерской, запоем пила его жена, не отставали и мастера. С утра до темной ночи умного, работящего мальчика гоняли то за водкой и солеными огурцами, то за пивом. В грязи, во вшах, впроголодь жил он вместе с другими подмастерьями, получая на каждом шагу щелчки да подзатыльники.
Приходя домой по субботам, Георгий плакал, плакала и мать, а все-таки надо было ему возвращаться к меднику. До этого, когда Гора еще учился в начальной школе вместе с Александром, учитель вызывал Наталью Коростелеву и советовал учить мальчиков дальше, обещал выхлопотать бесплатное обучение.
– Что вы! – пугалась она. – А кто же будет их одевать, обувать? Ведь я только и жду, когда они подрастут и станут мне помощниками.
Вот и отмывала в субботу своего старшего, делала набеги на мастерскую, где по возможности наводила чистоту, выливала свиньям прокисший суп со всяким мусором, а то и с мочалкой, которую пьяница хозяйка упускала в кастрюлю.
У Саши оказался замечательный дискант, и он пел солистом в хоре Кафедрального собора. Регент любил мальчика, иногда давал ему двугривенный на извозчика в особо суровые морозы.
– Скорей домой, не простудись!
Саша завязывал вокруг шеи концы башлыка, потуже запахивал курточку и мчался домой бегом, чтобы вручить матери полученную «серебрушку»:
– Добавишь еще копейку – и нам на целый день семь фунтов хлеба.
Может быть, он простудился, когда вот так бежал домой после церковной службы, хватая морозный воздух: голос у него пропал, и он не смог больше петь.
– Только не отдавай его в ученики к мастеру, – упрашивал Наталью Кондратьевну Георгий, поступивший медником на литейный завод после того, как писарь за рубль прибавил ему год возраста. – Пусть хоть один из нас выучится.
Однако пришло время, и муж старшей сестры Анны – Василий, пьяница и хулиган, но отменный мастер литейного дела, определил Сашу учеником токаря на завод, где работал сам и куда устроил Георгия.
Так Александр и Георгий стали рабочими. А едва повзрослели, оба попали на заметку к жандармам, и началась долгая жуткая игра: выслеживания, обыски, аресты. То Георгий сидит в тюрьме, то Александра высылают. А там – черные списки, безработица, нужда, пока они не перебрались в Оренбург, в главные железнодорожные мастерские.